"В краю танцующих хариусов. Роска" - читать интересную книгу автора (Олефир Станислав Михайлович)
Тропинка на память
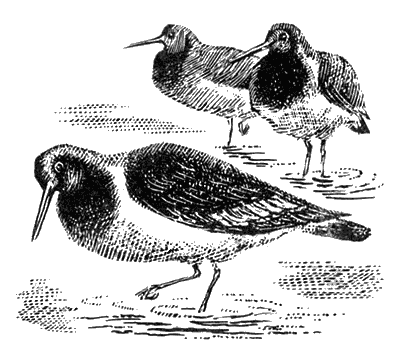 |
Однажды в детстве я услышал, что если спуститься в очень глубокий колодец, то и в самый солнечный день можно увидеть звезды. Меня это очень взволновало, и всякий раз, когда в нашей деревне копали или чистили колодец, я приставал к вымазанным в земле мужикам с просьбой опустить меня в колодец. Те отмахивались и советовали не путаться под ногами. Но однажды, когда я принес им полную пазуху груш-медовок из нашего сада, меня посадили на привязанное к веревке сидение от косилки и опустили на самое дно колодца.
Прежде всего меня поразило, что я ничуть не ощутил глубины. Казалось, стою в конце очень высокой поставленной на землю трубы и, если проткнуть ее перед собой, то окажешься на улице. Поэтому-то мне ничуть не было страшно.
Главное же, что я не увидел никаких звезд. Там, наверху, белел небольшой круг неба, на фоне которого угадывалась голова одного из спустивших меня в колодец мужиков, и больше ничего. Разочарованный, я ушел от колодца и потом нигде никому не говорил, как хотел увидеть днем звезды и что из этого вышло.
Вспомнил я об этом лет через двадцать, когда впервые попал на север. Была светлая полярная ночь. На небе не проглядывало ни единой звездочки. Машины шли с потушенными фарами, а на гребне нависшей над дорогой сопки можно было пересчитать все лиственницы. В ожидании автобуса я сидел у обочины и читал книжку. Помню, все время меня не оставляло восторженное чувство: «Надо же! Ночь, а я читаю книжку! Рассказать маме — не поверит».
Автобуса долго не было. К утру погода стала портиться, подул ветер и с севера наползли темные низкие тучи. Они в полчаса закрыли и небо, и лиственницы на вершине сопки, и саму сопку. Стало сумеречно и неуютно. И вдруг над головой открылся небольшой просвет, и на нем сразу же проглянули яркие звезды. Я легко узнал и Малую медведицу с Полярной звездой на хвосте, и туловище Дракона.
Наверное, все-таки были правы те, кто рассказывал мне о виденных со дна колодца звездах. Я же не разглядел их тогда лишь потому, что мой колодец оказался недостаточно глубоким.
На спуске к Мулканским озерам лежит большой белый камень. Рядом с ним растет похожий на ежика куст кедрового стланика. У этого куста всего лишь три коротких ершистых лапки, но хвоя такая же темно-зеленая и ароматная, как и на больших кустах.
Как-то я присел у камня передохнуть и, пока отдыхал, попытался разгадать историю этого кустика.
Года три или четыре тому назад возвращался от озера рыбак и, как и я, решил сделать здесь привал. То ли его слишком уж заедали комары, то ли просто рыбаку захотелось почаевничать — этого точно сказать не могу. Знаю, что рыбак остановился здесь надолго. Развел костер, достал из рюкзака котелок и принялся готовить чай. Об этом мне рассказали прибитое дождями кострище и оставшийся от заварки полуистлевший кусочек фольги.
Пока рыбак собирал дрова, кипятил воду, чаевничал, запах лежащей в рюкзаке рыбы пропитал весь мох под рюкзаком. Этот запах и привлек медведя, что шел через перевал, может, на второй, а может, и на третий день после того, как здесь побывал рыбак. Голодному зверю показалось, что подо мхом спрятана рыба, и в ее поисках он выкопал приличную яму. Ничего, конечно, он не нашел, обиженно рявкнул и, растревоженный рыбным ароматом, заторопился к недалекому озеру.
Осенью неугомонная кедровка спрятала в медвежью покопку целую горсть орешков кедрового стланика. Но попользоваться ими не смогла. Виноваты бараны. По самому гребню проходит их тропа, и они часто заворачивают к камню почесаться. Даже сейчас на острых гранях темнеют вычесанные из теплых шуб шерстинки. Следы снежных баранов остались и на медвежьей покопке. Сами того не желая, бараны притоптали орешки, и когда кедровка прилетела за ними, не смогла отыскать ни одного.
Часть орешков съел горностай, часть сгрызли рыжие полевки, но один все же сохранился и пустил росток. Короткий, ершистый, так похожий на зеленого ежика. А через год выросли еще две лапки, и иголок стало куда больше.
Вот и вся история маленького куста кедрового стланика, что зеленеет на спуске к Мулканским озерам.
У подножья сопки этого стланика целые заросли. Кусты большие, разлапистые, и у каждого своя история. Только узнать их нам уже не суждено.
В начале июля, когда жимолость готовилась одарить людей первыми ягодами, вдруг захолодало и пошел снег. Крупные липкие хлопья, словно притомившись, торопливо падали на открывшуюся теплому лету землю, и, казалось, не будет им конца. Непривычно и как-то боязно было смотреть на выглядывающие из-под снега золотистые рододендроны, согнувшиеся под его тяжестью зеленые тополиные ветки, стайку острокрылых ласточек, промелькнувшую в белой кисее.
Только Голубое озеро не приняло зимы. Чуть коснувшись его, снежинки мгновенно превращались в дождевые капли и бесследно исчезали в водной глади. И не от этого ли к концу дня как раз над озером солнце пробило пелену туч и затопило все своими лучами?
Озеро вспыхнуло мириадами зайчиков, а зависший на траве и деревьях снег приобрел розовую окраску.
Близился вечер, солнце было на излете и грело всего лишь чуть-чуть. Но и этого тепла оказалось достаточно, чтобы под лиственницами зазвенела капель. Освобождаясь от снега, ветки хлопали друг о дружку, наполняя тайгу легким шорохом. Сорвавшись с вершин, маленькие комочки падали вниз и сбивали новые, более крупные комки. Казалось, с деревьев осыпаются тяжелые перезревшие плоды.
С распадка дохнул теплый ветер, и сразу же ему отозвался первый ручеек. Словно опомнившись, тучи торопливо уплывали за сопки, открывая высокое голубое небо.
И вдруг на стоящей у самого озера лиственнице запел самчик пеночки-веснички. Время его песен давно прошло, в затаенном среди веток ольховника гнезде его подружка выгревала желтопузых птенцов. В эти дни все птицы ведут себя тише воды ниже травы, а этот запел.
С его песней в воздухе вдруг запахло весной. Откуда он взялся, этот запах? Ведь минуту тому назад его не было, хотя вот так же звенел ручеек, веял теплый ветер и с веток срывались крупные капли.
Я замер, стараясь запомнить его и угадать, откуда он идет. Сейчас я наконец узнаю, что же пахнет весной. И вдруг все стало понятно. Запах источал тающий снег. Удивительно нежный и пряный, он щекотал ноздри, заставляя биться сердце и навевая добрые мысли. Правда, он не мог жить сам по себе. Для полного его звучания нужны были звон капели, лепетание первого ручейка, дыхание теплого ветра и вот эта песня пеночки-веснички.
На самом берегу реки Ингоды рядом с кучей мертвых деревьев зеленеет выброшенная половодьем ива. Ствол ее пригнут книзу, вершина обломлена, местами от коры остались одни лохмотья. Бедному дереву давно бы погибнуть, да случилось так, что один-единственный корешок сумел зацепиться за землю и, работая за десятерых, поит его. По всему видно, ива чувствует себя не так уж плохо. Она не только выпустила листья, а даже гонит новые побеги и те радостно шумят на ветру, совсем не задумываясь, кому они обязаны своим рождением.
К счастью, ива попала на самый наволок — то место, куда Ингода вот уже сколько лет выносит песок, и скоро все корни тоже спрячутся под ним. Тогда они дружно примутся за работу, и даже в таком неудобном положении ива сможет дожить до глубокой старости.
И все это время, ничем не выделяясь и ничего не требуя за то, что в трудную минуту сумел спасти попавшее в беду дерево, вместе с другими корнями будет трудиться и наш корешок.
Да ему ничего и не нужно. Лишь бы шумели над ним листья, лишь бы тянулись к небу новые ростки, лишь бы чувствовать свою причастность к их счастливому лепету.
И не от того ли, что никто и ничто в природе не ждет за свой труд ни благодарности, ни награды, она существует в такой красоте и гармонии?
К концу лета вода в Горелых озерах становится до того прозрачной — диву даешься. Порыбачишь пару дней — и все дно изучишь, со всеми рыбами перезнакомишься.
Недалеко от скалы в водорослях любит прятаться молодь хариуса. Водорослей много — целый сад. Они заполнили толщу воды снизу доверху. Рыбки находят в них тысячи лазеек, а вот поднимающиеся со дна пузырьки газа запутываются. Со временем пузырьков набирается столько, что весь подводный сад всплывает и газ с клокотанием вырывается на свободу.
Чуть дальше на дне желтеет газета. Глубина метра четыре, а я сумел прочитать написанное крупными буквами: «Петух в телятнике» и даже рассмотреть картинку. Правда, большего прочитать не смог. Любопытно было бы узнать, что делал петух в таком неподходящем для него месте?
Метров через пять глубокий провал. В нем бьют родники, и хариусы почему-то обходят их стороной. Кажется, ухоронка лучше не придумаешь, но за все это время я не видел там ни одной рыбки.
А вот чуть в стороне настоящая рыбья дорога. По утрам хариусы спешат по ней на жировку к дальней отмели, вечером возвращаются. Но крупная рыба появляется здесь редко. То ли ее пугает близкий берег, то ли она не желает плавать в одной компании с хариусами-недомерками.
Если плыть, придерживаясь правого берега, то у похожей на сторожевую башню скалы плот окажется под затопленной ивой. В ее ветках любят отдыхать хариусы-«медвежатники». Толстые, угрюмые, неторопливые. Меня они совершенно не боятся, но и на спущенную прямо в их стан мушку не обращают никакого внимания. Разве какой-нибудь чуть отодвинется, когда утяжеленная свинцовым грузом мушка стукнет его по заспанной морде.
Я промаялся над «медвежатниками» целый день и наконец подобрал к ним ключик. Оказывается, время от времени один из этих хариусов покидает убежище и выходит на промысел. Сделав неторопливый круг над ивой, «медвежатник» на минуту замирает, соображая, что же ему делать дальше, затем всплывает к самой поверхности и принимается за охоту. Он крадется по озеру, не оставляя без внимания даже самой маленькой мошки. Кроме насекомых по озеру плавают парашютики одуванчиков, пушинки иван-чая, хвоинки лиственниц. Все заметит, все обследует своим носом, везде оставит след-бурунчик. Случается, присевший на воду комар пытается спастись и взлетает. Тогда хариус выпрыгивает из воды, раздается всплеск, и насекомое исчезает в прожорливой пасти…
До десяти утра я рыбачу на отмели, затем перегоняю плот к охотничьей тропе хариусов-«медвежатников». Сижу, прихлебываю чай из закопченной консервной банки и поглядываю на озеро. Вскоре у плота появляется пара хариусов-мизинчиков. Первый чуть покрупнее, второй совсем малыш. У малыша на верхнем плавнике черное пятнышко. Я подбираю на плоту слепня и бросаю в воду. Мизинчики делают вид, что испугались, и шарахаются под бревна, но потом дружно нападают на кровососа. От азарта они часто выпрыгивают из воды и раздается всплеск, словно на озеро упало несколько дождинок.
Наконец у скалы-башни вскипел бурунчик, за ним другой, третий. «Медвежатники»! Стараюсь угадать момент, когда разыгравшаяся рыбина окажется на расстоянии броска, и отправляю мушку ей навстречу.
Полчаса назад этот хариус отворачивался от слепня и даже от густо нанизанных на тончайший крючок комаров, сейчас же с восторгом устремился к изготовленной из медвежьей шерсти обманке. Накололся раз, другой, но все равно не успокоился, пока не оказался у меня в сумке.
Я уже выудил двух «медвежатников», когда над плотом закружила бабочка. Может, ее привлек запах банки со сладким чаем, заинтересовала плавающая рядом с плотом яркая конфетная обертка или она просто устала и решила отдохнуть. Сначала она присела на сумку с рыбой. Но только что пойманный хариус шевельнулся, бабочка взлетела и принялась искать место по-надежней. Носок сапога, банка с чаем, камень-якорь, лиственничный сук. Везде посидела, покачалась. Нет, все не то. Теперь ее внимание привлекло бамбуковое удилище. Она обследовала его сверху донизу и опустилась мне на руку. Как раз на большой палец. Чуть повозилась, сложила крылья и притихла.
Увлекся бабочкой и прозевал хариуса. Он успел обследовать все пушинки плеса и, отсалютовав хвостом, направился к скале. Хотя это был самый настоящий «медвежатник», я даже не расстроился: «Плыви на здоровье да скажи спасибо бабочке. Если бы не она, не миновать тебе моей сумки».
Только я так подумал, бабочка взлетела и понеслась у самой воды. Вот она минула островок всплывших водорослей, пересекла подводное ущелье и заиграла над спасенным ею хариусом. Раздался всплеск. Сбитая рыбиной бабочка отчаянно затрепыхалась на воде. Хватаю шест, чтобы помочь ей. Но плеснуло еще раз, и в том месте остались только полукружья разбегающихся волн.
Возле Горелого озера живет больше тысячи моих знакомых. Хвастливый куропач с черной уздечкой у клюва, отставшая от перелетной стаи краснозобая гагара, похожая на ястреба-перепелятника кукушка и дружная компания комаров-звонцов.
Есть там и другие птицы и насекомые, но знакомые мне или нет — угадать трудно. Скажем, трясогузки. Вчера их было три, сегодня — две. Те самые или новенькие — даже не представляю. Все бегают, все постукивают хвостиками.
Я, наверное, смог бы познакомиться и с подружкой куропача — небольшой серой куропаткой, что поселилась в зарослях карликовой березки, да слишком уж она недоверчива. Выглянет на какое-то мгновенье и сразу же исчезает, словно и нет ее. Сначала куропатка сидела на яйцах, теперь возится с цыплятами.
Почти возле каждого растущего у озера стебелька можно встретить комара-пискуна. В отличие от комаров-звонцов пискуны пребольно кусаются, и после встречи с ними на лице, шее и руках остаются хорошо заметные следы. Услышав меня, пискуны торопливо выбираются из травы и с радостным подвыванием кружат над головой, норовя пристроиться то на ухо, то где-то у глаза. За дружбу с ними нужно платить кровью, поэтому все их попытки сблизиться со мною я преследую увесистым шлепком, после которого от претендента на знакомство остается мокрое место.
Самые интересные среди моих знакомых — безобидные и дружные комары-звонцы. Вернее, не комары, а комарихи. К тому же не просто комарихи, а невесты вместе со сватьями и дружками.
Живут они у старого кострища, что темнеет на берегу озера. Когда холодно, звонцы отсиживаются в траве, но стоит чуть распогодиться, собираются над давно остывшими головешками и заводят веселый хоровод.
Я не понимаю по-комариному ни одного слова, но о чем они поют — знаю. Это свадебная песня, с помощью которой они скликают разлетевшихся по распадку комаров-женихов. Если ее петь в одиночку, то дальше обгорелого куста не услышит никто. А вот так, хором, — звенит на всю тайгу.
«Поют» звонцы крыльями. Чем чаще комарики машут ими, тем песня звонче. Молодые комарики-дружки выводят свою партию слишком высоко, старые свахи — глухо, комарики-невесты — в самый раз. Явившиеся к кострищу комары-женихи ни на дружек, ни на свах не обращают внимания. Но те и не в обиде. Попели, потанцевали, и то ладно.
Налюбовавшись звонцами, я прихватил удочку и заторопился к плоту рыбачить. Гляжу, а комариная тучка оставила кострище и летит следом за мною. Сообразили, что над моей головой им будет теплее, и решили попутешествовать. Я к берегу — и они к берегу, я на плот — и они туда же. Плыву по озерку, а комары пляшут сверху. То собьются в плотную шапку, то вытянутся в струйку, а то вдруг подпрыгнут так высоко, что не достать и удилищем.
Сначала я даже обрадовался. В компании-то рыбачить веселее. Но вдруг солнце спряталось за тучи, потянуло холодным ветром, звонцы прильнули к плоту и кинулись искать спасения на моем лице, в волосах, за воротником. Часть звонцов уселась прямо на мокрые бревна, и даже самая маленькая волна грозила смыть их в озеро. Гляжу, а рядом с плотом заплескались небольшие, но очень проворные хариусы. Учуяли поживу и уже тут как тут.
Недолго думая, я подогнал плот к берегу и, стараясь не растерять остатки комариной тучки, возвратился к кострищу. Там лег у самых углей, подождал, пока звонцы переберутся на старое место, и на четвереньках возвратился к озеру.
Гагара, что как раз вынырнула неподалеку, очень удивилась, увидев меня в столь необычной позе. Она захлопала крыльями и восторженно закричала:
— Уа-ак! Уа-ак!
То ли она хвалила меня за то, что возвратил домой заблудившихся танцоров, то ли ругала, что лишил любимых ею хариусов вкусной поживы? Из ее крика я совершенно ничего не разобрал. Я ведь и по-гагарьему не понимаю ни одного слова.
От Земли до Солнца 150 миллионов километров, но каждая травинка, лишь только проклюнется, сразу же начинает тянуться к нему. Ее гнет ветер, бьют дожди, случается, наступит ногой зверь или человек, а она все равно тянется и тянется. Глядишь, уже и поднялась на целый метр, а то и выше.
Но никогда ни одному стебельку не дотянуться до солнца. Слишком уж мал прирост, и слишком высоко солнце. И падают по осени обожженные холодом травы, отдав все силы своему устремлению, чтобы с новой весной опять ринуться ввысь.
И все без толку.
Но посмотри, как красивы цветы! Яркие, нарядные. Каждый цветок — что небольшое солнышко. Люди давно заметили это и дали многим из них самые что ни на есть солнечные имена: солнцецвет, жарок, подсолнух, горицвет.
И все от того, что, если кого любишь по-настоящему, к кому тянешься, на того и похожим стать хочется. А если очень хотеть, очень стараться, то обязательно получится.
У нас на севере в теплую летнюю пору наступает такое время, когда ночи почти не бывает, а солнце заходит там же, где и всходит. Кажется, можно запросто перепутать утро с вечером. Ну и что здесь такого? Порыбачил, прилег у костра отдохнуть, затем проснулся — солнце как раз над Столовой сопкой. Взошло оно или садится — непонятно. Хочешь не хочешь — запутаешься.
Я же не ошибся ни разу. Дело в том, что утром птицы поют не так, как вечером, по-разному пахнет трава, журчат ручьи, даже комары и те кусаются неодинаково. Не видя никаких явных различий, я четко улавливаю их своим подсознанием и уверенно говорю: «Смотри, какое теплое утро!» или: «Вот и вечер наступил!».
Если же усну в комнате, куда не доносится ни пение птиц, ни шум ручья, ни звон комаров, то запросто перепутаю все на свете.
Со мною это уже бывало. И не раз.
Недалеко от моей избушки в толстой разлапистой лиственнице поселилось семейство дятла желны. Из окна хорошо видно, как дятлы по очереди ныряют в дупло, как, покормив малышей, вылетают оттуда и каждый раз бросают под деревом капсулу помета. Дятлы очень похожи друг на дружку, только у самчика шапка поярче, и еще — она не так криклива, как он. Правда, когда появились малыши, он кричать почти перестал и даже там, где нужно бы подать голос, предпочитал обходиться клювом. Дятлы никогда не забираются в дупло вдвоем. Может, там и без того тесно, а может, у них вообще так принято — не знаю. Однажды она задержалась возле птенцов, а дятел успел слетать за кормом и возвратиться к лиственнице. Как-то там выяснив, что квартира занята, он приклеился к стволу чуть пониже дупла и несколько раз стукнул клювом. Словно спросил, можно ли войти? Тотчас из дупла выпорхнула самочка, а он нырнул кормить малышей…
А вчера наступило время вылета птенцов. Деревья со стороны дупла давно спилены, и для того, чтобы перебраться на ближнюю лиственницу, малышам нужно было пересечь всю вырубку.
Взрослые дятлы кружили у дупла и криком подбадривали самого смелого птенца, что выглядывал из дупла и никак не мог собраться с духом. Еще вчера чувство страха перед простирающимся за дуплом миром довлело над желанием попробовать крылья и птенец даже не помышлял о полете. Но сегодня желание попробовать крылья и отправиться в этот самый мир почти сравнялось со страхом. Вот они и качались, как чашечки весов, туда-сюда, туда-сюда. Лететь — не лететь, лететь — не лететь.
Наконец наступил миг, когда чувство страха уступило желанию лететь. Птенец отважно бросился вниз, оперся крыльями о воздух и полетел, полетел, полетел…
Когда-то вдоль дороги росли толстые лиственницы, их спилили, и на месте деревьев долго маячили черные пни. Со временем сердцевина у них выгнила, бурундуки, полевки и лесные мыши натаскали туда семян шиповника, и в одну из вёсен прямо из пней поднялись толстенькие бледно-зеленые ростки. Сверху донизу они, словно только что родившиеся ежата, были покрыты короткими мягкими иголками. Года три на эти ростки почти никто не обращал внимания, только пауки развешивали на них свои легкие паутины да иногда в поисках поживы по стебельку пробегал головастый лесной муравей.
Но прошлым летом кустики вдруг зацвели и словно вдохнули в давно мертвые пни новую жизнь. Над крупными яркими цветами загудели шмели и мошки, нежный аромат цветущих роз поплыл над вырубкой, и даже поднявшиеся по вырубке молодые лиственнички казались стройнее и выше.
Все, кто проходил мимо, останавливались и долго с благоговейным восторгом смотрели на таежное чудо. Теперь заброшенная лесовозная дорога казалась им аллеей парка, а черные полусгнившие пни — дорогими вазами.
В темном лиственничном лесу береза заметна издали. Кора белая, листья светлые — попробуй спрятаться! А она прячется, еще и как прячется. Есть на Старом плесе целая березовая роща, а всего два или три человека в ней и побывало. Я сам открыл ее неожиданно. Говорили, где-то у Старого плеса стоит охотничья избушка. Ее, мол, еще Кадацкий построил. Жил в этих краях знаменитый рыбак и охотник. Вот я и хотел найти его избушку.
На попутной машине добрался до плеса и начал искать. Полдня затратил, перемерял все болотины, пересчитал все кочки, но так и не нашел зимовья. Зато наскочил на эту рощу. Оно даже не роща, а так: темнеет небольшая бочажина, с одной стороны в нее втекает ручеек, с другой вытекает, и вокруг бочажины штук двадцать берез. Стоят себе кружком, глядят в воду, словно любуются. Да интересно так стоят. Большая береза, маленькая, снова большая и снова маленькая. Хоровод да и только.
Лишь в одном месте пусто. Как раз там должна бы стоять маленькая березка. То ли сама не выросла, то ли срубил кто? Я даже пень поискал, но ничего не нашел и представилось мне, что это березы-красавицы водили вокруг бочажины хоровод, а одна взяла и убежала тайгу посмотреть. Теперь заблудилась, ходит одна среди хмурых лиственниц, аукает сестриц-подружек.
Полюбовался я стоящими вокруг бочажины березами и говорю им:
— Что же это вы, красавицы, прячетесь от людей? Шли бы к дороге или куда на видное место. Пусть все на вас смотрят, все радуются.
Молчат березы, только круглыми зубчатыми листьями шелестят тихонько.
Я напился из ручейка воды, еще немного отдохнул у берез и ушел к дороге. И вот там, у самой обочины, я увидел ту березу-беглянку. Вернее, не всю березу, а оставшийся от нее метровый пень. Вершину у березы кто-то срубил на топорище. Ехал на машине, остановился и срубил. Хозяин! Знает, что березовое топорище самое отменное, вот и срубил.
А может, он казнил эту березку за то, что к людям вышла?
На самом спуске к Горелым озерам как раз среди тропы пробивается родничок. Серьезный, страх! Обычно голос у родничков звонкий, веселый, этот же ворчит, словно старый дед: «Бум-бурум, бум-бурум».
Здесь же, на тропе, разлилось озерко в суповую тарелку величиной. Вода в нем прозрачная, дно усыпано желтыми песчинками. Из-за этих-то песчинок озерко далеко видно, будто солнце играет на тропе.
Как-то в сторону озер прошел медвежонок. Где ступил ногой — там след. На болоте небольшие залитые водой ямки, на косогоре — пальцы пересчитать можно, а в озерке заметны даже коготки. Я, как увидел этот след, насторожился. Обычно такой малыш не гуляет в одиночку, встретиться же с мамашей — радости мало. Кто знает, что у нее в голове? Но ничего, обошлось.
Дня через два, как только прошумел теплый июньский дождь, я прихватил удочки и снова отправился к озерам. Вода давно размыла все следы, словно никакого медвежонка здесь и не было.
Подхожу к серьезному родничку, гляжу, а в озерке отпечатана медвежья лапка. Четкая-четкая, будто медвежонок прошел здесь какой-то час тому назад. Хорошо просматривается круглая пятка, чуть дальше развернулись веером небольшие пальчики, у каждого пальчика оставил свою бороздку коготок.
Вот она какая, вода! В одном месте все следы уничтожила, в другом сберегла, словно на память. Мне даже представилось, как дождевые капельки солдатиками выплясывали над этим следом, а достать не смогли.
Постоял я у озерка, полюбовался отпечатком медвежьей лапы, а потом вдруг взял да и поставил рядом свой сапог. Пусть, мол, вода посторожит и мой след.
Кедровка, что наблюдала с ближней лиственницы, аж подпрыгнула от возмущения. Смотрю на нее, слушаю, а что кричит, не пойму. Может: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!», а может, ей обидно, что не сообразила раньше меня оставить свой след рядом с медвежьим.
Чаще всего роса выпадает в ту пору, когда под деревьями стоят густые тени и только уханье совы да крик зайца будят уснувшую тишину. Свершается все быстро и совсем незаметно. Только что ходил проверять поставленные на налимов жерлицы и трава была совершенно сухой, а через каких-то полчаса вымочил брюки выше колен.
Конечно же, ночью от росы никакой радости. Скорее наоборот. Сыро, зябко, неуютно. Росинки же терпеливо висят на траве и ждут своего звездного часа — ждут солнца. Лишь оно взойдет, каждая вспыхнет, что настоящая звездочка, рассыпет вокруг мириады колючих лучиков, отразив в себе и деревья, и реку, и даже высокое небо.
Только с солнцем к росинкам приходит настоящая жизнь. Но оно же скоро и убьет их. Посветило час-другой, и уже качаются да качаются на ветру совершенно сухие травинки, словно никакой росы и не было.
Ан нет. Вот под корягой, что выставила из осоки свои рога-корни, притаилась целая семейка выпавших ночью капелек. Не захотели рисковать собой, не стали выставляться на солнце и сохранились. Пусть в тени, пусть в неуютности, да и отражают в себе не деревья, реку и небо, а одни гнилые сучья, но все равно до обеда продержались. Хитрые росинки, расчетливые.
Наверное, найдется человек, которому эти росинки по душе. Мне же больше нравятся те, сгоревшие на восходе солнца. А эти что? Только плесень развели.
Вторую неделю льет дождь и так всем надоел, что даже гагара вылезла на берег и спряталась под корягу. Поникли ветки кедрового стланика, волнами легла вдоль тропы пышная осока, раскисший мох чавкает под ногами, словно квашня.
Поднявшийся же у медвежьей покопки куст иван-чая горит так ярко, словно на дворе самое вёдро. Он, конечно, тоже устал от дождя, но не унывает и упорно тянется розовым султаном к спрятавшемуся за тучами солнцу.
Чуть в стороне раскрылся самый красивый цветок севера — рододендрон золотистый. Его тонкие, очень широкие лепестки до того нежны, что их может смять даже дождевая капля. Но как ты их спрячешь, если в любую минуту может выглянуть такое долгожданное солнце? Вот он и развернулся под проливным дождем во всей красе.
Иду по тайге и всюду замечаю устремившиеся навстречу солнцу цветы. Белоснежный тысячелистник, голубая герань, скромная камнеломка. Снова иван-чай, и снова рододендрон золотистый. И все к солнцу, к солнцу, к солнцу.
Чу! У самой тропы гриб мухомор. Шапка у него совсем осклизла, сам еле держится на тонкой ноге, но вид довольно бравый. Тоже тянется вверх и тоже к солнцу.
Стланик — самый близкий родственник высокой и стройной кедровой сосны. Когда-то ее росло в наших краях очень много. Но похолодало, и она вымерзла. А стланик устоял. Правда, в борьбе со стихией он потерял могучий ствол и стал уже не деревом, а кустарником. От былой красоты у него осталась одна хвоя. Роскошная, ярко-зеленая, душистая. Поэтому-то кедровый стланик бережет свой наряд, как ни одно растение в мире. Зимой прячет под снег, весной поднимает к солнцу.
Лет пять назад за Буюндой загорелась тайга. Стланик там рос буйный. Более пышных кустов я, пожалуй, нигде и не встречал. Пожар печенегом прошелся вдоль сопок, оставив за собою черное пепелище. Пока народ подняли, пока добрались — поздно. На обгорелом ягеле торчат голые, покрученные огнем ветки да дымится несколько валежин.
Долго-долго стояли люди, в бессильном отчаянии глядя на пожарище. Потом Паничев — лесничий наш — отвернулся, махнул рукой и говорит:
— Поехали, что ли? Не могу смотреть, как они к небу руки тянут. Словно проклинают кого или пощады просят.
Он так и сказал «руки», а не ветки или стволы. И никто его не поправил. Слишком уж яркой и жуткой была ассоциация…
Стланик выгорел начисто. Не осталось и хвоинки. Но где-то там, внутри покрученных и обожженных веток, остались нетронутые огнем живые струны. Осенью они пригибали голые ветки к земле, а весной поднимали к солнцу и держали так, чтобы каждая хвоинка искупалась в ярких лучах, вдохнула свежего ветра, умылась живительным дождем…
В детстве я жил в украинской деревне, и был у моего отца друг. Он еще в войну с белофиннами потерял ногу. И с тех пор, когда ложится спать, то место, где была нога, накрывает двумя одеялами. Мерзнут у него пальцы на правой ноге и все. Стынут так, что криком кричи. Пока не укутает, не уснет. А нога-то по самое бедро отрезана…
В самом верховье Алыкчана, там, где долину пересекает оленья тропа, растет толстая лиственница с похожей на панцирь черепахи корой. Между ее корней пробивается едва заметный ручеек. Вода в нем до того светлая, что можно пересчитать на дне все песчинки, а гоняющий напередогонки с водомерками жук-плавунец кажется ртутным шариком.
Какое-то время ручей струится вдоль оленьей тропы, затем поворачивает к заросшей пушицей и диким луком каменной гряде. Эта гряда тянется до самого перевала и издали похожа на стадо улегшихся на отдых баранов. И исчезнуть бы ручью среди серых гранитных глыб, как уже исчезли там десятки других ручьев, да, к счастью, на его пути встречается роща невысоких, но очень ветвистых ив. Тесно стоящие деревья прижали ручей к самой сопке и отвернули в сторону от гряды.
Дальше ручей бежит в окружении деревьев и ни на минуту не расстается с ними. Ивы купают в нем свои ветки, тополя укрепляют сыпкие берега, лиственницы защищают от срывающихся с сопок лавин и оползней. В весеннюю пору деревья собирают ручью всех птиц и зверей, летом прикрывают от жаркого солнца, осенью украшают желтой хвоей и багряным листом, зимой хоронят от злых метелей.
Ручей в свою очередь ласкается к деревьям, щедро поит водой, а когда те, сбросив зеленый наряд, погружаются в зимний сон, украшает в кружева из серебристого инея.
Так и бежит ручей в обнимку с деревьями не один десяток километров, и, кажется, вернее дружбы не сыскать.
Но кончается каменная гряда, ручей принимает в свое русло Целый каскад других ручьев и ему вдруг становится тесно в окружении деревьев. Все стремительней несется он по долине, с шумом плещет в берега, безжалостно подмывает корни растущих у воды ив и тополей.
Вконец разъярившись, ручей принимается обрушивать берег, роняет в воду и уносит прочь вырванные с корнями когда-то так дорогие ему деревья. Вот он сминает последний стоящий на его пути лиственничный островок, вырывается на простор и… попадает в болото.
Теперь его окружают заросшие мхом и осокой кочки, среди которых то там, то сям белеют стволы выброшенных им же деревьев. Вода в ручье напоминает крепко заваренный чай и отдает тиной. И уже не бежит он, а тихо стекает между топких берегов, и никто кроме жирных пиявок да липкого гнуса им не интересуется.
К счастью, болото скоро кончается. Вырвавшись из него, ручей долго кружит по долине, словно никак не может прийти в себя.
Теперь его русло пересекает голую пустыню, лишь приторно пахнущий багульник да кустики чахлой голубики ютятся на низких берегах.
И только неподалеку от того места, где ручей впадает в Чилганью, встречается первая роща. Она очень большая, эта роща, и даже издали слышен пересвист собравшихся в ней птиц. Среди стройных лиственниц проглядывают кудрявые вершины тополей, чуть в стороне зеленой кипенью волнуются ивы.
Ручей оживает, радостно всплескивает водяными струями и во всю прыть устремляется к роще. Еще чуть-чуть — и он нырнет под надежную и так привычную сень деревьев, прильнет к их корням, пожалуется, как скучно и одиноко ему было среди пустой долины. И, конечно же, он покается в том, что так неразумно поступил с теми уничтоженными им деревьями. Теперь он никогда не уронит на землю и единого.
И вот, когда до цели остается совсем немного, когда к ручью уже доносится запах лиственничной хвои, на его пути вдруг вырастает цепь высоких скал. Ручей вскипает от обиды, из всей силы бьется в гранитную преграду, мечется и кружит, пытаясь отыскать хоть самый узкий проход.
Но все тщетно. И его раскаяние, и попытки пробиться через скалы. Те прочно стоят на месте и не хотят пустить ручей к деревьям, а может, просто не верят ему.
В весеннее половодье выбросило на завал лисицу. Худая, грязная, лежала она на осклизлых бревнах и почти не дышала. Как она попала в реку — неизвестно. Может, затопило остров, на котором была ее нора, а может, просто хотела переплыть на другой берег, ее и закрутило течением.
Увидели эту лисицу дорожники и забрали в свой вагончик. Отогрели, угостили молоком, консервированной свининой и вообще ухаживали, как могли. Она сначала дичилась, потом привыкла. Стала брать из рук рыбу и даже разрешала почесать за ухом. Дорожники отвели ей угол под нарами, поставили ящик наподобие собачьей конуры, выделили две миски. Одну под воду, другую для еды.
Неожиданно в ящике обнаружили трех лисят. Когда они родились, не заметил никто. Сидят себе дорожники, обедают. Лисица здесь же, угощается хариусами. Вдруг слышат, что-то запищало в ящике. Бригадир туда, а там лисята. И что интересно, лисица не проявила никакого страха за своих детей. Зверь все-таки. Скажем, медведица своих детей даже не показывает отцу-медведю — съест. Волчица целый месяц не подпускает к малышам волка, а ведь он в это время кормит и ее, и детей. Эта же, когда ее детей вытаскивали из ящика, даже на зарычала. Стоит и смотрит спокойно, словно хвастает: «Вот видите, какие у меня дети!»
Так они и жили в одном вагончике. Люди и звери. И никто никого не обижал. Когда дорожники на работе, лисица от малышей ни на шаг. Придут домой, она сразу же на охоту. Полевок в том году развелось много. Крупные, упитанные. Час-другой поохотилась и сыта…
Лисята уже открывали глаза и стали показываться из ящика, когда в гости к дорожникам завернул их знакомый рыбак и охотник Лобов. Полюбовался он зверьками, а потом просит:
— Продайте их мне, а? Я хорошо заплачу. За каждого щенка по двадцать рублей, а за нее все пятьдесят. Вы скоро закончите ладить мост и уедете. Куда они вам? Да и запах от них. А на вырученные деньги можете закатить пир на весь мир или купить хороший приемник. Ваш-то хрипит — слов не разобрать.
Все, конечно, запротестовали:
— Ты с ума сошел. Она с доверием, а ты ее на воротник!
Дорожный мастер Колька Рак тоже запротестовал, но иначе:
— По двадцать — это дешево. Вот если по тридцать — можно бы и подумать. В конце концов я ее первый нашел и в вагончик доставил. А насчет приемника ты прав, только нам нужен такой, чтобы и пластинки крутил. И вам нечего упираться. Не за здорово живешь музыку слушать будете…
Вечером они поговорили, а утром глядь: нет лисы. В ящик сунулись — тоже пусто. Лисица ночью унесла всех малышей в тайгу. Рак с Лобовым искали-искали, без толку. Может, время пришло уходить лисе от людей, а может, она как-то там поняла их разговор. Не знаю.
Когда-то очень давно у богатого ягелем озера голодная росомаха съела вырезанный из моржовой шкуры аркан-маут. Прочный, длинный, с медным кольцом на конце. Этим маутом пастухи эвены ловили ездовых оленей, что убежали от стойбища к самому озеру. Отвернулись на какой-то час, а маута нет. Даже кольца не осталось. Только росомашьи следы узорятся на припорошенном первым снежком берегу.
Пастухи выругали хитрого зверя, пригрозили при первой же встрече снять с него шкуру и возвратились к оленям.
Уже давно нет той росомахи, и пышную шерсть ее разнесли по гнездам дрозды и чечетки, а озеро до сих пор кличут Маут. Даже на картах так обозначено. Там и другие названия есть. Реку, у которой встретили диких оленей-буюнов, зовут Буюнда, а ту, что с голубыми, как крупные бусы, плесами, — Чуританджа. Если кто по-эвенски понимает, тот сразу переведет: «Чуританджа» — низка бус…
Бродили по Буюндинской долине изыскатели. Устали, оголодали и, конечно же, первый встретившийся на пути безымянный ручеек нарекли Голодный. Известно, голодной куме хлеб на уме. Но хлеб в походе испечь трудно, а вот галушки сварить можно. Было бы муки побольше да кастрюля поглубже. Поэтому-то следующий ручей наименовали Галушка. Вкусное название, сытное…
Однажды я рыбачил в тех краях и встретил пастуха-эвена. Тот сидел у костра-дымокура, кипятил чай и поглядывал на плещущееся у самых ног озеро. Оно не так чтобы очень большое, но до того аккуратное — диву даешься. Берега гладкие, ровные, трава на них бархатная, чуть выше белой канвой тянутся кусты цветущей спиреи.
Отдохнул я рядом с пастухом, выпил две кружки чая и, когда принялся за третью, спросил, как зовется это озеро.
— Нина, — ответил он сквозь зубы, потому что как раз откусывал кусок сахара.
— Вот это здорово! — обрадовался я. — Наверное, среди изыскателей был кто-то влюбленный в девушку Нину. Увидел озеро, сразу ее вспомнил и записал: «Нина». Представляю, какая она красавица! Волосы светлые, глаза голубые, ресницы…
— Не-е, — покачал головой мой собеседник. — Нина — это деревянное блюдо, на которое выкладывают вареную оленину. Его из тополя делают. Приготовят полную кастрюлю, вывалят на блюдо, немного подождут, пока пар сойдет, и едят. Вкусно!
— Блюдо-о? А я-то думал…
От обиды даже чай не допил. Размотал леску и принялся удить хариусов. Ветер в этом месте тянет от берега. Пустишь «мушку» по воздуху, она летит игривым комариком чуть ли не до середины озера. Хватай, хариус, не зевай!
Когда я вытянул из воды второго стригуна, на стоящую у берега лиственничку опустилась небольшая серая птичка с темными пестринами на груди. Посидела с минуту, стараясь угадать, стоит ли ей опасаться замученного комарами рыбака, затем приспустила крылья, чуть подала вперед голову да звонко так: «Нина! Нина! Нина!»
От неожиданности я чуть не уронил удилище. Хариус теребит «мушку», а я на него — никакого внимания. Стою и думаю, кто же на самом деле назвал вот так это озеро? Бродяги-изыскатели, пастухи-эвены или эта птичка?
А может, все вместе?
Не секрет, что я отношусь к охотникам довольно доброжелательно и, повстречав какого-нибудь обвешанного оружием и патронташами бродягу, желаю ему ни пуха ни пера.
Но вот мне случилось наткнуться у Хитрого ручья на зайца. Молодой лопоухий зверек сидел в зарослях иван-чая в каком-то метре от меня и испуганно косил и без того косым глазом. Он все еще надеялся, что я его не вижу, и удирать не торопился. По щеке у него ползал небольшой черный жук, его усы путались в усах зайца, зверек мужественно терпел такое неудобство и только подергивал носом. Я присел перед зайцем на корточки, посочувствовал ему и отправился дальше.
А когда осенью увидел собравшегося на промысел охотника, глянул на него очень неприязненно и, если бы это было можно, отобрал бы у него ружье. И все только потому, что там, на своей охоте, он мог подстрелить моего зайца.
Буюнда еще в истоке показывает свой характер. Разрезая каменистую лощину, стремительным потоком несется она через перекаты, вскипая у порогов и завалов.
Вода в ней холодная, и донный лед лежит в ее верховье до конца июня.
И уже потом, превратившись в широкую полноводную реку, Буюнда не теряет своего задора. Подмывает деревья, роняет высокие берега, а то возьмет и поменяет русло. Перенесет для этого с одного места целую гору песка, нагромоздит высокие завалы и вот уже катит новой дорогой, пугая своим грохотом лосей, медведей и прочий таежный люд.
Есть у реки при всей ее силе и неукротимости и какая-то особая доброта. Принимая в свое русло новые ручьи и речки, она на мгновенье приостанавливается, кружит на месте, как бы давая им чуть пообвыкнуть, приноровиться к ее течению, а затем опять катит стремительно и неудержимо.
Всякий раз, вбирая в себя ручьи и реки, она вбирает и их чистоту, звон струй, плеск рыб — все, чем полнились они по пути к ее берегам, и становится от этого еще светлее и краше.
Но вот за одной из излучин она встречает грязную, болотного цвета и запаха реку Гербу. Наша река возмущается, даже чуть вспучивается, словно хочет отодвинуться от Гербы, и долгое время в общем русле текут две совершенно непохожих реки. У правого берега светлая, у левого — грязная. В одной плавают рыбы, ползают личинки поденок и веснянок, купается светлогрудый воробей-оляпка. В другой же реке в любую пору мутная безрадостная пустыня, словно там вообще не вольная вода.
И все-таки, как бы Буюнда ни силилась, а от Гербы ей не уйти. Сначала почти незаметно, а потом все больше и больше смешивают они свои воды, и километрах в пяти от слияния уже бежит мутный, от берега до берега, поток, и не отыскать в нем ни одной светлой струйки.
Не так ли и другой человек? Встретившись с грязью, возмущается, протестует и, кажется, никогда не смирится с окружившим его болотом. Но со временем все же смиряется, привыкает и уже почти не замечает когда-то так испугавшей его грязи.
А может, и сам становится таким?
Сразу за излучиной, там, где из Чилганьи выглядывают оставшиеся от старого моста сваи, есть небольшая заводь. Вода в ней словно подкрашенная аквамарином, дно песчаное, между редких водорослей играют тугие родники. Из-за этих-то родников заводь не замерзает в самые трескучие морозы.
Хариусу или линку здесь спрятаться трудно, зато краснопузым гольянам и бычкам-подкаменщикам самое раздолье. Гольяны целый день толкутся среди водорослей, а бычки-подкаменщики отсиживаются, конечно же, под камнями, лишь время от времени проскакивая из одной схоронки в другую.
Кроме бычков и гольянов в заводи обитают личинки ручейников, а летом можно встретить водомерок и жуков-гребляков.
О заводи знают все живущие неподалеку птицы и звери. При случае они заворачивают сюда, отчего весь берег истроплен их следами.
Чаще других бывает здесь оляпка. Она подлетает к заводи со стороны Чилганьи, с ходу плюхается в воду и скоро выныривает с ручейником в клюве. Хлестнет склеенным из песчинок домиком о камни, вытряхнет из него личинку и с аппетитом проглотит. Чуть посидит, словно соображает, что же делать дальше, и… отправляется в воду за новым ручейником.
По утрам к заводи заглядывает вечно голодный мартын. Его интересуют гольяны. Но проворные рыбки знают, чем грозит встреча с этой птицей, и напередогонки прячутся в водоросли, а мартын улетает ни с чем. И все же, случается, он вдруг спикирует на воду, хлопнется о нее грудью и взлетает уже с гольяном.
А однажды я видел, как здесь охотилась водяная землеройка-кутора. Небольшой темный зверек с белым низом и похожим на хобот носом. За какую-то минуту землеройка съела двух ручейников, поймала гольяна и вытащила из-под камней головастого бычка. Меня кутора ничуть не испугалась. Скорее наоборот — услышав, как плеснула вода под сапогами, развернулась и, оставляя за собой цепочку воздушных пузырьков, приплыла узнать, не подойду ли ей в качестве поживы?
Еще вчера я встречал у заводи следы кулика, выдры и даже американской норки. Чем они занимались здесь, можно только догадываться, но ни рыбок, ни ручейников после их гостевания особо не убавилось.
Казалось, так будет всегда, но как-то прихожу к заводи и вижу — гольянов осталось совсем немного, а ручейники исчезли совсем. По следам хорошо заметно, что кроме трясогузок и зайца здесь никого не было. Правда, оляпка и мартын обычно садятся на камни и никаких следов не оставляют, но не могли же они за три дня выловить всю живность.
Немного растерянный иду вдоль заводи и неожиданно там, где она сливается с Чилганьей, замечаю крупного налима. Сунувшись головой в камни, он лежит на самом виду, такой же серый и крутобокий, как и они. Сначала мне показалось, налим неживой. Но тот вдруг завозил похожим на толстую плеть хвостом, и я понял, что налим просто застрял на перекате.
Я подскочил к рыбине и в один мах выбросил на берег. Налим несколько раз свернулся и развернулся, тряхнул жабьей головой и выплюнул на траву помятого гольяна. Скоро из широкой пасти вылетел еще один гольян. Только чуть поменьше. А следом показался бычок-подкаменщик. Похоже, этот налим перебрался ночью через перекат и так наелся, что обратно протиснуться уже не мог. Теперь лежит на берегу и плюется рыбой.
Так ему и нужно! Залез с черного хода и всех обворовал: оляпку, мартына, землеройку и даже меня. Представляю, как он здесь разбойничал. Глаза в темноте блестят, рыбьи хвосты лезут из пасти, ручейники трещат на зубах, а он жрет и жрет…
Я поднял налима за облепленный травою и листьями хвост, щелкнул пальцем по ставшему дряблым животу и понес домой варить уху.
Раньше мне тоже казалось, что из всех живых существ лебеди — самые верные друг другу. Да и может ли быть иначе? Ведь они словно созданы для любви.
Она — воплощение нежности и изящества, он — настоящий рыцарь. Стройный, сильный, внимательный. Нет ничего удивительного, что эти птицы не могут жить в разлуке. Даже песня такая есть. Кто-то застрелил лебедушку, так лебедь поднялся под облака, сложил крылья и ударился оземь.
Теперь скажите, могут ли любить вот так же пищухи? Это зверюшки такие, почти с кулак величиной. Мордочки у них, как у зайцев, а все остальное мышиное. В прошлом году мы ремонтировали мост возле колонии пищух и я наблюдал за этими зверьками с утра до ночи.
Больших истеричек и представить трудно. Мы возимся себе с бревнами метрах в пятидесяти от них, не кричим, руками не размахиваем, а у них паника. То выглянет из-за одного камня, то из-за другого, да все сторожко, все с опаской. Наконец самая отважная продвинется в нашу сторону на несколько шажков, но тут же как заверещит и изо всех ног в камни. Там тоже тревога. Пищат, свистят, прячутся в дальние отнорки.
С чего им быть такими нервными? Ну пройдет по дороге трактор, прошумит машина. Так ничего же им не угрожает, никто за ними не гонится.
А отношения у них какие? Мы не видели ни разу, чтобы две пищухи хоть пять минут посидели рядышком. Выскочит из норы, скусит три-четыре стебелька и наутек. Только и того, что, встретившись на тропинке, обнюхивают друг дружку, словно иначе не могут признать.
И нужно же случиться, что одна из пищух попала под автомашину. И все из-за своей нервной натуры. Ведь собирала траву совсем в стороне от дороги. Ей бы немного переждать, она же стала метаться и угодила под колесо. Нам, конечно, жалко пищуху, но, откровенно говоря, сейчас было не до нее. На этой же машине мы должны ехать домой, а шофер куда-то опаздывал.
Утром возвращаемся к мосту, а рядом с раздавленной пищухой — еще одна. Толстая, взъерошенная, сидит нахохлившись и ни на кого не обращает внимания. Машина подъехала совсем близко, сигналит, а она как глухая. Шофер вылез из кабины, носком сапога откатил пищуху в сторону, только тогда смог проехать.
Глядим, а пищуха снова направилась к погибшей подружке. Подошла, обнюхала трупик и застыла. Здесь, конечно, начались всякие разговоры. Это, мол, супружеская пара, она погибла, а он теперь переживает. И вообще, шоферу можно было бы хоть немного смотреть под колеса. Такой человека задавит, не оглянется…
Наш бригадир подошел к нахохлившейся пищухе, бережно пересадил ее в шапку и отнес за ручей. Через воду, мол, не переберется. Но не тут-то было. Скоро зверек снова появился на дороге. Мокрый и от этого еще больше взъерошенный.
Тогда мы больше не стали его трогать, а оградили дорогу ветками, чтобы шоферы объезжали стороной.
До самого вечера сидела пищуха возле своей подружки. В полуметре ездят машины, грохочет бульдозер, а она даже не оглянется. Когда стало темнеть, кто-то из шоферов смял ненадежную защиту и вторая пищуха тоже погибла под колесами автомашины.
Раньше у Горелого озера была густая тайга. Заберешься туда на рыбалку и с утра до ночи слушаешь птичьи песни. А те знай стараются: свистят, сипят, тивикают. Аж звон в ушах.
Самое же удивительное, что каждой птице было отведено свое время. Будили меня кедровки с кукушками, умывался я с куликами и трясогузками, завтракал с дятлами и синицами. Только кукши не признавали никакого расписания и могли завести свой концерт когда им вздумается.
Но все равно чужой песне эти рыжехвостые птицы не мешали. Глядишь, сидят себе на ветках и свистят, что самые взаправдашние синицы, или вдруг примутся вплетать свои голоса в токовую песенку зеленого конька. Удивление на этих пересмешниц да и только.
Но случилось, кто-то оставил на берегу озера костер и тайга выгорела до Снежного перевала. С тех пор там тишина. И хотя избушка у озера сохранилась и хариусы клевали по-прежнему, рыбаков там поубавилось. Да и какой интерес рыбачить в такой пустыне? Мертво, тихо, неуютно.
Недавно мы ехали к реке Чилганье и остановились на ночевку у Горелого озера. Тайга вокруг него уже начала отходить от пожара. Между обугленных деревьев то там, то сям проглядывали молодые лиственнички, шелестели листьями кусты ольховника, кивал розовыми султанами вездесущий иван-чай. Где-то задорно тенькала синица, свистел поползень и кричал дятел-желна. Словно человек после долгой и трудной болезни, тайга училась говорить.
Я возвращался от наледи, где наблюдал за дикими оленями, и случайно вышел на небольшое, засеянное овсом и бобами поле. Овес только начал выбрасывать метелки, зато бобы расцвели белыми, розовыми, фиолетовыми цветками. Казалось, на поле опустилась стая разноцветных бабочек. Те бабочки, что не нашли удобного стебля на поле, перелетели к меже и устроились на кустиках багульника, голубики, карликовой березки.
Иногда среди метелок овса проглядывали так знакомые с детства и в то же время непривычные здесь, на севере, сурепка, осот, конопля, кустики щирицы. Эти растения прибыли сюда «зайцем» вместе с семенами овса и бобов. Но ничего — прижились. Некоторые издали напоминают небольшие деревца, значит, длинный полярный день им на пользу.
А это что? Передо мною небольшое, очень похожее на осот растение, только без колючек и несколько светлее. Что-то очень знакомое, а что — признать не могу. Отрываю краешек длинного широкого листа, гляжу, как в месте разрыва собирается молочная капелька, и тотчас зачесались ладони, а в голове зазвенело:
Как мы любили тебя, молочай! Трудные послевоенные годы. Давно закончились свекла и картошка, в доме ни крошки хлеба, а до нового урожая еще ждать и ждать. И тогда мы отправлялись в поле собирать пастушью сумку, козлобородник, конский щавель, кислицу и еще, наверное, добрый десяток трав, названия которых я уже и не помню.
Но больше всего мы любили молочай. Нужно было отыскать его где-нибудь у межи среди зарослей вьюнка и осота, оборвать чуть прохладные листья и долго катать в ладонях сочащийся молоком стебелек, обязательно напевая при этом:
Пели ровно десять раз. Только после этого можно было есть ставший мягким и сладким стебелек.
А как старательно мы считали! Это теперь лишь малыш научится загибать пальцы, его торопятся продемонстрировать всем дядям и тетям. Он пыхтит, тужится, сбивается и по нескольку раз начинает сначала, уже и сам не рад, что связался с этим делом.
Мы же учились не сбиваться со счета, качая молочай. Нам хотелось есть, а голод, как известно, не тетка. Вот и усваивали мы азы арифметики почерневшими от молочая ладонями.
«Качай-молочай… раз… Качай-молочай… два…»
Теперь батоны и булки нередко выбрасывают в мусорные бачки. Недавно я сам слышал, как расцвеченная бантами девочка, не пожелав брать к супу хлеб, заявила: «А меня от хлеба тошнит». Сегодня никого не прельстит эта когда-то лакомая нам трава. Значит, уже никто и не споет: «Качай-молочай, приходи к нам на чай. Тебя в поле бык заколет…»
Так и умерла песенка. А когда умирает песня, всегда немного грустно.
Был теплый летний вечер. У дороги цвели заросли иван-чая, легкий ветерок доносил от них запах меда, а над вырубкой, что начиналась сразу за обочиной, кружили муравьиные принцессы. В пышных юбочках, с тонкими талиями и прозрачными крылышками взмывали они высоко в небо, пролетали над поднявшимися среди пней молодыми лиственничками и словно таяли в вечерней сини. Их было так много, что издали казалось — там, за лиственницами, нерадивый рыбак оставил костер и над вырубкой струится дым от этого костра.
Я продрался через иван-чай, нырнул в лиственничник и увидел высокий почерневший от времени пень. Вся его верхушка была облеплена крупными черными муравьями. В основном здесь были приготовившиеся к вылету самцы и самочки. Между ними суетились обыкновенные рабочие муравьи. Крылатые муравьи какое-то время неторопливо ползали по срезу пня, щупали усиками щели и выступы, словно никак не решаясь оставить его, а может, просто прощались с родным домом, затем расправляли крылья и взмывали вверх. На смену им из щелей показывались новые крылатые муравьи, и поверхность пня все время была покрыта ими, как леток улья пчелами.
Не гремела музыка, не звучали напутственные речи, но здесь происходило одно из самых великих событий в жизни муравьиной семьи — молодые муравьи отправлялись в дальнее путешествие, с тем чтобы там, за синеющей у скал рекой и заросшей тальниками долиной, устроить новые муравейники.
Крылатые муравьи вскоре после вылета погибнут, а самочки улетят далеко-далеко, опустятся на приглянувшийся пень или валежину и начнут создавать новую семью. Для этого самочке нужно будет отложить немного яичек, вырастить из них личинок, затем куколок и дождаться, когда из них появятся новые муравьи. Нужно будет кормить-поить их, прикрывать от непогоды, охранять от врагов. Крылья к тому времени у нее отпадут, и далеко не каждый узнает в этом суетящемся муравьишке недавнюю принцессу, которая в родном муравейнике даже есть самостоятельно не могла и ее кормили специально поставленные на это рабочие муравьи. О более трудных занятиях не могло быть и речи, ведь растили из нее не кого-нибудь, растили царицу. Здесь же — одна на весь мир, вся в заботах с утра до ночи, никто не поможет, не пожалеет.
И только потом, когда из куколок наконец выведутся муравьи, наша принцесса сможет отдохнуть. Тогда уже эти муравьи будут ухаживать за нею, кормить самыми изысканными блюдами, чистить ее тело, следить, чтобы ей всегда было тепло и уютно. С тех пор она станет царицей — самой важной особой в муравейнике, и далеко не каждый муравей будет иметь право заглянуть в ее хоромы.
Я долго наблюдал за вылетом муравьев, пробовал подсчитать их и, насчитав около полутысячи, уехал домой.
Ночью меня разбудила гроза. Сверкала молния, гремел гром, тяжелые капли хлестали по окнам. В такие минуты дом кажется особенно уютным.
Здесь я вспомнил о тех муравьишках. Где они сейчас? Как переживают непогоду? Помните, в известной сказке вот в такую дождливую ночь в одно из королевств постучалась принцесса? Голодная, озябшая, она просилась переночевать, и ее уложили на гору тюфяков, положив предварительно под самый нижний горошину. Там все кончилось хорошо. А здесь?
Ведь если в нашей долине тысяча муравейников и через год их станет вдвое больше, то это значит, что из всех вылетевших на моих глазах принцесс только одна станет царицей. Потому что и остальные муравейники тоже отправили в путешествие своих принцесс и те тоже будут стараться создать новые муравьиные поселения.
Значит, одна станет царицей, а остальные погибнут. Какая раньше, какая позже. Та вместо пня села на сырую кочку, та упала в реку, третья уже и яички отложила, и личинок выкормила, да прилетел дятел желна и всех склевал. А будут и такие, что опустятся на уже занятый другими муравьями пень и те прогонят ее прочь в холод и слякоть.
Ах, как жаль, что странствующих принцесс добрые королевства ожидают только в сказках!
Раньше я думал, что муравьи расселены по тайге более или менее равномерно. Как, скажем, синички или поползни. У меня на Энкене четыре охотничьих избушки. Одна возле наледи, вторая в устье Глухариного ручья, третья у перевала и четвертая на выходе к Налимьим озерам. И возле каждой избушки держатся пара поползней и три-четыре синички. Урожайный год или нет, холодная зима или не очень — они без внимания. Как с первого дня поселились, так и живут.
А чего не жить? Тайга вокруг почти не тронута, лиственницы стоят часто. Есть где вкусно поесть, есть где спрятаться от хищника.
А вот муравьи почему-то уважают одни поляны возле Глухариного ручья. В тех местах муравейники встречаются почти на каждом шагу. Возле остальных избушек их почти нет.
Мне говорили, что виноват дятел желна, который ест этих муравьев и на первое, и на второе. Я верил этому, пока геодезисты не поставили рядом с ведущей к Налимьим озерам тропинкой свой знак. Очистили от кустов поляну, насыпали гору камней, а в середину закопали столб с табличкой: «Академия наук СССР. Охраняется государством». Чуть ниже подпись: «Кандидат географических наук Гаврюшкин».
И что же? Сначала поляна была совершенно чистой, но уже через два года возле знака появились три муравейника. Дятел желна рядом летает, медведи прогуливаются, а они ничего — живут.
Мы с сыном, когда идем на рыбалку, всегда останавливаемся в этом месте отдохнуть. Я устраиваюсь неподалеку от муравейника и принимаюсь наблюдать, как муравьи сражаются с подкинутой им личинкой жука-дровосека. Личинка жирная, что сосиска, но дерется отчаянно. У нее челюсти больше муравья, того и гляди перекусит пополам. Но муравьи тоже не дураки — спереди на личинку не нападают. Навалились кто сверху, кто сбоку и потащили добычу в муравейник.
Сына больше интересует геодезический знак. То спрашивает, зачем его здесь поставили, то кто такой кандидат географических наук или еще что…
Здесь у нас последняя передышка. От знака мы поднимаемся на террасу, огибаем сопку с любопытным названием Дедушкина лысина, а там рукой подать до избушки.
В тайге так: лишь до места добрались, в первую очередь кипятим чай. Я колю дрова и разжигаю печку, сын разбирает рюкзак, приносит от ручья воду и накрывает на стол. Это мы только дома лодыря гоняем — ждем, когда мама и ложку подаст, и хлеба нарежет. Словно и вправду ни на что не способны. В тайге надеяться не на кого.
И вот однажды Ильюшка доставал из рюкзака сахар и обнаружил трех муравьев. Наверное, когда мы отдыхали у знака, эти проныры учуяли в рюкзаке лакомство и решили поживиться. Теперь-то поняли, что попались, бегают по коробке, растерянно шевелят усиками, а спрятаться некуда.
Сын обрадовался находке и понес устраивать муравьев под растущей неподалеку ивой. Пусть, мол, и у нас будет свой муравейник.
Пришлось его огорчить, объяснив, что из этой затеи ничего не выйдет. Наши муравьи очень скоро погибнут. Эти существа могут жить только в большом коллективе. Ведь каждый муравей может выполнять только одну работу. Тот добывает еду, другой ухаживает за мурашатами, третий следит, чтобы в муравейник не забрался чужой муравей, четвертый копает подземные ходы или еще что. При этом муравьи постоянно подкармливают друг дружку. Сойдутся и сразу же начинают угощать один одного. Без этого у них никак нельзя. Лишь более десяти собравшихся вместе муравьев могут прожить два-три дня, да и те скоро погибнут.
— А домой они сами не добегут? — спрашивает Ильюшка. — Давай их сейчас выпустим.
— Что ты! — говорю. — Им за этот вот ручей пропутешествовать все равно, что тебе в Африку или Америку. А от ихней поляны до нашей избушки — это уже на Луну или Марс. Оставь их в покое, теперь уже ничем твоим муравьям не поможешь.
Но сын меня не послушал, пересадил муравьев в спичечный коробок и, не дождавшись чая, побежал к геодезическому знаку. Там вытряхнул своих пленников на муравейник, понаблюдал, как их примут живущие там муравьи, и возвратился в избушку.
Так что теперь возле геодезического знака, поставленного кандидатом наук Гаврюшкиным, в крайнем от тропы муравейнике живут три знаменитых путешественника. Может, даже доктора географических наук.
Я спустился к реке, чуть постоял у переката и пошел навстречу солнцу. Иду от излучины к излучине, от плеса к плесу и не могу остановиться. Не знаю, что меня ведет, и никакой цели у меня нет, а все равно иду.
Опомнился километрах в пяти от дороги. Стою и ругаю себя за то, что забрался так далеко, и в то же время очень хочется пройти еще хоть чуть-чуть — посмотреть, что там, за лиственничной гривой.
Не удержался, пошел и сразу же наткнулся на бурундука.
Полосатый зверек сидел на пеньке и недовольно клохтал. Услышав меня, он стремглав метнулся на ближнюю лиственницу и принялся свистеть. Словно у меня только и дела — гонять за бурундуками.
Придется возвращаться. Бурундук клохчет к непогоде, а у меня с собой ни плаща, ни спичек. Обидно. Нет, не за то обидно, что сунулся в тайгу без плаща и спичек, а потому, что зверек всего в треть моего кулака величиной загодя знает о приближении непогоды, а я нет. И, если бы он не подсказал об этом, — ни за что не догадался.
Но ведь знал же когда-то. Знал! Не я, так мой далекий предок. И сколько этих знаний навсегда похоронено в глубинах моего подсознания — никому неизвестно.
Стою, с завистью гляжу на бурундука и вдруг вижу стайку чечеток. Небольшие говорливые птички пролетели над головой, обогнули лиственничную гриву и скрылись. Интересно, что их туда поманило? Ведь в той стороне, откуда они прилетели, стоит чудесная погода, сколько угодно еды, ни пожаров, ни вырубок. Живи хоть сто лет. Они же все оставили и улетели.
Но я сам-то как здесь оказался? Ничего особенного отыскать в этом краю не надеялся, ружья с собою нет, удочки тоже. А я пошел.
Наверное, и меня привело сюда что-то таящееся в моем подсознании. Что именно — мне уже никогда не узнать. А чечетки — те хорошо знают да ни за что не скажут.
Что-то случилось с мотором, и автобус, еле выбравшись на перевал, затих серьезно и надолго. Мужчины вышли покурить, а женщины, устроившись поудобнеее в своих креслах, продолжали дремать.
Перевал был пустой и неуютный. Только иногда в поднебесье проплывали пушинки иван-чая да из заросшего ольховником ущелья доносились голоса кедровок. Вот одна из птиц заметила автобус, опустилась неподалеку на камни и, чуть наклонив голову, принялась рассматривать людей.
— Что, поживу учуяла? — с какой-то снисходительностью произнес высокий пожилой мужчина в наброшенной на плечи нейлоновой куртке. Остальные улыбнулись и согласно кивнули. Мол, и вправду учуяла. Хотя ничего кроме окурков они оставить здесь не могли, и о какой поживе сказал этот, в куртке, — непонятно.
А кедровка, сверкнув белым подхвостьем, вспорхнула и перебралась к кустам кедрового стланика, что темнели на каменистой осыпи неподалеку от нас. Там немного повертелась, словно проверила, все ли на месте, и подалась за перевал.
Я проводил ее взглядом и только сейчас обратил внимание на сопку, у которой остановился автобус. Весь ее скат сверху донизу был завален гранитными обломками. На самой вершине сопки щерились в небо зубчатые останцы. Солнце и непогода продолжали разрушать их, откалывая новые и новые. Обломки обрушивались вниз, катились по осыпи и застревали. На серых глыбах белели хорошо заметные прочерки, словно шрамы от ударов и ссадин.
Сопка была очень крутая, чудилось, крикни погромче, тотчас вся осыпь оживет и, высекая искры, с грохотом покатит вниз.
Лишь в одном месте каким-то чудом сохранился живой островок. То ли там выпирала слишком уж прочная скала, то ли причиной послужило что другое — не знаю. Но докатившись до этого островка, камни останавливались, а особенно нетерпеливые обтекали его и уже без всякой остановки обрушивались в ущелье.
На этом-то островке и росли три куста кедрового стланика, два — довольно буйные и один — совсем маленький. Как же они оказались здесь? В ущелье кроме ольховника ничего нет, чуть ниже перевала маячит несколько чахлых лиственничек и кривая желтокорая береза, у останцев вообще пусто.
Конечно же, это работа кедровок. Интересно, сколько времени затратили они на то, чтобы вырастить здесь кедровый стланик? Прежде всего нужно было где-то собрать орешки и принести на эту сопку. А ведь прятали не для того, чтобы оставить. К тому же нужно было, чтобы припасами не попользовался бурундук, не погрызли полевки, не подобрал соболь или другой зверь, чтобы зернышки не засохли в каменной пустыне, а проклюнувшиеся ростки не погибли в самом зачатье. К тому же урожай на шишки кедрового стланика случается один раз в четыре года и не всякий раз кедровки устраивают свои тайники на этой сопке. Да и расти кустам до первого урожая в столь неблагоприятных условиях лет пятьдесят, а может, и все сто.
Если бы этот мужчина в нейлоновой куртке посадил яблоню, мы бы его полюбили и зауважали. Как же, для внуков старается.
А она для кого? Живет-то лет пять-семь — не больше, и сколько пра-пра-пра нужно назвать, чтобы наиболее вероятно угадать, для кого она старается.
Может, и мы, когда сажаем дерево, руководствуемся чем-то другим. А чем именно — представляем даже меньше, чем эта кедровка. Ссылаемся же на внуков и правнуков лишь потому, чтобы оправдать это свое незнание.
Ночую у таежного костра. Под боком охапка лиственничных веток, под головой полупустой рюкзак и шапка, сверху теплая куртка. Хорошо, удобно. Казалось бы, спи себе на здоровье, но спать ни капельки не хочется. Просто лежу и слушаю тайгу.
На чудом уцелевшей после недавнего пожара лиственнице заночевала стайка чечеток. Непоседливые птички возятся во сне и тихонько попискивают. Если мой сын вот так же возится в своей постельке, то утром с восторгом сообщает, что он летал во сне.
Интересно, а что снится птицам? Тоже летают? Так они могут это и на самом деле. Наверное, им снится нетронутая огнем тайга или что у людей сломались все ружья и топоры.
А может, чечеткам снится, что они разговаривают с людьми и те их понимают.
Я брал воду из бегущего вдоль дороги ручья и вдруг заметил две черные ягоды, что покачивались у самого приплеска. С виду они походили на плоды шикши, только были несколько крупнее их. Ничего ядовитого за исключением мухомора и бледной поганки мне на севере встречать не доводилось, поэтому я без всякой опаски отправил одну из ягод в рот.
Горная смородина! Без всякого сомнения, это ягоды горной смородины, только как они оказались в ручье? Выронить их никто не мог, в долине эта ягода не растет.
А что если я ошибаюсь и где-то неподалеку ее целые заросли? Оставив ведро с водой на берегу, отправляюсь вверх по ручью. Он долго вихляет между кустов спиреи, затем поворачивает к нависшей над долиной сопке. Вся сопка сверху донизу укрыта каменной осыпью. Серые с острыми гранями глыбы словно всего лишь какой-то час тому назад свалены здесь в неимоверно высокую кучу, и на этих камнях не то что смородина, даже лишайники не успели бы прижиться.
Ручей, вильнув в последний раз, исчезает под осыпью, не оставив снаружи и маленькой струйки. Оглядываюсь удостовериться, что не пропустил за спиной смородиновых кустов, и начинаю карабкаться на осыпь. Тяжелые гранитные глыбы качаются под ногами, некоторые срываются и, высекая искры, катятся вниз. Тогда в воздухе на мгновенье повисает знакомый с детства запах. После войны не хватало спичек, и мы добывали огонь кресалом. Иной раз обобьешь все пальцы, пока не затлеется свитой из ваты жгут. После этого руки долго пахли жженным камнем.
Ручей где-то неподалеку. Мне хорошо слышно погулькивание его быстрых струй, но, сколько ни заглядываю под камни, обнаружить его не могу. Наконец, когда лоб уже покрылся испариной, а ноги стали дрожать, между скальных обломков мелькнуло зеркальце воды, за ним второе, третье.
И здесь за одним из особенно крупных выступов открылась терраса. Она была всего со стол величиной, но этого оказалось достаточно, чтобы ручей разлился в небольшое озерко, на берегу которого и вырос куст горной смородины. Темные упругие ветки были увешаны гроздьями спелых ягод. Некоторые ветки касались озерка, и ягоды купались в студеной воде.
По озерку, вздымая усы волн, носились два жука-плавунца, здесь же, натянув на сухую ветку тонкую паутину, дремал небольшой паучок.
Без сомнения, никто никогда не бывал у этого озерка, и я обрадовался своему открытию, как мореплаватель, увидевший неизведанную землю. Потом подумал и понял, что здесь я далеко не первый. Сначала сюда попало семечко горной смородины. Может, его занесла птица, а может, оно приплыло откуда-то с самой вершины сопки. Потом на озерко прилетели жуки-плавунцы, за ними на паутинке спустился паучок,
И наконец явился я.
В конце августа случаются дни, когда можно в один и тот же миг наблюдать три времени года. Вот и сейчас: в тальниках посвистывают дрозды, у самой реки цветет белоснежная спирея, чуть поодаль качает золотистыми зонтиками пижма. Лето да и только.
Но поднимешь глаза — и сразу встретишься с осенью. На склонах сопок полыхают обожженные первыми утренниками заросли ерниковой березки, словно свечи тянутся к небу пожелтевшие лиственницы, выставляя на ветер голые сучковатые ветки, торопливо сбрасывает листья ольховник.
А на перевале уже настоящая зима. Белеют заснеженные гольцы, метет поземка, из-под снега выглядывают до того пустые и холодные камни, что от одного их вида становится зябко.
Покрытая хлопьями тумана стремительная Ингода катит потемневшие свои воды в десяти шагах от меня, и кажется, нет в ней ничего живого. Изо дня в день она подтачивает довольно высокий берег, тот опустился уже метра на три и вместе с ним опустился густой куст кедрового стланика. С каждым всплеском Ингода уносит добрую горсть каменистой почвы, еще немного — и куст обрушится в воду.
Сверху река кажется мне огромным удавом, а куст стланика — смертельно испуганным кроликом. Куст-кролик больше всего на свете боится реки-удава, но, зачарованный глубокой бездной, ползет и ползет навстречу своей гибели.
Наверняка деревьям, как и всему живому, ведомо чувство страха. Говорят, у стоящего среди вырубки клена при приближении к нему человека с топором поднимается температура, а когда на выросшие у опушки сосны набросилась листовертка, то стоящие в глубине чащи деревья тоже принялись выделять защитную смолу, хотя на их ветки еще не опустилось ни одно насекомое.
А чем этот стланик лучше клена или сосны?..
Перевожу взгляд на противоположный берег и замечаю три зеленеющих чуть ли не у самой воды новых кустика. Небольшие, в пять-шесть лапок, они выстроились в ряд и покачиваются на ветру, словно они и на самом деле молодые нетерпеливые кролики. Вернее, не кролики, а зайчата. Где кроликам у нас на Колыме взяться? А вот зайцев сколько угодно.
И вообще, с чего это я взял, что тот большой куст боится реки? Разве станет он праздновать труса на виду у малышей? Скорее наоборот — завис над водой и ждет не дождется, когда та посильнее подмоет берег, чтобы прыгнуть в реку и отправиться в дальнее путешествие, может, к самому Ледовитому океану. А то проживешь век и не узнаешь, что делается за ближней сопкой.
Вот он и изготовился: уши прижал, лапы подогнул и задорно подмигивает собравшимся на другом берегу кустам-зайчатам. Мол, глядите, как сейчас прыгну. Только брызги в стороны.
А те во все глаза смотрят на отважный куст, в возбуждении перебирают мохнатыми лапками и отчаянно завидуют.
В нашей тайге у птиц и зверей сто дорожек, и у каждой своя особинка. У выдр они проложены прямо по реке. Где в воде, где через песчаную косу, а где и под завалом. У полевок дорожки между кустов и кочек. Зверек это маленький, лапки нежные, но в другой раз такую канаву протопчут — удивиться впору.
Медведи прокладывают свои тропы вдоль рек и по распадкам. Если идешь по хорошо набитой тропе и тем не менее ветки раз за разом хлещут тебя по лицу — значит, попал на медвежью дорогу. Медведь-то передвигается на четвереньках и так высоко, как мы, не достает. И еще: в таком месте всегда немного боязно. Если человек идет по медвежьей тропе и ему ничуть не страшно, значит, он совсем не чувствует тайги и делать ему здесь совершенно нечего.
В сырую дождливую погоду на медвежьи тропы выводят своих птенцов глухарки, куропатки, рябчики. Мокрая трава для малышей очень опасна. На тропе всегда сухо. К тому же здесь им удобнее охотиться за комарами и мошками.
А недалеко от ручья Тенкели есть и муравьиная тропа. Сразу у дороги под невысокими лиственницами — пять похожих на египетские пирамиды муравейников. Сооружены они довольно близко друг от дружки. И от этих пирамид-муравейников к зарослям голубики муравьи протоптали чудесную тропу. Движение по ней — все равно как по проспекту в людном городе. Одни бегут в голубичник, другие торопятся обратно уже с поклажей.
Раньше я думал, что муравьи живут очень обособленно и ничего общего с соседями не имеют. Чуть границу нарушил — сразу же драка. А эти ничего. Все пять муравейников пользуются одной тропинкой, и никаких недоразумений.
Когда мы приехали косить сено на Ольховниковое, никакой дороги от Ольховникового к Фатуме еще не существовало. Там и расстояние чуть больше двух километров, но как раз на пути очень крутой перевал, а под ним такие заросли кедрового стланика — сам черт ногу сломит.
В полной темноте нас выгрузили вместе с палаткой, кучей матрацев, косами, граблями, как могли объяснили, где косить траву, где ставить стога, и уехали. Мы кое-как прокоротали ночь у костра, а утром осмотрелись и сразу пропало все настроение. Место-то, оказывается, низкое, мокрое. С одной стороны густая тайга, с другой — сопки, а посередине болото и небольшое озеро в колено глубиной. Значит, комарам самое раздолье. Воду тоже непонятно откуда брать. В озере какие-то черные пиявки парами плавают, вода между кочек покрыта ржавчиной, ручей тоже в радужных разводах и отдает гнилью.
Правда, трава на болоте и вдоль ручья хорошая, да и у озера тоже ничего, но как здесь жить — трудно даже представить. А сразу за перевалом река. Там тебе и рыбалка, и комаров меньше, да и место куда веселее. Решили прорубать тропу прямо к реке и ставить палатку там.
Засучили рукава и где топором, где пилой к вечеру пробились к перевалу. А там лишь в самом крутом месте сделали десяток ступенек да перебросили через лощину пару бревен и вышли к реке.
У воды, конечно, совсем другое дело. Палатка на самом берегу, чуть что — за удочку и на рыбалку. А на ночь насторожишь жерлицы и слушаешь, как налимы в колокольчики звонят. Чего греха таить, от Фатумы к сенокосу ходить далековато, но в тайге дорога не скучная. То глухаря встретишь, то зайца вспугнешь, не успел оглянуться — уже и пришел. «Спидолу» на «Маяк» настроил, косу подправил, и только трава под лезвием шуршит!
Самое интересное, что почти сразу же все живущие по соседству птицы и звери проведали о нашей, тропинке. Чьих только следов мы на ней не встречали! Белок, лисиц, соболей, зайцев. А птичек разных так и не сосчитать. Однажды даже медведь прошел.
А осенью кедровки приноровились лущить на ней шишки. Оказывается, кедровка расклевывает шишку не где попало, а обязательно на твердом месте. В тайге везде кусты, мох, трава — никакого удобства. На тропинке же в самый раз. Вот она и приловчилась. Идешь, и то в одном, то в другом месте прямо под ногами кучи пустых шишек.
На другой год наша тропинка совсем в тайге прижилась. Глядим, вдоль нее уже осока выросла, иван-чай расцвел. Нигде ни одного цветка, а здесь настоящая аллея.
Мы в то лето даже до конца сенокоса на Ольховниковом не доработали, собрались и оставили его навсегда. А тропинку свою подарили живущим там птицам и зверям. На память подарили. Пусть пользуются.
За Гремучим озером кто-то подпалил тайгу. Специально или нечаянно — утверждать не буду, а что подпалил, это точно. Загудели — заполыхали деревья, шугануло в небо высокое пламя, черной тучей завис над сопками дым.
Гореть бы тайге не один день — деревья вокруг стоят часто, стланик зеленой подушкой укрыл все сопки, долина тянется аж до Аринкидского перевала. Да, к счастью, в тот вечер Васька Чирок перегонял бульдозер на новый участок дороги и случился недалеко от пожара. Как только увидел огонь, сразу же развернулся и пошел его обрезать. Отвал у бульдозера широкий, часа не прошло, а вокруг пожарища легла полоса перепаханной земли. Ткнулся огонь в эту полосу, зачадил и потух.
Однажды я снова попал в те края. Там, где пожар гулял, отметины на многие годы остались. Стланик выставил голые ребра, мертвые лиственницы пиками торчат в пустое небо, когда-то белый ягель превратился в сыпкую золу. Ни птицы, ни мотылька, лишь одинокая пищуха посвистывает среди голых камней.
В том месте, где прошел бульдозер, далеко приметная полоса. Вдоль полосы темнеют проложенные гусеницами колеи. По верхней поднялась поросль молодых лиственничек, по нижней журчит веселый ручеек. А между лиственничками и ручейком грибов маслят целые заросли. Следов же разных и не сосчитать. Здесь вот собирал грибы дикий олень-буюн, чуть дальше ими угощалась белка, а у поворота куропатки пили из ручейка воду.
Я присел на камень возле этого ручейка, а рядом со мною на обгорелое дерево спустилась пеночка-зарничка, посмотрела на меня глазком-бусиной и спрашивает:
— Пить? Не пить?
— Пей на здоровье, — говорю пеночке. — Всем хватит.
Она напилась и улетела. А я сидел и смотрел на отметины, что оставили после себя два человека.
В голодную зимнюю пору все живое жмется к поселку. Выйдешь из дому — здесь тебе синицы и дятлы, чечетки и поползни, куропатки и кедровки. Даже глухари залетают поклевать рассыпанных на дороге камешков. А вот кукш у поселка я не видел ни разу. Но стоит забраться хоть на пару дней в таежную глухомань — кукша тут как тут. И до того ручная, только на голову не садится. Главное, до всего ей есть дело. Повесишь вялить рыбу — она обследует каждого хариуса и самого жирного спрячет в кусты. Сваришь макароны, она сбросит с кастрюли крышку и расшвыряет по земле весь обед. Даже с только что выстиранной рубахи норовит оторвать последнюю пуговицу.
Когда я косил сено у Черного озера, сражался с нею все лето. Вечно взъерошенная, с непокорно торчащим хохолком рыжая разбойница казалась неистощимой в своих проказах.
Известно, росную траву косить легче, поэтому-то я поднимался на рассвете. Выйдешь из избушки — сыро, зябко. Туман на озере лежит плотной подушкой, трава купается в росе, словно в инее. Даже комары не летают.
Но кукша уже здесь. Успела сбросить со стола все ложки, оставила на скамейке белое пятнышко и теперь с самым сосредоточенным видом тянет из ящика отвертку с наборной ручкой.
— А, чтоб тебя! Кыш отсюда!
Она прикидывается, что страшно испугалась, да на лиственницу. Сядет на нижний сук, склонит голову набок и нежно так: «Ти-ви-ти-и-и! Ти-ви-ти-и-и!». Словно говорит: «Ах, как славно, что ты наконец проснулся! Видишь, как одна здесь маюсь».
Когда эта проныра забралась с ногами в кастрюлю с супом, моему терпению пришел конец. Насторожил перевернутый вверх дном ящик и заполучил свою мучительницу в руки. Ох, как она кричала! На ее крик слетелись птицы со всей тайги. Невозможно даже представить, как они меня поносили. Если бы я понимал их язык, у меня от стыда сгорели бы уши. Пришлось пленницу отпустить.
Пристроившись на лиственницу, она с полчаса оправляла смятый наряд и возмущенно поглядывала в мою сторону. Но хватило ее ненадолго. Вскоре она уже подбиралась к столу и косила глазом на мой завтрак.
К концу лета, когда вдоль покоса уже поднялось с десяток стогов, а на кустах кедрового стланика созрели первые шишки, откуда ни возьмись у моей избушки опустилась стайка рыжих птиц. Наверное, это были родственники моей кукши. Она сейчас же признала их и пригласила угоститься моими хариусами.
До самого вечера, словно красные планеры, носились птицы между деревьев, но к ночи исчезли. Вместе с ними улетела и моя кукша. Сначала я обрадовался. Не нужно прятаться с продуктами, посуда спокойно стояла на столе, даже приготовленным на рыбалку короедам ничего не угрожало. Но потом заскучал. То хоть какая-то живая душа была рядом, а сейчас кому ты нужен? Возвратишься с покоса — никто тебе не рад, никто тобой не интересуется. Даже не хочется заходить в избушку. Только озябшие комары мельтешат у дышащего теплом кострища, да где-то в бревнах пощелкивает короед. Пусто стало на моем стане, неуютно.
Но вот однажды проснулся — и что-то хорошо мне на душе. А отчего — не пойму. Гляжу, вокруг те же бревенчатые стены, то же заставленное консервными банками окно, та же веточка можжевельника над дверью. Но откуда такое настроение?
И вдруг меня осенило. Кукша! За стеной распевает кукша!
Сбрасываю с себя одеяло и, как был, выскакиваю на улицу. Вижу, сидит моя птаха на краешке стола и выводит незатейливую свою песню. Такая же взъерошенная, все с тем же непричесанным вихром на голове и задоринкой в черных глазах.
Мне прямо комок к горлу. Гляжу и не могу наглядеться.
— С возвращением тебя домой, сударушка! Здравствуй, кукша!
Август для зверей и птиц месяц хлопотный. Нужно делать зимние припасы.
Белка сушит грибы, бурундук носит в свою кладовку орешки с ягодами, пищухи косят сено и прячут под коряги. Одному медведю не нужны потайки. Он откладывает припасы под собственную шкуру. Нагуляет побольше жира и спокойнехонько ложится в берлогу. Такому никакие воры не страшны.
Кедровка — совсем другое дело. У нее, наверное, больше тысячи тайников и столько же любителей поживиться за ее счет. Кто только не пользуется припасами этой птицы, кто только из ее кладовых не тянет! Белки и соболи, лисицы и горностаи, бурундуки и полевки. Каждому вкусен кедровый орешек, всякому в аппетит.
Второй день моросит мелкий дождь. Сижу под навесом и от нечего делать наблюдаю за кедровкой. Она носит орешки с дальней сопки и прячет рядом с моей избушкой. Где-то у нее здесь гнездо. Я пробовал искать, но ничего не получилось. Только вымок напрасно.
От кедровника птица возвращается, прижимаясь к самой земле. То ли так легче лететь, то ли кедровка не хочет, чтобы видели, куда она будет прятать орешки. Мешок под клювом раздулся так сильно, что сейчас она немного напоминает пеликана.
Плюхнулась у корней высокой сучковатой лиственницы и сейчас же сторожко оглянулась. Не видит ли кто?
Как бы не так! На берегу гуляет целая стая куликов песочников, из-за коряги выглядывает бурундук, к тому же следом приспела еще одна кедровка. Кулики с бурундуками — куда ни шло, а вот кедровка — это совсем плохо. Моя соседка угрожающе скрипит и бросается на пришелицу. Вот это уже напрасно. Случись драка — ей несдобровать. Прилетевшая следом за нею птица выглядит внушительней, к тому же мешок у нее пустой. А у моей переполнен так, что даже клюв открывается сам собой.
Но не тут-то было. Пришелица виновато шарахается в сторону и улетает.
Теперь нужно бы прогнать и бурундука. Ишь, как с коряги зыркает! Но кедровка почему-то не обращает на зверька никакого внимания. Спокойно присаживается у моховой кочки и, задрав клювом клочок мха, выкладывает туда часть орешков. Вторую порцию кедровка заталкивает под корягу, на которой сидит бурундук.
Мне интересно, сколько орешков в кедровкиной потайке? Как только кедровка улетает, выбираюсь из-под навеса и пересчитываю. Под мхом 23 штуки, под корягой 24. Говорят, кедровка откладывает столько орешков, сколько съедает за один раз.
А что, если добавить самому? Подсыпаю в оба склада по 20 орешков и отмечаю места лиственничными ветками.
Когда на второй год я снова попал на сенокос, то сейчас же бросился к кедровкиным захоронкам. Под корягой пусто, даже скорлупок не осталось. Зато у моховой кочки прямо у всех на виду горстка орешков. Рядом россыпь скорлупок. Пересчитываю целые орешки и удивляюсь. Ровно 20 штук. Вот это умница! Сколько спрятала, столько и съела. Или больше не осилила, а возвращаться на прежнее место у кедровок не принято.
А те, что у коряги, наверное, уворовал бурундук. И мои, и кедровкины. Он еще тогда, словно тать, из-за коряги зыркал.
Почти до сумерек я собирал бруснику на Столовой сопке, затем перебрался через широкое заросшее редкими лиственницами болото и вышел на дорогу. Здесь меня и подобрал разбитной словоохотливый шофер, что вез сено на совхозную ферму. Он сразу же принялся объяснять мне, как из одной тонны сена сделать две и при этом никто не прикопается. Он часто забывал о дороге, поворачивался ко мне и так старательно растолковывал детали операции, словно я только тем и занимаюсь, что заготавливаю сено, а все стремятся меня надуть.
Вдруг у дороги мелькнула какая-то птица. Мой попутчик тотчас забыл о сене, высунулся из кабины, посмотрел, куда эта птица полетела, и, усевшись на место, сокрушенно покачал головой:
— Сова шмыгнула. Давленых мышей собирает. Сейчас на дорогу только мыши и выглядывают. Раньше зайцы, олени, лоси толпами ходили! Один раз я здесь чернобурку задавил. Еду вот так под утро, и прямо на дороге лиса. Попала в свет, растерялась и по колее как прищучит. Минуты не прошло — догнал. Потом своей Валюхе шапку сделал. Роскошная получилась, все стонали от зависти. А сколько я здесь глухарей взял. Бывало, катишь, а они на лиственницах сидят и ничуть не боятся. Прямо так из кабины и стрелял. Теперь вот одни мыши бегают…
И правда, если не считать той совы, до самого совхоза мы не встретили ни одного живого существа. А ведь сегодня на Столовой сопке, что в каком-то километре от дороги, я видел медведя, двух глухарей и стаю куропаток. Кроме того, по кромке болота целая россыпь лосиных и оленьих следов. И все совершенно свежие.
Значит, есть и зверь, и птица в тайге, и дичи не сильно убавилось, но все знают, что к дороге выходить опасно. Чуть высунешься — сразу тебя в суп или на шапку.
Вот они и не высовываются.
Стараясь не зацепиться удочкой за нависшие над водой ивы, я прошел несколько шагов по перекинутому через Холодную протоку бревну да так и застыл. Все дно протоки, сколько хватал глаз, было усеяно ручейниками. Одни ползали у самого берега, другие забрались на глубину, третьи облепили затопленные в протоке коряги. Здесь были настоящие великаны, с выстроенными из разноцветных камушков домиками, были ручейники, жилище которых походило на камышовую трубочку, встречались и совсем малыши, в треть спички величиной, и их схоронка была склеена из мельчайших песчинок.
Все ручейники, от мала до велика, занимались одним делом — жевали ивовые листья. Я был уверен, что ручейники настоящие хищники, какую-то неделю тому назад они ели из моих рук комаров, мух и мошек, а сейчас, гляди, пасутся, как коровы. Правда, едят не все подряд, а одну мякоть, так аккуратно отделяя ее от жилок, что обработанный ими листок становится похожим на ракетку для игры в теннис.
Лучшей наживки, чем ручейники, для рыбалки не сыскать. Я ополоснул лежащую на берегу протоки консервную банку, пересадил в нее десятка три самых отборных ручейников и заторопился к Чуритандже. Один из переселенцев не захотел расстаться со своим листком и оказался в банке вместе с ним. Через минуту почти все ручейники окружили этот листок и принялись дружно его уписывать.
Я почему-то был уверен, что сегодня наловлю рыбы полную сумку. Уже давно высветилась вода от последнего половодья, до вишневой красноты созрела брусника, по утрам трава звенела от инея — самая пора линкам и хариусам собираться в стаи и отправляться на зимовку. Но то ли рыба успела спуститься ниже, то ли все еще жировала где-то в ручьях — в этот день клевали одни недомерки, да и те предпочитали изготовленную из медвежьей шерсти «мушку».
Поняв, что крупной рыбы не будет, я смотал удочку и прямо через тайгу отправился домой. Уже на полпути вспомнил, что ручейники так и остались в рюкзаке. Их нужно было бы выпустить в реку или какой-нибудь ручей, но, как назло, поблизости не было даже приличной лужицы.
Я достал банку, посмотрел на озабоченно ползающих по дну ручейников, хотел было высыпать их прямо на траву и… не смог. Какой-то час тому назад я без всякой жалости цеплял этих ручейников на крючок и, случись хороший клев, извел бы всех до единого, но сейчас просто взять и выбросить — не поднимается рука.
Смотрю на часы, потом снова на ручейников и решительно поворачиваю к Холодной протоке. Там вытряхнул ручейников в воду и долго наблюдал, как они расползаются по песчаному дну.
И хотя рыбалка была неудачной, до самого вечера меня не покидало хорошее настроение. Перед глазами стояла усеянная ручейниками протока, среди которых ползали и мои возвратившиеся из дальнего путешествия ручейники, и каждый доедал свой оставленный утром ивовый листок.
Зайчонок попался на удивление шустрый. Шлепая болотными сапогами, мы добрый час носимся за ним по маленькому острову и уже поймали бы, но этот хитрец всякий раз умудряется то шмыгнуть под огромный выворотень, то буквально раствориться среди камней, а то просто замереть на полном скаку, и тогда мы с грохотом проносимся мимо.
Совсем недавно мы с Васькой Чирком едва тянули ноги под моросящим дождем. Уставшие, голодные, мечтающие об одном: спать, спать, спать! И вдруг заяц! Ружья, рюкзаки, удочки полетели на землю, а мы, круша тальник, бросились за серым.
— Вась! — крикнул я на бегу. — А зачем нам заяц!
От удивления Чирок аж остановился.
— Как это, зачем? Конечно, незачем. Погреем и отпустим. Гляди, снова не пропусти его к выворотню!
Наконец зайчонок был схвачен и посажен Чирку за пазуху.
— Ох, и дрожит, — прислушиваясь к поведению зайчонка, сообщил мне Васька. — Давай-ка подберем ему самый большой и уютный остров, там он хоть спрячется по-человечески. Хорошо, что мы на него наскочили, а если бы лисица или сова? Раз — и съели…
…А через неделю меня обидели. Один мой знакомый, услышав, сколько мы заработали в прошлом сезоне, присвистнул:
— Вот это да! Так жить можно. А я-то, дурак, думал, они в пятидесятиградусный мороз от одной романтики в тайгу отправляются. Да за такие денежки…
Ничего я ему не ответил, только вспомнил: холод, дождь, покрытый чахлым тальником островок. А два сорокапятилетних дяди носятся за маленьким зайчонком, чтобы… погреть.
Почти весь август стояла чудесная солнечная погода, и все смотрели на это довольно равнодушно, словно иначе и быть не должно. Но вдруг захолодало, сырой порывистый ветер погнал над сопками рваные тучи, и те с утра до ночи сыпали то дождем, то снегом, а то просто мелкой крупой, что весело скакала по дороге, сбиваясь у обочин в белые валики.
Перелетная утка валом валила на таежные озера, люди надели шапки и теплые пальто, гвоздики и астры продавались у магазина уже по пять рублей за пару цветков.
И вдруг в воскресенье нежданно-негаданно, словно хороший подарок, утро проснулось тихое, ясное, а за ним грянул по-настоящему летний день. Расплавленным серебром сияли вершины заснеженных сопок, подпаленные первым морозом заросли ольховника и ерниковой березки полыхали так жарко, что глазам было больно смотреть. А над всем этим веселое щебетание чечеток, пересвист куликов, озорное цик-циканье собравшихся у реки трясогузок.
Все, от мала до велика, радуясь такой погоде, высыпали за поселок. То и дело можно было услышать:
— Господи, какой день!
— А сопки-то, сопки! Вы только посмотрите, какая красота!
— Век бы глядел!
И такой восторг на лицах — диву даешься. А ведь всего неделю тому назад таких дней было сколько угодно и никого это не волновало. Наверное, и правда, для того чтобы ценить счастье, нужно узнать и несчастье.
У меня жил бурундук. Жил безбедно — сыт, весел, ухожен. Я привез его с реки Ямы. Это далеко от моего дома. В тех краях растет ель, водится проворный зверек ласка и летает длиннохвостая и белобокая сорока. Каждую осень в Яму заходит на нерест радужная мальма и желтогубая рыба — топь. У нас все это можно видеть разве что на картинке.
Однажды ночью мне приснилась мама, наш дом, сад. Я разволновался и долго не мог уснуть. А утром пошел к знакомому охотнику, что как раз собирался ехать на Яму, и попросил отвезти туда бурундука. И притом, не куда-нибудь, а к тому месту, где в реку впадает ручей Утиный. Как раз там я этого зверька поймал.
Кто знает, если бы не тот сон, может, бурундук до сих пор жил бы в моей квартире.
Хотя дорогу к Тринадцатым озерам прокладывали давным-давно, но тайга до сих пор хранит нанесенные бульдозером раны. В одних местах это кучи камней, вырванные с корнями кусты ольховника, клочья посеревшего мха. В других же под камнями открылись родники, и теперь возле них зеленеет густая осока, лакированными лепестками желтеют яркие лютики. Чуть выше алеет брусника, выглядывают коричневые шляпки грибов маслят.
Мы любим отдыхать у этих родников. Хорошо там. Присядешь на минутку, и, кажется, никуда бы и не уходил.
Не так ли и человек? Потревожат его, обидят чем-нибудь, он на весь мир озлится и знай только ходит да сует всем под нос свои шрамы. Другой же наоборот — переживет все, переборет и станет еще интереснее, еще лучше. И, может, если бы не эти обиды, мы так никогда и не узнали бы, какие родники скрыты в его душе.
Неподалеку от Лиственничного, сразу за излучиной, Фатума сливается с ручьем Товарищ. Кто дал таежному ручью такое уважительное имя, не знаю, но наверняка это был хороший человек.
В самом устье ручья весеннее половодье устроило завал. Вырванные с корнями деревья занесло кусками коры, мелкими ветками, травой. Все это качается и дышит под ногами. Я хожу по завалу, как по подушке.
Слева от завала темнеет омут. У его берегов из воды выглядывает густая осока. Время от времени желтые стебельки начинают шевелиться. Это возятся щуки, устраиваясь в засаду на хариусов. С первыми заморозками рыба устремилась вниз по Фатуме, а речные разбойницы не преминули явиться наперехват.
Потемневшая к осени, но по-прежнему быстрая Фатума, сливаясь с ручьем, закручивается в тугой водоворот. Каждый появившийся у завала хариус задерживается у этого водоворота, чтобы обследовать плавающие на воде лиственничные хвоинки. Иногда среди них попадаются мошка или мотылек. Хариус тыкается в насекомое острым носом, на воде вскипает бурунчик, и мотылек исчезает в пасти прожорливой рыбы.
Удовлетворенно плеснув оранжевым хвостом, хариус заворачивает к омуту. Проходит несколько долгих секунд. За это время он доплыл до щучьей засидки, щука увидела хариуса и зеленой торпедой ринулась на него. В какое-то мгновенье замечаю возникшую у осоки узкую волну, что стремительно бежит к середине омута. И вдруг впереди нее взлетает хариус. Широко расставлены грудные плавники, коричневым флажком трепещет спинной парус, далеко в стороны летят серебристые брызги. Прыжок, другой, третий. Достигнув крайних бревен, он проскакивает между ними и только здесь в поле зрения появляется щука. Она уже не гонится за добычей, а тихонько плывет, чуть шевеля плавниками. Спокойная и невозмутимая, уверенная в своей силе хищница. На какое-то мгновенье она зависает у завала и вдруг, увидев меня, вжимается в глубь реки.
Сегодня щукам не везет. Стоит появиться хариусу, как я опускаю к воде «мушку» — пучок медвежьей шерсти со спрятанным в этой шерсти крючком. Чуть качнешь удилищем — и на воде уже не самодельная обманка, а пытающийся взлететь нерасторопный комар. Правда, ног у него не шесть, а целых двадцать, да и сам завис на какой-то паутинке, но разве есть время считать-приглядываться? Того и гляди, взлетит. Не задумываясь, хариус устремляется к «мушке» и через мгновенье пое-ехал на завал в мое ведро, где уже собрался добрый десяток таких же торопыг.
Те хариусы, которых мне не удалось обмануть, не менее успешно удирают и от щук. Одна из хищниц так оголодала, что заинтересовалась моей «мушкой» и долго приглядывалась к ней, застыв рядом с играющей обманкой. Так ни на что и не решившись, щука уплыла в осоку, а у завала высыпал целый косяк рыбешек-гвоздиков. Меня давно интересует, как называются эти рыбки и кто у них самый главный? В стайке их, может, сто, а может, и больше, каждая не более гвоздика, но дружные до удивления. Всей стаей под завал нырнут и остановятся, словно по команде. Постоят так минут пять-семь, потом — раз! — отодвинулись на полметра в сторону и снова застыли. Отдохнут вот так, затем вся стайка вздрогнет, словно подтянется, и в стремнину. Засеребрится, заиграет река — и нет их.
Ушли-уплыли рыбки-гвоздики, а у завала уже нарисовался хариус. Оказывается, малыши от него-то и убежали.
— Ах ты, хулиган! Зачем пугаешь маленьких? А ну, иди сюда!
Но хариус то ли не голодный, то ли успел познакомиться с «мушкой». Как только обманка коснулась воды, он стремглав бросился под бревна и больше я его не видел.
Интересно, сколько щук в омуте. Вываливаю хариусов на траву, зачерпываю в ведро свежей воды и берусь за спиннинг. Небольшая верткая блесна, описав полукруг, аккуратно ложится как раз у осоки. Даю ей немного просесть и быстро подматываю леску. Когда блесна дошла до середины омута, удилище передало тугой толчок, и после резкой подсечки на леске заходила-заиграла полукилограммовая щука. Опускаю добычу в ведро и таким же образом ловлю еще четырех полосатых хищниц. На первый взгляд, все щуки одинаковы. Тонкие, длинные, белобрюхие. Но, приглядевшись, сразу же замечаю различие между моими пленницами. У одной перед хвостом крутой горб, на боках другой разошлись какие-то пятна, у третьей нос задирается кверху.
Еще и еще бросаю блесну, но безрезультатно. В это время мимо завала прошла стая хариусов и завернула в омут. Спокойно плавают, ловят мошек. Никто за ними не гоняется — все щуки у меня в ведре.
Выщипываю из грудных плавников моих пленниц по нескольку перышек и выплескиваю всех пятерых в омут. Собравшиеся там хариусы, как ошпаренные, выскакивают на стремнину и уносятся вниз по Фатуме.
Какое-то время сижу и наблюдаю за новой стайкой рыбок-гвоздиков, затем забрасываю блесну к осоке. Сразу же энергичная поклевка, и после короткой борьбы щука у меня в руках.
Она! Точно она! Только что помеченная и выпущенная в омут щука снова клюнула на блестящую железку.
Вскоре таким же способом тяну к завалу вторую щуку. Неожиданно, когда мне осталось подмотать метров семь лески, под водой мелькнула длинная тень, спиннинг согнулся так, что, казалось, вот-вот треснет склеенный из бамбуковых реечек сверхпрочный кончик.
Забыв, что на блесне уже сидит полукилограммовая добыча, резко дергаю удилище, но рука не встречает никакого сопротивления и на бревна ложится оборванная леска. Какое-то время растерянно гляжу на омут, затем прыгаю с завала и бегу домой. Отправившись на рыбалку, я не захватил запасные блесны, понадеявшись на безотказность уловистого «шторлинга», теперь остался с пустыми руками.
Коробка с блеснами стоит на подоконнике. Выхватываю три или четыре самые крупные — и назад. В голове одно: «Только бы не ушла! Только бы не ушла!» Несомненно, это та черная щука-оборотень, о которой мне рассказывали совхозные мальчишки. Это та загадочная рыбина, которую вот уже сколько лет никто не может поймать.
Омут притих, потемнел. У завала не видно ни единой рыбешки. Привязываю к леске стальной поводок с тяжелой, оснащенной самодельным тройником блесной и забрасываю ее в конец омута. Щука долго не давала о себе знать. Только на шестой проводке вдруг забурлила вода и миллиметровая леска зазвенела так, словно за нее и вправду уцепился крокодил. Больно ударив вертушкой по пальцам, взвизгнула катушка и в один мах распустила леску почти на всю длину.
Ставлю спиннинг на трещотку и начинаю по нескольку сантиметров отвоевывать расстояние между мной и мечущейся в воде рыбиной. Наконец она сдается. Перевернувшись на спину и широко расставив крылья, щука дает подтянуть себя к завалу, хватаю ее за жабры и вытаскиваю на бревна.
И я, и рыбина какое-то время лежим на завале, отдыхая от борьбы. Щука огромная, невероятно толстая, с задранным вверх широким клювом. Весит она никак не меньше десяти килограммов. Но главное, что бросилось в глаза, это ее цвет. Щука была необыкновенно темной, почти черной. Я ловил щук в Днепре, Енисее, Амуре. Все мое детство прошло на кипевшей щурятами реке Конке. Но щук такого цвета встречать не доводилось.
Рассматриваю ряды загнутых внутрь зубов, изъеденную оспинами темно-свинцовую морду и вдруг вижу, что щука… слепая! В недоумении переворачиваю ее с боку на бок. Все правильно. Там, где у плавающей в моем ведре щучки блестят маленькие злые глаза, у лежащей на завале рыбины пустые ямы. Сажусь на лиственничный ствол и оглядываюсь: с кем бы поделиться невероятным открытием?
Но вокруг только тайга, вдали темнеют пустые избушки косарей, из-за избушек выглядывают приземистые цистерны.
Я один, а передо мною лежит щука-крокодил, таскавшая под воду уток, пугавшая по ночам отдыхающих у костра рыбаков и без промаха клюнувшая на мою блесну. Рыбина, снискавшая славу оборотня, — оказалась слепой!
Сейчас я оттащу ее домой, начиню солью и буду хвастать перед приезжими шоферами, как лихо расправился с нею. И уйдет с Фатумы еще одна тайна, не будет она больше будоражить сердца рыболовов. Станет для них Фатума обыкновенной речкой, где ничего крупнее хариуса-селедочника или небольшой щучки не увидишь.
Еще раз смотрю на пустые глазницы моей рыбины, вынимаю из ее пасти блесну и пускаю щуку в воду. Словно не веря, что снова оказалась в родной стихии, она тычется мордой в бревна, затем, чуть качнувшись, исчезает в студеной воде Фатумы.
Давно заметил: если поднимешься на очень высокую сопку, нет, не за брусникой, а намного выше, то обязательно к тебе подлетит какая-нибудь крупная птица. То ли они думают, что это пасется отставший от стада снежный баран, то ли что другое? Для собственного успокоения я думаю, что меня принимают за что-то другое, очень уж не хочется, чтобы тебя перепутали с бараном, пусть даже со снежным.
Иногда подлетает орел, иногда ястреб, чаще всего ворон. В долине он облетает меня далеко стороной, здесь же сваливается чуть ли не на голову.
Когда я забрался на Маутскую сопку, ко мне вдруг завернула огромная сова. Сделала круг над головой, зависла в трех метрах, уставилась желтыми глазищами и смотрит, словно никак не может признать. Когда наконец признала — встряхнула от возмущения крыльями и подалась за перевал. Летит и качает на лету головой, словно удивляется: «Надо же, куда забрался! Делать ему нечего, что ли?»
А то, что сама среди бела дня устроила охоту, ничего. Ей, видите ли, можно.
Вчера вечером поселившийся у моей избушки бурундук закрывал голову лапками и грустно трумкал. Поведение зверька предвещало близкую непогоду, но с утра разыгрался самый настоящий летний день, какие не всегда случаются и в июле. Теплый, безветренный, с тучей надоедливой мошкары.
Сижу, облокотившись о метровый пень-останец, и выглядываю снежных баранов. Вернее, не баранов, а их малышей. Сейчас у баранов время свадеб. Они собрались в небольшие компании и ушли за перевал. Ягнят же оставили на престарелого толсторога, которому все эти свадьбы ни к чему. Васька Чирок говорил, в здешнем «детсаду» около тридцати малышей. Дважды в день они приходят на водопой к лежащему высоко в горах озеру и уже натоптали вокруг него хорошо заметные тропы.
Когда-то вдоль ближней сопки прошел пожар, и сейчас ее склон напоминает поле давней битвы. Белые камни — обмытые непогодой черепа воинов и их коней, покрученные стланиковые ветки — кости, торчащие так и сяк обгорелые лиственнички — сломленные копья. Впечатление усиливает иссиня-черный ворон, что сидит на одном из камней и, кажется, спит. Голова втянута в плечи, тяжелый клюв опустился вниз, черные мозолистые ноги крепко держатся за опору.
Интересно, что ему здесь нужно? Может, как и я, ждет баранов, а может, просто сел отдохнуть и задремал.
Над озером пронесся быстрый вихрь, встеребил воду, пригнул кустики обожженной первыми утренниками голубики и вместе с листьями поднял в небо необычно крупную бабочку-аполлона. Сначала мне показалось, что это просто оброненная кем-то бумажка, но вихрь неосмотрительно влетел в ольховниковую гриву, запутался в ней и сразу умер. Листья опустились на землю, а бабочка выровнялась и, помигивая крылышками, направилась ко мне. Летела она так легко и красиво, что, казалось, купалась в настоянном на осени воздухе. Она то опускалась к самой земле, то взмывала высоко в небо, а то просто зависала на месте, словно подвешенная на невидимой ниточке. Наконец она устала и опустилась на покрытую змеистыми трещинами валежину. Теперь бабочка походила на северный цветок рододендрон, что распустился под щедрым солнцем. Бабочка шевелила тонкими усиками и без конца то складывала, то разворачивала широкие почти прозрачные крылья в красных и черных узорах. Казалось, она никак не может остыть от танца, ей хочется бесконечно кружить в небе, радуясь теплому дню, ярким осенним краскам, самой жизни.
Я загляделся на бабочку и чуть не прозевал кедровку. Словно челнок, она вынырнула из-за перевала, прохрипела недовольное «Кер-р-р-р» и плюхнулась рядом с вороном. Тот проснулся, подозрительно уставился на пришелицу и зачем-то открыл клюв. То ли он зевал, то ли таким способом предупреждал кедровку. Мол, летать летай, но свое место знать должна. Та сделала вид, что не замечает сердитого соседа, и принялась обшаривать куст кедрового стланика, что зеленел неподалеку от ворона. В этом году случился неурожай на шишки, и все кедровки откочевали в поисках более кормных мест. Эта же осталась. Может, она умудрилась сделать какой-то запас, а может, просто не смогла покинуть это озеро, заросший ольховником распадок, щетинящийся обгорелыми лиственничками склон…
В колымской осени семь погод в припасе. Только что светило солнце, вдруг появились тучи, и сразу же над головой закружили легкие снежинки. Ворон взлетел, недовольно квакнул и направился в долину. Исчезла и бабочка-аполлон. Она, как и бурундук, предчувствовала эту непогоду и, забившись в одну из щелей, уснула. Лишь кедровка продолжала суетиться среди кустов в поисках редкой поживы…
Говорят, первый снег — недолгий гость. Полежит день-другой и стает. Может, где-нибудь и так, только не у нас. Лежать теперь ему до самого июня. Лишь тогда откроется земля, нарядится в зеленый лист, заголубеет пушистыми прострелами. Глядишь, и встретятся здесь, у озера, кедровка и бабочка-аполлон. Кедровка будет сидеть на одной из лиственниц и распевать нежную и светлую песенку: «Ти-и-и-и-тир-р-р-р-р-р! Ти-и-и-и-тир-р-р-р-р!» Осталась, мол, позади голодная зима с трескучими морозами, злыми метелями, долгими темными ночами. Снова пришло лето, теплое, сытное, веселое.
«Счастливая!» — позавидуют ей кедровки, что ищут счастья в чужих краях. Им-то в эту зиму тоже достанется. Кто кедровок там ждет? Своих запасов приготовить не успели, а таскать чужие — радости мало. Может, какая и выживет, но большинство погибнет…
Будет радоваться лету и бабочка-аполлон. Хотя зима для нее совсем не то, что для кедровки. Она для бабочки один короткий сон — уснула и проснулась. Никогда не знающая ни холода ни голода, она уверена, что на земле всегда тепло и зелено. От того-то ей, наверное, никогда не понять, какое оно — настоящее счастье.
Вторую неделю живу в палатке на небольшом островке, что вздымается посередине реки Чилганьи. Ловлю рыбу, варю уху и слушаю, как собаки гоняют медведя. Километрах в пяти отсюда косят сено, вот косари и привезли собак, чтобы те побегали, значит, на воле. Но возле покосов ничего живого нет. Тайга давно выгорела, болото раскорчевали и засеяли зеленкой. Ни птицы, ни зверя. А здесь медведь! Вот они и прибегают отвести душу.
У реки всегда родила хорошая жимолость. Я планировал набрать ее ведра три-четыре и даже прихватил с собою сахар, чтобы прямо в тайге варить варенье, но в середине июля случился сильный заморозок, вся ягода померзла и осыпалась. Та же, что осталась на кустах, потемнела, сморщилась и плывет между пальцев, как кисель.
Пришлось переключиться на рыбу. Рано утром и сразу после обеда клюют хариусы, перед сумерками начинают браться ленки, с наступлением сумерек на охоту выходят речные разбойники — налимы. В то же время является и медведь. Собаки встречают его у старой вырубки, с полчаса лают на одном месте, затем их лай обтекает меня по широкой дуге и снова останавливается у Лосиного болота. Здесь он кружит до самого рассвета, то притихая, то взрываясь с новой силой, а с рассветом все умолкает, и до следующей ночи я собак не вижу и не слышу.
Собак три. Верховодит ими худая нервная сука с истерическим голосом. Когда она лает, кажется, наступила последняя минута в ее жизни, через мгновенье ее схватят и разорвут на части. Второй пес поспокойнее, голос у него густой, низкий и чуть хрипловатый. Последний в собачьей компании — совсем щенок, и лает он по-щенячьи, скорее радостно, чем сердито.
Ночи сейчас не так чтобы очень темные, я пытался увидеть медведя, но ничего не получилось. Пойдешь на собачий гам, а там такие заросли — не все разглядеть и днем. Собаки стоят на опушке и брешут в эту чащу, а где тот медведь, чем занимается — не понять.
С вечера упала роса, ночью подморозило, да так, что вся трава стала белой от инея и холод достал меня даже в спальном мешке. Я выбрался из палатки, сходил за дровами и, когда глянул на оставленный в траве след, понял, что сейчас могу проследить каждый медвежий шаг.
Светало. Собак не слышно. Отлаяв положенное, они возвратились к косарям, а избавившийся от их сопровождения медведь, наверное, прилег отдохнуть. С его-то шубой этот морозец не страшен. Я проверил поставленные на налимов жерлицы, положил в костер пару толстых чурок и отправился на поиски медвежьих следов. Обнаружил я их чуть выше старых вырубок. Сразу за потемневшими от времени пнями шумит перекат, дальше простирается песчаная коса. Медведь перебрался на этот берег по мелководью, чуть побродил по косе и направился к вырубке. Здесь он задержался. Проложил среди кустов жимолости несколько извилистых дорожек и даже посидел у одного из них. То ли отдыхал, то ли пытался понять, куда девались ягоды? Затем он вышел на заросшую пижмой и иван-чаем лесовозную дорогу и прямо по ней дошел до голубичника. У голубичника снова сделал три или четыре петли и наконец спустился к болоту.
Прямо через середину болота протекает тихий заросший вахтой ручей. Весь его берег истроплен медвежьими лапами, чуть в стороне следы собак. На воде качаются толстые белые корни водолюбивой травы-вахты. Медведь вырывал эти корни и ел, а собаки сопровождали его и лаяли. По всему видно, косолапый почти не обращал на них внимания. Ни к собачьим следам, ни от них он не сделал ни одного шага. Брел себе по ручью и питался, а эти, значит, переживали.
Часть корней сморщилась и потемнела, часть — совсем свежая. Значит, медведь ходит сюда давно, словно на собственную плантацию. Но зачем он каждый раз заворачивает на старую вырубку и к голубичнику? Неужели никак не сообразит, что весь урожай ягод давно погиб и до следующего лета ему не полакомиться? Глупый он, что ли?
Хотя вроде бы нет. Ведь прекрасно разбирается, когда иду с ружьем, а когда со спиннингом. Более того, он уверен, что не собираюсь в него стрелять, поэтому и ходит мимо моей стоянки вторую неделю.
Или вот с этими собаками. Явись сюда охотничьи собаки — сразу убежал бы. Знает, что за ними могут явиться и сами охотники. А эти пустобрехи его не волнуют. Ни холодно от них, ни жарко. Пусть себе лают.
Так же и с ягодами. Медведь, конечно же, давно понял, что в этом году их не будет. Но где-то в глубине души таится надежда — а вдруг! Ведь родила же сколько лет! Может, еще как-то там уродит? Или просто не все кусты осмотрел и где-нибудь в уголке притаится весь голубой от спелых ягод куст.
Вот я — довольно опытный рыбак — иду вдоль ручья и, заметив вскипающие на воде пузырьки болотного газа, тороплюсь проверить — не хариус ли? Знаю, что никогда в этот ручей рыба не заплывает, и, если бы на самом деле взыграл хариус, ни за что бы не сомневался, не подумал бы, что этот пузырек газа или что другое. Но все равно спешу проверить каждый всплеск и тоже на что-то надеюсь.
А вдруг?
Совсем того не желая, я забрался в медвежью семью. В самую ее середину. Скрадывал плавающих в ручье уток, но подшумел. Те взлетели и опустились на озеро в каком-то полукилометре от меня. Я хорошо видел, как они снизились над полоской лиственниц и спланировали на воду.
Прижавшееся к скалам озеро совсем маленькое, к тому же заросло по берегам осокой, так что подкрасться к уткам совсем не трудно. Где бегом, где ползком пересек лиственничник, добрался до осоки и, чуть приподнявшись, принялся высматривать уток.
В это мгновенье неподалеку кто-то рявкнул. Вернее, даже, не рявкнул, а громко и отрывисто проблеял. Мгновенно поворачиваюсь и вижу двух медведей. Один совсем маленький, другой взрослый. Стоят на задних лапах и внимательно смотрят в мою сторону.
Там, между озером и скалами, полоска голубики. Наверное, медведи занялись ягодой и прозевали меня. Что же теперь будет? Скалы довольно крутые и за голубичником подступают к самой воде. Чтобы убежать, зверям нужно или переплыть озеро, или прорываться мимо меня.
Наверняка это медведица с медвежонком. Правда, мамаша не очень крупная, но чему здесь удивляться? Люди тоже не все великаны. Зато гляди, какая упитанная. Шерсть на ней аж лоснится. Медвежонок похудее, длинный, ершистый и совершенно мирный. Стоит, рассматривает меня и ничуть не боится.
У меня в куртке два снаряженных пулями патрона. И еще шесть штук в рюкзаке. Когда идешь в тайгу, приходится быть готовым к любым неожиданностям. Торопливо переламываю ружье, роняю в осоку заряженные на уток дробовые патроны и тянусь в карман за пулевыми. Я не собираюсь охотиться на медведей, но если они бросятся в мою сторону, нужно быть начеку.
В эту минуту сзади затрещали кусты и из лиственничника, через который я пробирался какую-то минуту тому назад, выскочил медведь. Величиной с хорошего быка, косматый и ужасно злой.
Я, лишь увидел его, понял, что там, у скал, никакая не мамаша, а самый обыкновенный пестун. А вот эта громадина — мать и пестуна, и медвежонка. Наверное, она только что паслась. Я хорошо вижу свисающие с ее рта травинки, комочки вызелененной слюны на нижней губе, ряд крупных зубов над нею. Паслась, услышала крик детей и явилась творить расправу. Вот это влип! Пять-шесть хороших прыжков — и она накроет меня как цыпленка.
Забыв обо всем на свете, с переломленным ружьем в одной руке и рюкзаком в другой, бегу через осоку прямо в озеро. За спиной ревет медведица, впереди испуганно блеют медвежата, осока путается под ногами, а здесь прямо передо мной открылась болотина. Широкая, покрытая пузырчатыми водорослями, и кто его знает, где у нее дно? Проваливаюсь чуть ли не по пояс, вода заливает сапоги, а в голове одна мысль — нападают медведи на глубине или нет? Кажется, не нападают. Хотя, собственно говоря, какая здесь глубина?
Наконец пересек болотину и, скользя сапогами, выдрался на кочку. Дальше чистая вода. В это мгновенье словно лопнула и рассеялась окружавшая меня до сих пор завеса, и я начинаю понимать, что делал до сих пор не то, что нужно. Все так же спиной к беснующейся медведице достаю патроны, заряжаю ружье и с прижатым к плечу прикладом поворачиваюсь назад. В эти доли мгновенья успеваю увидеть все: поставленную на «огонь» пуговку предохранителя, нитку водоросли на ружейном стволе, все так же стоящих навытяжку медвежат и даже то, что брошенный у ног рюкзак сползает к воде.
Но главное, конечно, медведица. Она бежит по осоке, из-под ее толстых лап во все стороны летят ошметки грязи. Почему она не догнала меня до сих пор — даже не представляю. Увидев наведенное ружье, она резко затормозила, рявкнула так, что эхо загудело по скалам, и поднялась на дыбы.
Мною же руководит какая-то неожиданная уверенность. Охотник я не так чтобы очень, но сейчас чувствую, что могу попасть в любую точку на медведице. Словно между ружьем и зверем протянута какая-то ниточка и стоит только захотеть, как пуля пойдет строго по ней. Перевожу мушку ружья то к вылезшей подмышке медведицы, то к косматой шее, то к сверкающим злобой глазам.
Медведица моментально почувствовала происшедшую со мной перемену, поняла, что находится в моей власти, обиженно хрюкнула, опустилась на четвереньки и бочком-бочком подалась к лиственничнику. У самой его кромки еще раз обернулась и, удостоверившись, что я все еще стою на кочке, по большой дуге обогнула озеро и выскочила к голубичнику.
Медвежата у самых скал. Стоят, словно солдатики, опустив лапы по швам, и дружно так поворачивают головы то в мою сторону, то в сторону матери; снова ко мне и снова к матери.
Медведица подбежала к ним, что-то хрюкнула, и все дружно покарабкались по пробитой в скалах лощине. Камни с шорохом катились вниз, некоторые долетали до озера и плюхались в воду. Откуда-то с шумом налетела стая уток, пронеслась над головой и скрылась за лиственницами. Я проводил уток взглядом и вдруг пожалел о тех выроненных в осоку дробовых патронах. Стая летела довольно низко, и можно было запросто сбить парочку чирков.
Медведи уже у самой вершины. Впереди медведица, за нею, буквально уткнувшись носом ей в хвост, пестун, и чуть поодаль пыхтит медвежонок. Теперь он совсем маленький и круглый, как мяч. Вот звери уже на скале, немного постояли, поглядели в мою сторону и скрылись.
Я поднял рюкзак, выбрался на берег, слил из сапог воду и принялся собирать ветки для костра. Все делал спокойно, я бы даже сказал, хладнокровно. Но вот разжечь костер сразу не смог. Достал коробок, открыл, а захватить спичку не получалось — дрожали пальцы. Скоро озноб передался всему телу: тряслись руки и ноги, зубы выбивали такую дробь, что челюстям было больно.
Сижу у кучи дров, медведей ни слуху ни духу, рядом заряженное пулями ружье и еще наготове шесть медвежьих зарядов, а я трясусь.
…В ту ночь я спал в тайге. Соорудил шалаш, нарезал для постели прошлогодней травы. Словом, устроился довольно основательно. Тепло, уютно, рядом потрескивает костер, на ближней лиственнице возится стайка щуров — можно спокойно спать. Я же лежу и все пытаюсь понять, что произошло сегодня со мною? Почему я так вел себя? То праздновал труса, то готов был разделаться с этой медведицей в два счета?
Наверное, во мне, как и во всяком другом человеке, где-то в глубине подсознания хранится весь жизненный опыт моих предков. Только вызвать его к жизни можно не во всякий час, а лишь в минуты высшего напряжения. В первое мгновенье перед разъяренным зверем метался сегодняшний изнеженный цивилизацией человек. Потом, когда казалось, что медведь вот-вот настигнет меня, в подсознании проснулся мой далекий пра-пра…дед. Тоже бродяга и тоже охотник. Конечно же, он очень удивился моему поведению и сразу же как-то там одернул меня. Мол, что это ты, внучек, суетишься? Да я их еще пещерных дубиной гонял, а у тебя ружье! А ну, спокойней. Руку потверже, глаз поострей! Тоже мне, нашел от кого бегать!
Так он руководил мною минут двадцать, а когда опасность миновала — оставил меня, и я снова принялся дрожать, да так, что не мог удержать спичку.
Он, мой пращур, и раньше не раз выручал меня. Это было, когда я, заблудившись в метель, устроился ночевать у костра, хотя до избушки оставался какой-то километр. Задремав всего лишь на минуту, я проснулся с совершенно ясной головой и сразу же разобрался, где север, где юг. Поднялся, собрал вещи и через полчаса был дома.
А однажды я в такую же вот, как и сегодня, пору рыбачил на Явканских островах. Ложился спать, все было нормально, и вдруг среди ночи проснулся словно от толчка. Гляжу, мой остров заливает водой, главное же лодку начало относить от берега. Едва я ее догнал…
Выручил он меня, когда я учуял подкравшуюся к палатке рысь, когда мой плот затянуло под завал, когда целую неделю в пятидесятиградусный мороз выходил из верховьев Фатумы, проваливался в полыньи, попадал в наледи и лавины и не только остался жив, а даже пальца не обморозил.
Вот поэтому я с благодарностью думаю о своем давнем пращуре и за его приобретенный для меня опыт говорю спасибо!..
На этом я успокоился и начал дремать. И вдруг меня поразила внезапно пришедшая мысль:
— А как это будет со мною? Может, и мой опыт, мое умение тоже отложатся в подсознании моего потомка и в трудную для него минуту я буду приходить к нему на помощь? А ведь не так давно при мне оскорбили женщину и я сделал вид, что ничего не заметил; потом спасовал перед самодуром и хамом только потому, что он мой начальник и сможет потом как-то там ущемить меня, в третий раз я пожал руку вору и мошеннику. Знал, что вор, знал, что мошенник, а все равно пожал.
А если все это оживет в моем потомке в решающее для него мгновенье? Скажет ли он мне спасибо?
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |