"Колесо в заброшенном парке" - читать интересную книгу автора (Тараканов Борис Игоревич, Федоров Антон)
Часть вторая «ЛИКУЮЩАЯ РУФЬ»
Москва, июль 2005 года
К середине лета Бурик и Добрыня крепко привязались друг к другу. Если между ними возникало малейшее непонимание, оба чутко переживали это и старались сразу же исправить. В какой-то момент Бурик понял, что наконец-то обрел Лучшего Друга — того, с кем можно быть откровенным до конца и кто будет столь же откровенен с тобой. Друга, который поймет тебя, не задавая лишних вопросов. Неважно, в чем — в радости, в печали или просто в желании посидеть рядом и помолчать о несбыточном.
Перед сном, лежа в постели, Бурик всматривался в трещины на потолке. В полумраке они принимали новые причудливые очертания. В этих линиях Бурик словно хотел прочесть судьбу завтрашнего дня. Порой ему казалось, что еще немножко — и нечеткие линии на потолке сложатся в слово «Добрыня». И тогда сердце переполнялось теплой радостью — ведь завтра они снова увидятся! И будет замечательный день. Потому что на дворе лето, а впереди встреча с Другом и новая сказка заброшенных рельсов.
Он не знал, что в это же время не спал и Добрыня. Лежал, прикрыв глаза, и повторял про себя: «Бурик… Бу-урик… Сашка, ты самый лучший на свете друг. Ты не сбежишь? Не бросишь меня?»
Ожидание новой сказки не покидало мальчишек и ночью. Бурику снился могучий океанский прибой, который ласково подхватывал его, невесомого, и качал на волнах. Это было похоже на полет. Добрыня видел во сне звезды. Столь близкие, что, если захочется, можно достать рукой. И он доставал их — нежно держал светящиеся теплые шары в своих длинных пальцах, ласкал в ладонях, а потом отпускал на волю, словно ручных птиц…
Солнечный зайчик пощекотал Бурику правый глаз. Бурик сморщился и вдруг понял, что утро давно наступило. Он по очереди открыл глаза и оглядел комнату. Солнечный свет бил сквозь занавеску с такой силой, что, казалось, это он, а не легкий ветерок надувает ее, словно парус.
Бурик сел на кровати и прислушался к себе. Радость растаявшего сна не ушла. Она переросла в новую: «Меня ждет Добрыня!»
Добрыня ждал Бурика возле памятника космонавту Волкову — темного гранитного цилиндра, увенчанного мраморной головой человека с задумчивым, мужественным лицом.
— Привет!
— Привет! — Добрыня щурился от яркого солнца. — Ты уже придумал маршрут?
— Еще вчера.
— Тогда пошли?
— Ага… Только мороженого купим.
Рельсы заброшенного пути окружной железной дороги, покрытые слоями ржавчины, раскалились так, что прикоснуться к ним было невозможно. Деревянные шпалы были черными и закопченными. Между ними прорастали трава и жиденький кустарник. Его ветки легонько царапали — словно поглаживали — голые щиколотки мальчишек. Душный воздух был наполнен жарой и терпкими запахами полевых цветов. Стояла солнечная тишина.
— Знаешь, какой-то писатель сказал, что шпалы всегда уже человеческого шага, — сказал Добрыня, доедая мороженое. — Поэтому идти по шпалам всегда неудобно: если через одну — скакать приходится, а на каждую — семенить надо.
— Да ну, ерунда… Мы же идем, и нам удобно.
— Так у нас пока шаг меньше.
— По тебе не скажешь, — усмехнулся Бурик, — вон какие ноги длинные!
— Ну и что? Ноги длинные, а шаг — меньше.
— Так не бывает.
— Значит, бывает.
Помолчали немного. Потом Добрыня сказал:
— Вот сейчас из-за поворота — вжжик! — поезд-призрак выскочит. Ты бы испугался?
— Ага… — честно сказал Бурик, подумав. — А ты?
— Не знаю… Нет, наверное. Чего его бояться?..
— Но ты же не знаешь, кого он возит. Вдруг этих… мертвецов. — Бурик даже поежился от этой мысли.
Добрыня отнесся к сказанному без иронии.
— Нет там никаких мертвецов. Все пассажиры сошли когда-то в Мексике и попали в дурдом.
— Почему? — Бурик невольно хихикнул.
— Они же хором говорили, что приехали в Мехико из Рима на поезде!
— Да. Круто… Но машинист, наверное, остался. Кто-то ведь им управляет.
— Не знаю, может, и остался.
— Так он должен был помереть давно. Значит, все-таки один мертвец там есть.
— А ты что, мертвецов боишься?
— А ты нет? — Бурик остановился и в упор посмотрел на Добрыню.
Тот пожал плечами.
— Я их никогда не встречал. Вот встречу, тогда узнаю, боюсь или нет.
Бурик улыбнулся.
— Я когда в лагерь ездил, у нас один парень был в палате, Максим, классно истории про мертвецов рассказывал.
— Расскажи хоть одну!
— Прямо сейчас? Не… для этого обстановка нужна подходящая, а то неинтересно будет. Их на ночь хорошо рассказывать… — Бурик помолчал. — Слушай, Добрынь, давай с рельсов сойдем.
— ?!
— Ну… мало ли, поезд какой из-за поворота…
— Какой поезд! Путь ведь заброшенный.
Но за поворотом возник не поезд, а дымчатый силуэт старинной водокачки. Она была построена из темно-красного кирпича и украшена декоративными башенками. Со стороны это сооружение напоминало одновременно сторожевую башню рыцарского замка и колокольню средневекового монастыря. Мальчишки невольно остановились.
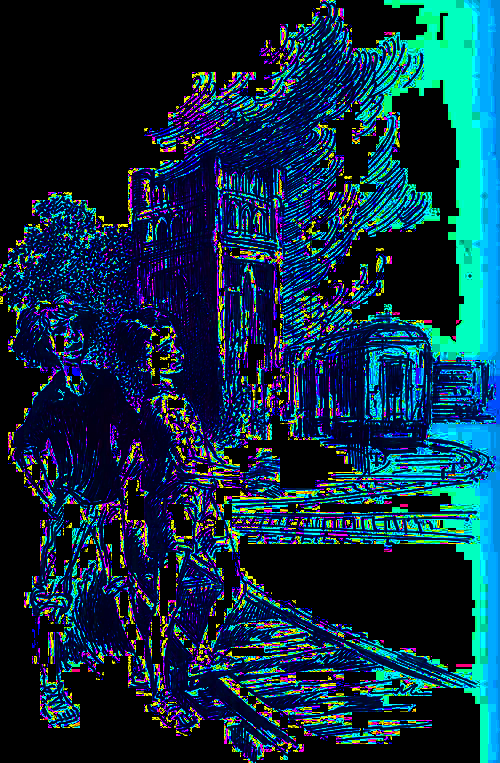 |
— Класс, да? — выдохнул Бурик.
— Супер! Вот бы залезть!..
— Да ну, погонят…
Не сговариваясь, мальчишки свернули с рельсовой колеи и потопали к большим железным воротам, закрывающим подход к башне. Из подворотни раздался разнокалиберный лай — местные прикормленные шавки воспользовались случаем отработать свой кусок мяса. Надо сказать, делали они это с особым остервенением — тем самым, на которое способны только твари злобные и не отягощенные породой.
В железной калитке справа открылось небольшое окошко, откуда показались крупный нос и кусок бороды. Борода зашевелилась и спросила недовольным голосом:
— Чего надо?
— Да мы… в общем… уже ничего… — замялся Бурик.
— Скажите, а что это за башня? — Добрыня отважился взять огонь на себя.
— Где? — в окошке показался глаз и мутно посмотрел на Добрыню.
— Вот эта.
— Это? Водокачка.
— Такая красивая… А сколько ей лет?
Добрыня с Буриком не ожидали ответа. Однако из-за ворот донеслось:
— 1905 года постройки. Архитектор Бенецкий.
— Вот это да… — сказал Добрыня. Причем непонятно по какому поводу — то ли его поразила информация о водокачке, то ли сам факт того, что эту информацию предоставили именно здесь и сейчас.
Бурик тоже осмелел.
— А можно посмотреть? — И тут же добавил смущенно: — Нам для школьного краеведческого музея…
Но не тут-то было.
— Нечего здесь смотреть. Стратегический объект!
В то, что здесь нечего смотреть, было трудно поверить.
— Ну, пожа-алуйста…
— Что, мальцы, с русским языком плохо?
— А ведь образованный человек, — с горечью покачал головой Бурик. — Пошли, Слав.
— Иди-иди, больно умный! Сейчас собак спущу — они вам покажут народное образование.
Почуяв возможную «добычу», шавки из подворотни продолжили нестройный хоровой концерт на тему «Ату!» из популярного цикла «Догнать и загрызть». Ребятам ничего не оставалось как вернуться на заброшенный путь и продолжить путешествие.
Подул легкий ветерок, неизвестно откуда взявшийся в этот душный безветренный день. «Ласковый, — подумал про себя Бурик. — Как он кстати!» После неудачи с водокачкой в душе уже завозились те самые кошки, которые еще не скребут, но уже готовятся выпустить коготки — первый сигнал того, что блаженное настроение начало безнадежно портиться.
Бурик покосился на Добрыню. Тот шел как ни в чем не бывало, насвистывая бессмертную «Yellow Submarine». Вдруг Бурика посетила мысль — простая, как убегающий вперед заброшенный путь, и в тоже время значительная, как столетняя водокачка, построенная безвестным архитектором Бенецким в виде средневековой башни, — мысль негромкая и нежная: «А ведь со мной рядом Друг…» Почему-то она вызвала в душе Бурика прилив неведомой прежде радости, словно сулящей: «Все еще впереди!», — и отгоняющей прочь грусть, не успевшую овладеть душой.
Рядом, на соседних путях, стояли старые вагоны. Товарные, пассажирские, рефрижераторы… Чуть поодаль ржавел вагон неясного назначения.
— Смотри, какой интересный, — сказал Бурик. — Как будто сразу и товарный, и пассажирский.
— Наверное, грузовой, — ответил Добрыня. — Я таких не встречал. Ого, сзади открыто!
Щурясь от солнца, ребята стали вглядываться в полутьму вагона через отсутствующую заднюю стенку. Сквозь зеленоватый полумрак на мальчишек смотрели… танковые гусеницы.
— Бурик, смотри, здесь танк!
Бурик с сомнением хмыкнул.
— Ты чего! У танка башня и пушка. А это, наверное, БМП.
— Что за БМП?
— Боевая машина пехоты, — авторитетно пояснил Бурик.
Добрыня развел руками — сдаюсь, мол, — и молча полез в вагон. Бурик подумал и, сопя, двинулся следом.
— Давай помогу, — Добрыня протянул руку.
Бурик ухватился за протянутую ладонь и… чуть не рухнул вниз. С запястья добрыниной руки на него глядели две маленьких родинки. Бурик смотрел не мигая. Слабость, такая же, как во время болезни, навалилась на него, но тотчас прошла. И с отчетливой резкостью ему припомнился виденный тогда кошмарный сон.
— Ты чего? — Добрыня насторожился.
— Я? — Бурик поднял глаза. — Нет, ничего… Голова закружилась. Извини, редко, но бывает.
— Да ладно…
Бурик крепче вцепился в руку и влез внутрь вагона, стараясь отогнать от себя воспоминание о ночном кошмаре.
— Интересно, откуда он здесь?
— Понятия не имею… Наверное, куда-то везли, а потом бросили за ненадобностью.
— Странно… — Бурик внимательно осматривал находку.
«Танк» действительно оказался потертой военной машиной без башни и пушки. Верхний люк был приоткрыт. Через секунду Добрыня уже был наверху и тянул крышку.
— Полезли?
— Ты что, не надо!
— Боишься?
Добрыня спросил необидно. Скорее участливо: мол, если боишься, конечно, не полезем. Но его вопрос словно подхлестнул Бурика, и он сам не заметил, как взлетел на крышу «танка».
Внутри царил полумрак. Узкое пространство кабины было пропитано запахом застарелой солярки и еще чего-то горюче-смазочного. Расположившись вдвоем на откидном сиденье, друзья принялись тянуть рычаги управления, дергать всевозможные ручки и крутить переключатели. В недрах военного агрегата что-то вздыхало, скрипело и ухало. Наигравшись, Добрыня откинулся на спинку сиденья и сказал:
— Ну, рассказывай.
— Что?
— Про мертвецов.
— Самое место… — Бурик насупился.
Добрыня молчал.
— Мне запомнилась одна история, — нехотя начал Бурик. — Ее Максим перед самым отъездом из лагеря рассказал. Враки, конечно, но все равно интересно. Это было в одном городе недалеко от Москвы. Один парень, ему лет восемнадцать было, шел как-то через кладбище.
— Ночью?
— Нет, днем. Ну, и увидел памятник новый. То есть, раньше там могилы не было, а потом кого-то похоронили. А на памятнике фотография девушки. Очень красивой. Он посмотрел на нее и влюбился.
Бурик взглянул на Добрыню — мол, продолжать дальше или неинтересно? Тот повозился на сиденье, покрутил какую-то ручку на приборном щитке и кивнул — продолжай.
— В общем, на следующий день он опять пришел на кладбище и отодрал фотографию от памятника. И дома над кроватью повесил.
— Вот делать нечего! — не удержался Добрыня.
— Ага… Ну, я же говорю, втрескался он в нее. Потом узнал, что эту девушку убили. Так вот, прошло несколько дней, заходит он как-то в бар. И вдруг видит: за столом сидит девушка, с лицом один к одному, как на фотографии. Он прямо на месте застыл. Ну, потом подсел к ней, познакомились. Заказал вина. А когда вино принесли, официант то ли споткнулся, то ли поскользнулся… короче, пролил немного вина ей на платье. Она расстроилась, чуть не заплакала, встала и хотела уйти. Он сказал, что проводит ее. Она отказывалась, потом побежала. Он за ней. Так добежали до кладбища. Вдруг она резко остановилась, поворачивается к нему, смотрит строго так и говорит: «А фотографию ты мне верни!..»
— А фотографию ты мне верни! — раздался вдруг голос снаружи.
Бурик замер на полуслове.
— Погоди, Джиппо, что ты такой нетерпеливый! Дай-ка я еще раз посмотрю.
Разговаривали двое мужчин, видимо, стоявших неподалеку. Гулкое нутро вагона многократно усиливало звук, доносящийся снаружи, и обмершим от ужаса мальчишкам было отчетливо слышно каждое слово. Тот, кого называли Джиппо, говорил тихо, а его товарищ наоборот, чуть не кричал. И голос у второго был визгливый и неприятный.
— Ну и кто же из них? — спросил визгливый.
— Я почем знаю, — негромко ответил Джиппо. — Как тут поймешь?..
— «Как тут поймешь…» — передразнил визгливый. — Может, у Магистра еще спросим? Прибор-то на что?
— Иди ты… с прибором… твой хваленый прибор сразу зашкалило напрочь. А они еще стрелок напереводили, так теперь черта лысого разберешь… — Джиппо закашлялся.
— Да… дела…
Бурик с Добрыней переглянулись. От страха они покрылись холодным потом, и в то же время было так захватывающе, словно они попали в настоящий шпионский детектив. Интересно, о чем говорят? Пока совершенно не понятно…
— Гляди, Джиппо, взгляд какой!..
— Какой еще взгляд?
— Вот у этого, тощего… так и жжет насквозь.
— Тоже мне, придумал — взгляд у него… Нет, врешь, Сильвио, тут надо, чтоб наверняка. — Джиппо снова кашлянул. — Все, хорош мусолить снимок, дай сюда.
«Имена итальянские, а говорят по-русски без акцента. Точно, шпионы, — решил Бурик. — А у Джиппо голос как будто знакомый… и этот кашель его…»
— Что ты там бормочешь, старик?
— Говорю, койво ловить — что ветра в поле… занятие бестолковое и сущеглупое.
— Это кого же ты глупым считаешь, интересно?! Вот я Магистру доложу!
— Да уж конечно, доложишь… Не сомневаюсь. Ты еще в консистории, помнится, стукачом был…
— Figlio di putana! Io ti tagliero' in parti uguali! Vecchio cretino, ancora non sai, cosa posso fare… carogna!
— Вот бы понять, что он говорит… — шепнул Добрыня.
— Ругается. Угрожает, что убьет и на куски разрежет.
— Ты его понимаешь?!
Бурик часто закивал.
— Тсс… тихо!.. — хрипло прошептал Джиппо. — Да заткнись ты, Сильвио! Мне почудилось — в вагоне какой-то шум… или шелест…
— Вечно тебе что-то чудится, старый мухомор!
— Слушай, Сильвио, ты помоложе, слазай погляди, нет ли там кого.
Бурик и Добрыня, ни живы ни мертвы, прижались друг к другу и только мелко тряслись от страха.
— Одурел, старик?! Сам и лезь, коли охота.
— Никакого толку от тебя. Навязался ты на мою голову. Э-хе…
Снаружи послышалось поскребывание и пошаркивание, кашель приблизился. Что делать?! В этом танке они как в ловушке. Бежать некуда, сейчас их обнаружат!
Добрыня первым пришел в себя, и, видя, что Бурику совсем плохо, взял его за руку, но только наклонился к уху, чтобы ободрить, как шум за стенкой внезапно смолк. Добрыня замер. Шаги стали торопливо удаляться, потом раздался треск раздираемых кустов, затем на секунду все опять затихло.
— Джиппо, ты куда помчался?! — взвизгнул Сильвио. Похоже, для него неожиданное бегство товарища было сюрпризом.
Ответа не последовало.
Повисло томительное ожидание, во время которого ребята сидели едва дыша. Вылезать они не решались, чувствуя, что Сильвио все еще где-то рядом, да и Джиппо, наверное, неподалеку.
— Вот он, герой! — воскликнул Сильвио. — Наконец-то! Ты куда пропал?
— Не твоего ума дело.
— Облегчился-то благополучно? — язвительно спросил Сильвио и захохотал.
— Как заново родился. Черт, тебя бы так приперло…
— Lo stronzo[7]! Кстати, где мальчишки? А, Наблюдатель-прогнозист? Пока ты в кустах заседал, твои подопечные, небось, утопали уже далеко…
Мальчишки подскочили, как ошпаренные. Добрыня пребольно стукнулся макушкой о потолок. Бурик торопливо прижал палец к губам.
— Далеко не уйдут, куда им деваться! Тут где-нибудь крутятся.
— Вот что, Джиппо… после того как ты застегнешь штаны… ха-ха… пойдем расспросим Бороду на водокачке. Они сегодня с ним разговаривали… пускай доложит — о чем.
— Сильвио, послушай, он ведь…
— Andiamo, stupido!
Наступила тишина. Бурик перевел дух.
— Что он сказал? — спросил Добрыня.
— Он сказал: «Пошли, придурок!»
— Похоже, они в самом деле ушли…
Добрыня аккуратно протиснулся в люк и бесшумно выбрался из танка. Поглядел в щелочку между досками, мягко спрыгнул и обошел вагон. Потом снова забрался внутрь.
— Никого нет. Вылезай скорей, Бурик, надо торопиться, они могут вернуться!.. Бурик, ты живой?!
— Нет еще… Мне кажется, у меня отнялись ноги… Беги, Добрыня… — Бурик всхлипнул. Ох, нелегко ему было это предложить: все его существо, наоборот, кричало: «Не бросай меня здесь, Добрыня!»
— Обалдел? Вот еще! Поумней ничего не мог придумать? Ну, не распускай сопли… Ну-ка… — Добрыня схватил Бурика подмышками и потянул вверх. — Уфф… Тяжел же ты, дружище!..
— Спасибо… дальше я сам… ох…
Наконец Бурик кулем вывалился из вагона. Он был бел, как вата.
— Ну, как ты?
— Как будто иголки впились… Отсидел, наверное.
— Ходить можешь? А лучше — бежать? Бурик, удирать нам надо!
— Попробую…
И они побежали. Бурик никогда в своей жизни так не бегал. Первые шаги, правда, дались ему нелегко, зато потом, разогнавшись, он помчался, нет, полетел, словно за спиной выросли крылья. В ту минуту он ничего не боялся, бег целиком захватил его. Бурик легко перескакивал через шпалы, рассекая воздух так, что только в ушах свистело. Он обогнал Добрыню и теперь сам направлял его, уверенно выбирая дорогу.
Очень быстро стемнело, небо закрыли тяжелые тучи, и хлынул дождь. Он налетел внезапно и был злым и сильным — друзья мгновенно промокли до нитки.
Мальчишки свернули с рельсов, взбежали на какую-то насыпь, вновь спустились уже на другой стороне, промчались по оврагу, перескакивая через гудроновые лужицы, вылетели на шоссе, пересекли его, чуть не попав под колеса. Бурик очередной раз свернул с дороги, нырнув в мокрые кусты, Добрыня — делать нечего — прыгнул за ним, и к своему удивлению, они выскочили прямо к скульптуре «Павшим и живым», стоявшей в парке неподалеку от бурикова дома — мраморный ангел высоко поднял одно крыло и скорбно опустил другое.
Мальчишки остановились перевести дух. Добрыня, как ни странно, запыхался гораздо сильнее Бурика. Мокрый ангел смотрел на ребят сочувственно.
— Идем ко мне, — предложил Бурик. — Хотя погоди… у меня они наверняка подслушивают… Что же делать? — в отчаяньи он закусил губу. Бурик чувствовал, что если они с Добрыней сейчас разойдутся, то, может быть, не встретятся уже никогда. А этого никак нельзя было допускать!
— Дай сообразить, — сказал Добрыня, — туда, где мы обычно бываем, идти нельзя… Стоп! Есть одно место. Пошли!
— Куда?
— К бабушке.
— Чертовой?
— Дурак. К моей бабушке.
— А-а… Н-н-неудобно, — ответил Бурик, стуча зубами от холода.
— Неудобно спать на потолке — одеяло сваливается, — парировал Добрыня, взяв Бурика за руку и увлекая за собой. — Бабушка все равно на даче. А у меня есть ключи от ее квартиры.
— Одного я, Сильвио, не пойму, хоть убей — за каким бесом ты этого водокачечника приплел?
— Ты глуп, старик. Чтобы боялись. Чтобы они шарахались каждого прохожего, чтобы вздрагивали от случайного шороха, чтобы пугались своего отражения в зеркале. Кончится тем, что они будут бояться друг друга…
— Хорошо, положим, детей мы напугали. А дальше-то?
— Нет, Джиппо, как ты не понимаешь! Мы их не пугали, мы просто открыли свои карты. Мы играем честно.
— Так и слышу медоточивый голос Магистра…
— Ну и что? Да, это слова Магистра! И нечего тут иронизировать. Магистр уверен: когда койво узнает, что мы за ним охотимся, он быстрее себя проявит.
— О, да! Тут Магистр может не сомневаться, койво себя проявит! Он так себя проявит, что Магистр еще десять раз пожалеет о том, что разбудил его, помяни мое слово.
— Ты еще порассуждай тут!.. Старый гном, ты должен радоваться, что тебе простили прежние вольности и доверили ответственное дело.
— Уж как я рад! Видишь, прямо пляшу от восторга. Так и передай Магистру — радость Джузеппе, мол, не имеет границ, он поет и танцует от счастья.
— Паяц! Ты плохо кончишь, Джиппо, теперь уж
Оставляя за собой цепочки мокрых следов, Бурик и Добрыня вошли в подъезд.
— Брр… Ну и погодка, — Добрыня надавил кнопку лифта и зябко передернул плечами.
Бурик молчал, мелко трясясь от пронизывающего холода и пережитого страха, который теперь накатил на него с новой силой.
Войдя в квартиру, Добрыня решительно снял промокшую футболку, обнажив худую конопатую спину.
— Чего стоишь? Снимай, а то простудишься.
Бурик нехотя стянул футболку.
— У меня и шорты промокли.
— Тоже снимай.
Добрыня снял влажные кроссовки, носки и босиком потопал в комнату.
— Заходи, располагайся.
Бурик вошел, еще раз поежился от начинающего уже отпускать холода. Посмотрел на мокрую одежду, подумал, что высохнет она нескоро. И тут ему в голову пришла идея.
— Слушай, а может, ее в стиральной машине отжать? Тут есть стиральная машина? — Пережитый полчаса назад стресс требовал от Бурика какого-нибудь конструктивного поступка.
Добрыня удивленно посмотрел на него. Потом сказал:
— Да, кажется есть. «Эврика-5». Еще прошлого века, но с этой… как ее… боковой загрузкой. В общем, с иллюминатором на боку. Бабушка называет ее «Еврейка-5». Пойдем, она на кухне стоит. Заодно чайник поставим.
— Почему еврейка? — спросил Бурик.
— А у нее характер противный, как у бабушкиной соседки, Берты Ароновны. Тетка она хорошая, но когда не в настроении, орет на всех, как больной ишак.
Пока Добрыня возился с электрическим чайником, Бурик деловито открыл крышку иллюминатора с концептуальной надписью: НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ БАРАБАНА! «Что, сама блокироваться не может?» — подумал Бурик, но ничего не сказал. Осмотрев внутренности барабана, он бросил туда свою футболку, шорты, носки и вопросительно посмотрел на Добрыню.
— Мои в коридоре остались. Принеси, будь другом. А я пока чай заварю.
Когда Бурик вернулся на кухню, Добрыня в одних трусах колдовал над чайником. Бурик положил в стиральную машину промокшие добрынины вещи, закрыл крышку и спросил:
— Что дальше?
— Дальше? Надо шланг подцепить.
— А она что, не автомат?
— Она? — Добрыня почесал левую щеку. — Как тебе сказать… Написано «квазиавтомат», но…
— Понятно, — сказал Бурик. — Давай подключать.
Добрыня открыл шкафчик под раковиной и вынул длинный резиновый шланг. Найдя сбоку машины штуцер с резьбой, он навинтил на него один конец шланга, а другой опустил в раковину. Бурик тем временем раскрутил электрический шнур и воткнул вилку в розетку.
— Может, лучше вручную выжмем? — неуверенно предложил Добрыня. — Она вообще-то так себе отжимает. Бабушка говорила…
— А техника на что? Все равно у нас так сухо не получится.
— Ну, давай…
Добрыня с видом капитана, берущегося за штурвал, схватился за ручку управления, лихо повернул ее до отметки «Отжим» и шарахнулся в сторону.
Машина прокашлялась, взвизгнула и заплясала по кухне шустрее балерины. Бурик испуганно отскочил.
— Что это с ней?
— Я же говорил… — растерянно ответил Добрыня.
Стиральный агрегат, пыхтя и подвывая, как Николай Басков на сцене, метался по кухне, пытаясь напрыгнуть то на Бурика, то на Добрыню. Сливной шланг выдернулся из раковины и извивался, словно кобра в белой горячке, отчаянно плюясь водой во все стороны.
— Держи ее!
— Ты что, я ее боюсь!
— Эх… — Добрыня поплевал на ладони. — Была не была.
Он примерился и запрыгнул на машину сверху, пытаясь своим тщедушным весом остановить бешеную скачку. В этом неравном поединке победила машина.
— Вилку из розетки тяни! — крикнул Добрыня, лежа на полу.
— Точно…
Машина охнула раненым зверем, дернулась последний раз и затихла. Бурик осмотрелся.
— Давай тряпку, — деловито потребовал он. — Всю кухню залили.
— Посмотри под раковиной. — Добрыня зажег газ и поставил на плиту сковородку.
После вынужденной влажной уборки Бурик открыл «иллюминатор». Белья не было! Барабан был на месте, но мальчишечье барахло словно просочилось через мелкие дырочки, которыми он был усеян.
В Бурике проснулся дух исследователя. Он просунул голову в барабан, и тут на него сверху свалился ворох полусухого белья.
— Есть контакт… — гулко объявил увешанный бельем Бурик из недр стиральной машины.
Он начал вынимать из барабана сносно отжатые вещи и развешивать их на веревке. При этом он так и не смог обнаружить одного носка. Тщательное обследование барабана успеха не принесло.
— Куда он мог деться? — сокрушался Бурик. — Мистика какая-то… Не могла же она его съесть.
— Она все могла, — невозмутимо ответил Добрыня, открывая холодильник. Оттуда он извлек пачку сливочного масла, отрезал ножом щедрый кусок и кинул его на сковородку. Сковородка недовольно зашипела.
Добрыня умело разбил четыре яйца.
— Глаза протыкать? — спросил он, повернувшись к Бурику.
— Что? — не понял тот, глядя на нож в руках Добрыни.
— Ясно, — сказал Добрыня и вновь принялся колдовать над плитой.
Яичницу ели в две вилки прямо со сковородки.
— Вкусно? — спросил Добрыня.
— Ага. Только вот… — замялся Бурик.
— Одни говорят: «пригорело», — назидательно ответил Добрыня, — а я скажу — поджарилось.
— Может, чаю нальешь?
— Можно…
Ребята перебрались в комнату, с ногами залезли на древний диван с валиками и стали пить чай, заваренный Добрыней в белом фарфоровом чайнике с красными горошинами. Бурик согрелся, и пережитый недавно ужас отступил на задний план.
Дождь неритмично барабанил о карниз, а из-за стены, как бы независимо от этого, слышалось размеренное шуршание: словно кипел суп в кастрюльке. Хотя, конечно, это тоже был всего лишь дождь…
— Как ты думаешь, что им от нас было нужно?
— Кому? — отрешенно спросил Бурик. Ему не хотелось говорить. Хотелось пить чай и молчать ни о чем.
— Ну, этим дядькам… Сильвио и… этому… как его…
— Джиппо, — подсказал Бурик, глядя перед собой.
— Да, Джиппо. А вовремя ему в кусты захотелось. Еще чуть-чуть, я бы сам в штаны наложил.
— Ага… я тоже, — признался Бурик. — Знаешь, мне в тот момент как раз вспомнилось, как когда-то давно… я совсем маленьким был… мы во дворе играли, потом поссорились. Там был такой Пашка Шакалин. Он был постарше года на три, но часто играл с нами. И все время кого-нибудь обижал. Так вот, дело чуть до драки не дошло… я, знаешь, драться совсем не умею, но тогда, помню, как-то собрался, даже настроился. Думаю: Пашка меня, конечно, изметелит, но и я ему пару раз успею врезать. От всей души. А тут меня вдруг приперло… Ну, ты понимаешь…
Добрыня серьезно кивнул.
— Причем, довольно сильно… — продолжил Бурик. — Я сразу зажался весь… Мне ужасно стыдно стало. Подумал, что Пашка меня сейчас перед всеми засмеет. Это еще хуже, чем если б он меня побил.
— И что? — участливо спросил Добрыня.
— Сам не пойму, каким чудом удержался. Странно так вышло. Тут как раз завоняло
— А ты?
— А что я? Да ничего. Даже расхотелось почему-то. А Пашка-говнюк потом три дня во дворе не появлялся. Болел чем-то.
— Может, вы съели чего?
Бурик пожал плечами.
— Не знаю… может, и съели.
Добрыня о чем-то задумался. Бурик допил чай и поставил чашку на стол.
— Слушай, Добрыня, они ведь о нас говорили!.. Что нам теперь делать?
— Не знаю… Влипли мы с тобой, Бурик… Надо быть теперь очень осторожными. Ни с кем не разговаривать, особенно о наших делах. И, главное, держаться друг друга… А что такое «койво», ты не знаешь?
— Знакомое слово, — ответил Бурик. — Где-то читал, но сейчас не могу вспомнить…
Добрыня потянулся за чайником. Его запястье на мгновение оказалось у Бурика перед носом. Увидев близко две родинки, Бурик неожиданно отшатнулся и тряхнул головой.
— Ты чего? — спросил Добрыня.
— Да ничего… У тебя эти родинки давно? — он тронул добрынино запястье.
— Всю жизнь… — Добрыня оторопел.
Бурик смутился — действительно, получилось глупо. Нужно было что-то сказать.
— Ты только не подумай чего. В смысле, не подумай, что я сошел с ума. Просто… я даже не знаю, как рассказать, а вот сегодня увидел и… — он замялся.
— Что ты увидел? Слушай, я ничего не понимаю…
— Я тоже… Я недавно видел сон. Очень живой. Там была… беда. А потом кто-то протянул мне руку и спас меня. И на этой руке были такие же родинки. — Бурик посмотрел на Добрыню. — И мне кажется, рука была такая же.
— Моя, что ли?! — в сгущающемся полумраке комнаты широко открытые глаза Добрыни будто искрились.
— Я не знаю… Но ты меня спас. Или… не ты? Мне почему-то кажется, что ты.
Квартира Стаса Наумова, тридцатипятилетнего доцента исторического факультета МГУ, располагалась на первом этаже старого пятиэтажного дома. Окна стасовой комнаты, украшенные ажурными решетками (украшение, конечно, эстетически весьма сомнительное, но на сегодняшний день необходимое), выходили во двор. Во дворе росли высокие клены, закрывавшие солнечный свет, отчего в комнате было всегда темно и холодно. В жаркие дни прохлада комнаты была приятна, зато в начале осени и в конце весны, когда отопительный сезон еще не начинался либо уже заканчивался, теплолюбивый Стас пропадал от холода. Не помогали никакие обогреватели — ни старый, еще советский, от которого болела голова и несло паленым, ни новый масляный, который выбивал пробки с легкостью профессора Мальгинова, славившегося на кафедре виртуозностью в открывании шампанского.
В промозглые дни Стас зажигал на кухне все горелки, надевал два свитера и расхаживал по комнате, обхватив по-наполеоновски себя за плечи, не в силах ничем заняться. Рассохшиеся паркетины под потертым ковром скрипели при каждом шаге. Помучившись так, он вдруг срывался и ехал к своему другу Вовке Шубову.
И вовкиного отца, Виктора Петровича Шубова, историка-археолога с мировым именем, и самого Вовку Стас знал давно — со времен археологических раскопок, когда Вовка был еще мальчишкой, а Стас только готовился защитить кандидатскую. По-настоящему их сдружила беда, которая потянула за собой цепь невероятных событий…
На перроне провинциального городка Виктор Шубов, вовкин отец, увидел загадочный поезд, состоявший из древнего паровоза и трех вагонов старинного образца. Весь этот странный состав медленно и почти бесшумно двигался по рельсам. Шубов внезапно вскочил на подножку и на глазах у всех вместе с поездом исчез в белом тумане, застилавшем рельсы. Позже он не мог объяснить, что заставило его это сделать…
Мама Вовки умерла давно, когда ему не было пяти лет, так что Вовка остался сиротой — кроме Стаса, ученика Виктора, позаботиться о нем было некому. И Вовка со Стасом отправились на поиски отца. Много разных приключений пришлось им пережить — увлекательных, опасных, трагических… По счастью, все завершилось благополучно: эта странная история окончилась в Италии, в городе Пиза. Отец нашелся, а еще один участник той экспедиции — журналист Юра Топорков — написал о ней целую книгу[8]…
Теперь Вовка вырос. Пойдя по стопам отца, не без влияния Стаса, он поступил на истфак Московского университета и благополучно его окончил.
Стас любил бывать у Шубовых. У них ему было тепло и уютно. Часто Шубова-старшего дома не оказывалось, — он был то в командировке, то на симпозиуме, то на раскопках, — так что Вовка хозяйничал один. Открыв дверь, он радостно говорил: «Здорóво, Стас, проходи! Молодец, что зашел», — и лицо его при этом расплывалось в такой добродушной улыбке, что Стас тут же с ним соглашался: «Конечно, молодец», — и сам начинал глупо улыбаться. Оба они щедро впускали друг друга в свои жизни — проходи, располагайся. Будь как дома.
Вовка шел на кухню и включал электрическую плиту. Стас плелся следом, устраивался на табуретке и начинал раскладывать на столе принесенные гостинцы, открывать появляющиеся как из волшебного ларца, бутылки. Вовка бросал беглый взгляд на стол и лез в холодильник, уже зная, что приготовить на ужин.
Вовка умел готовить и делал это с удовольствием. Особенно если было кому оценить его искусство. Стас же был большим гурманом и вообще любителем поесть. Он тайно завидовал Вовке самой белой завистью, поскольку максимум на что сам был способен — это аккуратно порезать сыр.
Точности ради надо заметить, что в гостях у Вовки Стас бывал не только в холодную погоду.
В один из жарких летних дней маленький бессильный вентилятор на вовкиной кухне безуспешно пытался разогнать духоту и навеять прохладу. Вовка извелся от жары и давно уже расхаживал в одних трусах. Впрочем, в квартире кроме них со Стасом никого не было, а Стас к такому зрелищу был привычный.
Вечерело. Ужин подходил к концу. На холодильнике приглушенно бубнил телевизор, на который никто не обращал внимания.
Стас не спеша разлил по стаканам остатки «Останкинского темного».
«Холодное пиво сегодня очень кстати, — думал он, чокаясь с Вовкой. — Освежает и бодрит… «Останкинское темное» — всем пивам пиво. Однако не забыть бы поговорить о деле. А то ведь сейчас в сон потянет…»
Стас пришел к Вовке не просто так, а по делу. Но установившихся традиций ломать не хотелось, и он не торопился начинать разговор. Вовка в этот раз угостил друга похожими на румяных поросят запеченными в духовке сардельками по-бюргерски. Они как нельзя лучше подходили к темному пиву, но никак не к серьезной беседе.
«…новости культуры, — донеслось из телевизора. — Сенсационное сообщение из Австрии передает наш специальный корреспондент в Вене Елена Требунцова». На экране возникло лицо молодой женщины с огромными глазами цвета спокойного утреннего моря. Увидев такие глаза, Вовка машинально увеличил громкость.
— Вчера вечером были закончены раскопки старинного кладбища для бедняков, которое вот уже более века покоилось под шумной венской мостовой. Раскопки проводились с целью поиска останков знаменитого итальянского композитора Антонио Виральдини. И вот могила итальянского гения найдена. Однако при ее вскрытии обнаружилось, что среди останков отсутствует череп композитора. Комиссия по переносу праха в замешательстве…
— Череп… — задумчиво пробормотал Вовка.
— …который, как известно, за несколько лет до своей кончины уехал из Венеции в Вену, спасаясь от травли, организованной итальянской музыкальной общественностью и католическим духовенством. Перед отъездом он распродал партитуры всех своих сочинений, — продолжала журналистка под звуки клавесина, а камера тем временем показывала кордон из полицейских машин на фоне раскопок и растерянные лица каких-то представительных австрияков в костюмах с галстуками — видимо, городской администрации. Потом, словно смутившись, камера перешла на живописные виды Вены.
— …Виральдини написал более четырехсот произведений. Но известность ему принесли сочинения для солистов, хора, оркестра и солирующих инструментов — во всем мире до сих пор не теряет популярности кантата «Четыре эпохи» для виолы d’amore, камерного оркестра и хора мальчиков. Однако в Вене композитор умер в полной безвестности и нищете и был похоронен за казенный счет. Год назад в Италии была обнаружена полная партитура доселе практически неизвестного сочинения Антонио Виральдини — оперы-оратории «Ликующая Руфь». Это произведение мгновенно завоевало сердца любителей классической музыки. По просьбе итальянского комитета по культуре правительство Австрии разрешило провести раскопки на территории бывшего кладбища у собора Святого Стефана, где, судя по архивным документам, был захоронен Виральдини. Раскопки приуроченык трехсотлетию со дня рождения композитора. Разрешение на эксгумацию и перенос праха в Италию было получено с огромным трудом: «Кто не оценил Виральдини при жизни, тот не оценит и после смерти», — заявляла австрийская сторона…
— Бедняга, — сказал Стас, заглушив журналистку. — При жизни травили, спокойно помереть не дали, так еще и через триста лет мстят…
— Как ты сказал? — Вовка явно что-то припомнил, — через триста лет…
Стас секунду подумал.
— Вов, остынь… Все уже кончено десяток лет назад.
— Ты прав… — Вовка почесал лоб. — Но что-то не нравится мне все это.
Стас усмехнулся:
— Поезжай в Вену — там все и выяснишь.
— Ага… На какие шиши?
— То-то и оно. Знаешь, Вов, мне тут предложили…
«В Хабаровском крае завтра ожидаются дожди», — громко перебил его забытый телевизор.
Вовка потянулся к пульту, чтобы выключить, но Стас сказал:
— Погоди, узнаем, что в Москве на завтра обещают.
— Да ничего нового — такая же жара. Скажи, тебе завтра с утра в университет?
— Ага, а потом…
— Слушай, оставайся у меня! Я тебе у отца постелю. В самом деле, чего тебе через всю Москву тащиться! А с утра вместе поедем…
«О чем-то я поговорить хотел… — думал Стас, засыпая. — Ведь о чем-то важном…»
С утра, пока Стас отмокал и плескался в ванне с пеной почти до потолка, Вовка варил кофе. Он готовил замечательный кофе по-турецки. В турку наливал две неполные кофейные чашки воды, засыпал три с верхом ложки свежемолотого кофе и две — сахара, все тщательно перемешивал и ставил на слабый огонь.
Пока кофе закипал, Вовка взял пульт, включил телевизор и… застыл на месте. Хотя на экране в тот момент не было ничего особенного — по первому каналу шла реклама, и красивая девица выливала себе на голову какой-то суперновый шампунь. Но не это захватило вовкино внимание — фоном для незатейливого видеоряда служила неземной красоты ария. Вовка не был музыкантом, однако простая мелодия пленила его с первых же звуков, а брильянтовой чистоты голос певицы завораживал и манил… Но тут реклама кончилась — очевидно, девица успела уже изрядно намылиться.
Сзади раздалось шипение.
— Проклятье! Кофе убежал!!
От досады Вовка чуть не грохнул пультом о стену.
— Ты что орешь? — высунулся из ванной Стас, весь в клочьях пены.
— Чёртов ящик! Стас, хочешь, я тебе телевизор подарю?
— Вот еще, зачем? Там одна реклама… Я его из принципа не смотрю, — ответил Стас и пошел домываться.
О своем деле Стас вспомнил только в метро. Был час пик. В битком набитом вагоне под грохот колес трудно разговаривать, тем более на серьезные темы, однако Стас честно попытался.
— Вов, помнишь Андрея Щербакова?
— Кого?
— Андрея. Он еще в ФСБ работал, потом ушел.
— Где?!
— В ФСБ! Федеральной службе безопасности.
— Ну да, конечно. Академик, «Отец информационного оружия», «Собирательный образ хакерского фольклора»… Он еще жив?
— Еще как! Жив-здоров. И даже упитан…
— И где он сейчас?
— Да какая разница! В Госпожнадзоре. Только не переспрашивай меня, что такое Госпожнадзор…
— Не буду. Звучит как «Держопера».
— Какая «жопера»? — не расслышал Стас. — Ох, простите! — сказал он кому-то, развернувшись вполоборота, — это я не вам.
— Державна опера! Государственная опера по-украински…
— Чего ты меня все время с мысли сбиваешь! Так вот, Щербаков попросил меня проконсультировать одного своего бывшего коллегу…
— Какого калеку?
— Вовка, ты издеваешься! У меня руки стиснуты, а то дал бы тебе по башке!
— Стас, я не слышу ничего! Шумно очень…
— Меня сегодня приглашают на Лубянку!!!
Некоторые пассажиры оглянулись. Вовка от неожиданности отпустил поручень, за который держался, и тут же начал заваливаться.
— Тише! — сказал он, восстановив равновесие. — Чего орешь? Стас, ты уверен, что выбрал самый подходящий момент, чтобы об этом сообщить?
— Нет. Но другого, боюсь, не представится…
— На весь вагон ведь заорал… И зачем приглашают?
— Да я ж тебе говорю — дать консультацию!
— Какого плана? — осторожно поинтересовался Вовка.
— Да кто их там поймет… Андрей сказал — документы какие-то нашли, позарез требуется историк.
— А, историк… — сказал Вовка как будто даже с облегчением.
— Какие документы, где нашли — ничего толком не объяснил! Ты же знаешь Андрея. Благородный беспорядок — это его стихия.
— Еще бы! Брось ты это дело, Стас. Пошли их… подальше… В смысле вежливо откажись. А то припашут тебя, так потом гроша ломаного не заплатят.
— Наоборот! Это-то как раз я выяснил. Заключают с тобой разовый контракт. Официально. И деньги неплохие… Только, пожалуй, ты прав — лучше отказаться. Что-то мне это все меньше и меньше нравится.
— Да ты что, Стас? Тебе деньги не нужны?!
— Нет, деньги мне как раз нужны… Только… не люблю я эту организацию…
— Ну и не люби себе на здоровье! В конце концов, ты же не стукачом к ним оформляешься. Поглядишь бумажки их вонючие, выдашь по ним заключение, делов-то… А надо будет что-нибудь откопать — я тебе помогу, пока не очень занят. В крайнем случае отца привлечем, как из Германии вернется.
— Ладно, сами справимся.
— Конечно, справимся! Чтоб мы с тобой да не справились…
«Осторожно, двери закрываются…» — вмешался в разговор женский голос из динамика.
— Ого, мне на следующей выходить… Короче, Стас, смело шагай в свое Ка-Гэ-Бэ и не забывай — я с тобой… мысленно… Давай вечером у Ашота посидим, расскажешь, как там и что… Ну, счастливо! Ни пуха тебе…
— Иди ты к черту!.. Спасибо, Вов.
День был жарким и насыщенным. В суматохе дел Вовку неотлучно преследовала мелодия услышанной утром арии. «Вот привязалась! — с досадой думал он. — Как теперь вытравить?..»
Вечером позвонил Стас. На нетерпеливое вовкино «Ну как там?» он тихо ответил: «У Ашота, как и договаривались. Подъезжай к восьми», — чем только еще больше раздразнил вовкино любопытство.
Маленькое кафе располагалось неподалеку от стасова дома. Его содержала армянская семья. Стас и Вовка с некоторых пор стали там завсегдатаями: здесь было по-армянски колоритно, но недорого, вкусно и очень спокойно. Когда Вовка вошел в кафе, Стас уже ждал его за дальним столиком в углу.
— Так-то вот оно, Вова, — начал Стас, когда Вовка уселся напротив. Стас имел привычку начинать с заключительной фразы, и Вовка решил не перебивать его, чтобы не сбить с мысли. Но тут к их столику подошел горбоносый и смуглый хозяин кафе.
— Что будем кушать, уважаемые?
— По шашлычку? — спросил Стас у Вовки. Вовка кивнул.
— Ашот, два шашлычка, если можно.
— Канэшно, можно, дарагой, о чем речь! — гортанно воскликнул Ашот.
— Не очень жирный?
— Какой жирный?! Парной баранина!..
— Ну и… бутылочку каберне.
— Для начала, — добавил Вовка. — К мясу оно, конечно, красного надо… хотя я бы сейчас шампанского выпил. В такую жару бокал брюта со льдом очень бы не помешал.
— Вай, нэт брута — сладкое есть.
— Не, сладкого не надо. Остановимся на каберне.
Когда Ашот, приняв заказ, удалился, Стас продолжал:
— Так вот… Андрей — зараза такая — отрекомендовал меня, археолога, как одного из лучших документоведов истфака МГУ.
— Стас, не прибедняйся. С документоведением у тебя все в порядке.
— И ты, Брют! Представь, Вов, сценку: захожу я в назначенный кабинет, постучав предварительно, только «здасьте» говорю, а мне чуть не на шею кидаются: «Станислав Игоревич! Голубчик!! Вас-то нам и не хватало!» — и суют пачку документов, уже любезно переведенных на русский… Оцени состав: заметки одного англичанина, посетившего Венецию (XVIII век), копии редких архивных документов о философских исследованиях композитора Виральдини, его дневник…
— Он еще и философствовал?
— Оказывается, еще как! Причем, на темы глобального мироустройства. Неплохо, да?
— А что, столь уважаемое ведомство не могло пригласить для консультации кого-нибудь из консерватории? Ведь ты же не музыкант.
— Я об этом тоже спросил. Но мне недвусмысленно дали понять, что здесь проблема… так сказать, немузыкального жанра. И документы эти к музыке отношения не имеют… Блин, еще один Джордано Бруно на мою голову! Ты слушай дальше… На чем я остановился?
— На глобальном мироустройстве.
— Ага… Но добила меня пачка фотографий вкупе с описательными приметами двух мальчишек лет двенадцати.
— Что за фотографии? Тоже из Венеции восемнадцатого века? — пошутил Вовка.
— Наблюдательного типа, — серьезно ответил Стас. — Ушли, пришли, гуляют, играют… Мальчишки как мальчишки. Самые обычные, современные. Много фотографий с железнодорожных путей — чаще всего мальчишки играют именно там.
— Ничего не понимаю…
— Аналогично, коллега! — всплеснул руками Стас. — Какое совпадение… Мне рассказали, что все это добро изъято у одного гражданина США с итальянской фамилией, который был в столице нашей Родины проездом из… Венеции в Милан.
— Ну, для бешеной собаки сто верст не крюк.
— Да, маршрут тот еще. На Шереметьевской таможне его задержали. Решили почему-то, что наркотики везет…
— Но вместо наркотиков, — перебил его Вовка, — при нем нашли весь этот странный набор — от Виральдини до наших дней?
— Вовик, тебе бы сыщиком работать. Точно! На таможне сочли, что это в компетенции ФСБ. Быстренько сняли копии и передали туда.
— А американец?
— А что американец? Полетел себе в Италию. Извинились перед ним и отпустили с миром. Вот тут-то, Вов, самое интересное. По прибытии в миланский аэропорт «Мальпенса» наш американец был мертв!
— Как мертв???
— А вот так! Остановка сердца. Причем внешне это никак не было заметно — будто спал. Может, он и умер во сне, о счастливчик.
— Представляю себе, картинка — из самолета все уже вышли, и стюардесса стала будить спящего пассажира… н-да… каково ей было в тот момент.
— Да, не позавидуешь. Впрочем, она небось и не такое видала — на эту профессию берут женщин с крепкими нервами.
Друзья замолчали. Ашот принес подрумянившиеся шашлыки, которые отвлекли их от мрачных мыслей.
— Судя по твоему рассказу, этот американец был просто маньяк, — сказал Вовка, когда с шашлыками было покончено.
Стас с сомнением покачал головой.
— Фотографии пронумерованы и разложены, если я что-то понимаю в каталогизации, в строго определенном порядке. Редко мальчишки сняты по отдельности, чаще они попадали в кадр оба, причем, на каждой фотографии указано расстояние, на котором они находятся друг от друга. Чуть ли не с точностью до сантиметра. Если это маньяк, то странная у него мания.
— «К нам сегодня приходил некропедозоофил. Дохлых маленьких зверушек он с собою приносил», — с выражением процитировал Вовка.
— Знаешь, ты стал довольно квалифицированно сарказничать!
— У меня хорошие учителя. Точнее, учитель один, но в статусе доцента. К тому же обучение бесплатное…
— Пора брать с тебя по двадцать баксов за урок, — проворчал Стас.
— Но ведь это грабеж! — картинно возмутился Вовка.
— Ничего подобного — это надбавка преподавателю за вредность.
— За вредность преподавателя… Ладно, я подумаю. — Вовка улыбнулся. — У этого итало-американца фамилия случайно не Педрини?
— Нет. Разве что девичья… Фотографировали с находящейся неподалеку пятнадцатиэтажки, — продолжал Стас. — «Метровым» объективом.
— Каким-каким?
— Большим! Мне сказали, что это профессиональная оптика. А в приметах несколько раз упоминается слово «койво»…
— Как?
«Coyvo» — написал Стас на салфетке.
— Что-то знакомое… И что это значит?
— Ты меня спрашиваешь? Я вообще ничего не понимаю, у меня голова кругом идет…
— Стас, не паникуй. Я с тобой.
— Кто-то, кажется, обещал мне помогать.
— Я и не отказываюсь.
— Вот и славно…
Ашот включил музыкальный центр, и кафе наполнила развеселая армянская музыка. Песня была зажигательная, плясовая, и сидящие за столиками непроизвольно стали притопывать в такт каблуками. Ашот за стойкой пританцовывал. А из кухни выплыла темноволосая дама жизнеутверждающих форм — Нана, жена Ашота, — и легко закружилась в танце. Стас с Вовкой в восхищении стали хлопать в ладоши.
Нана несколько раз проплыла мимо их столика, а затем решительно взяла обоих за руки и повела в круг. Деваться некуда — Стас и Вовка покорно заплясали. Сначала неохотно, а потом все более увлекаясь. Несколько танцев подряд они азартно кружились вокруг Наны, хлопая и вскрикивая.
— Знойная женщина!.. — отдуваясь, сказал Стас, когда Нана их отпустила, и они с Вовкой вернулись на свое место. — Мечта поэта!.. Да! — вспомнил он. — Мне тут Юра Топорков позвонил.
Вовка обрадовался:
— Как у него дела?
— Да ничего — работает в издательстве. Грузчиком на складе…
— Это после журфака?! — удивился Вовка.
— Да… Зато сотрудничает с режиссером Вершининым.
— Ого…
— Помог ему написать сценарий фильма про поезд-призрак. Рассказал мне в двух словах… Говорит, съемки в самом разгаре.
— Ну все, я рыдаю! Теперь у нас есть свой знакомый сценарист. — Вовка улыбался.
— Ладно тебе. Все равно фильм получится говно.
— Да ну?..
— Извини, это факт, претендующий на звание медицинского. Ну какой из нашего Юрки сценарист?
— И что же в этом фильме такого?
— Да «такого» в нем как раз ничего! Поезд-призрак врывается в наш мир через заброшенную ветку, идущую от завода «Красный лапоть». Паровоз кричит «у-у-у!..» А все разбегаются от него в разные стороны и кричат «а-а-а!..» При этом кто-то непременно спотыкается о шпалы… — Стас в лицах изображал, как гудит поезд и как удирают от него в панике люди. Он был в ударе и показывал замечательно — Вовка хохотал до упаду.
Тем временем веселье в кафе постепенно сходило на нет — музыка сменилась на более спокойную, Нана скрылась на кухне. В небольшом зале танцевали несколько пар.
— Послушай, Вов, — серьезно сказал Стас, как-то сразу изменившись в лице, — подумай хорошенько, стоит ли тебе ввязываться в эту историю? Боюсь, у меня уже нет выбора. Но ты…
— Можно подумать, выбор есть у меня, — пробормотал Вовка.
— Старый я идиот. Никогда не прощу себе, если из-за меня с тобой что-то случится…
— Стасик, — задушевно сказал Вовка, — ничего страшного пока не произошло. К тому же вспомни, мы с тобой выбирались из положений и похуже — из-под завала в Пизанских горах и из-под дула пистолета… мне даже пришлось пройти по поезду-призраку с черепом в руках… Сколько лет с тех пор прошло?
— Тринадцать, — тихо ответил Стас. Вовка не любил вспоминать о тех приключениях, и Стас знал об этом.
— К тому же, — продолжал Вовка, — сам знаешь, друзья — это «не только ценный мех»… на то они и нужны…
— Чтобы ввязываться во всякие сомнительные проекты?
— Туда тоже можно, — улыбнулся Вовка и снова чокнулся со Стасом.
На мгновение наступила тишина, и в этой тишине из висящих на стене часов вдруг полилась мелодия. В ней Вовка с удивлением узнал ту, что неотвязно следовала за ним весь день. Он возбужденно поднял палец:
— Что это? Что они играют?!
Стас удивленно посмотрел на него, потом на вычурные настенные часы корейского производства.
— Половину десятого… Чего ты орешь?
— Я пока еще в состоянии определить, который час! — рассердился Вовка. — Я тебя про музыку спрашиваю. Что это за музыка?
— Может, тебе еще композитора и номер опуса назвать? Нашел у кого спросить…
— Погоди… композитора…
Похоже, Вовку посетила очередная идея. Он решительно поднялся и подошел к барной стойке.
— Ашот, ты не мог бы мне помочь?
— Канэшно, дарагой! — улыбаясь, ответил бармен.
— Можешь дать мне поглядеть инструкцию вон от тех часов? У нас тут спор зашел, что за музыка там зашита.
— Нана-а! — дурным голосом закричал Ашот в сторону кухни. Далее последовала длинная тирада на армянском.
Через минуту Нана вынесла розовую пластиковую папку с бумагами и передала Ашоту, весело подмигнув Вовке, прежде чем скрыться на кухне. Перебрав бумаги и найдя инструкцию, Ашот отдал ее Вовке.
— Вот спасибо! Сейчас верну.
Вернувшись к столу, Вовка отыскал раздел «Музыкальное сопровождение боя» и начал внимательно его изучать.
— Во, нашел! «В качестве музыкального сопровождения боя часов для вас собраны три мировых классических шедевра: Джи-точка-Верди, мелодия «Застольной песни» из оперы «Травиата», А-точка-Виральдини, мелодия арии Руфи из оратории «Ликующая Руфь» и Гэ-Фэ Гендель без точки, мелодия «Halleluia» из оратории «Мессия». Мелодии проигрываются методом случайного выбора…»
— Не хватает только сцены коронации из «Бориса Годунова», — съязвил Стас.
— Так… теперь осталось выяснить, что же из предложенного все-таки играло. Ведь точно не «Аллилуйя». Уж ее-то я знаю: «Ха-аллелуя! Ха-аллелуя!.. Кинг оф Кингс!.. Энд Лорд оф Лордс!» — в последнее время она из каждого утюга несется.
— Тогда и «Травиату» убирай — «Застольную» даже я знаю. «Пуска-ай не вино, а простые черни-ила сюда наливает Гаври-ила…» — пропел Стас на известный мотив.
В его исполнении мелодия напоминала вой ветра в печной трубе.
— Ну что же… Методом исключения получается Виральдини! «Когда все заведомо ложные гипотезы будут отброшены, единственная оставшаяся будет истиной. Какой бы фантастичной она ни казалась». — Вовка улыбался — судя по выражению лица, он был страшно доволен собой.
— Ну ты и прохиндей! — восхищенно сказал Стас, подливая Вовке вина. — Ша-точка-Холмс!
— Это же элементарно, Ватсон! — ответил Вовка голосом Ливанова. — Знаешь, Стас… у меня такое чувство, что начинать нам надо именно с Виральдини. Уж если какой-то древний композитор заинтересовал наши доблестные спецслужбы…
Не договорив, Вовка встал и отнес инструкцию Ашоту. Вернувшись к столику, он застал Стаса читающим газету.
— Мне скучно, Холмс…
— Что делать, Ватсон… — Подняв на Вовку глаза, Стас сообщил: — Остаток года, я чувствую, вообще пройдет под знаком Виральдини.
— Это еще почему?
— Потому, что на его имени сейчас удобно делать деньги — неизвестные ноты нашли, череп потеряли, а тут еще юбилей его так некстати… Вот, смотри. Статья называется «В субботу и больше никогда!»
— Дурацкое название… — вырвалось у Вовки.
— Согласен. «Сегодня начинается мировое турне миланского театра «Ла Скала», посвященное трехсотлетию композитора Антонио Виральдини. Стимулом организации этого турне послужило поистине историческое событие — год назад была случайно обнаружена полная партитура неизвестного сочинения Виральдини — оперы-оратории «Ликующая Руфь», произведения весьма нетипичного для композитора XVIII века. В турне традиционно примут участие хор и оркестр прославленного театра. В конкурсе на исполнение партии Руфи неожиданно для всех победила итальянская певица Анна Джильоли, ранее не известная широкой публике. В ближайшую субботу «Ликующая Руфь» будет дана в Большом зале Московской консерватории».
— Стас… — Вовка скептически улыбнулся. — Лучше почитай, с каким счетом наши выиграли у финнов.
— Кто тут только что говорил, что надо начинать с Виральдини? Ты, может быть, удивишься, но такая же мысль пришла и в мою голову, — сказал Стас, хитро глядя на Вовку. Вовка хорошо знал этот взгляд: он означал, что у Стаса уже заготовлена какая-то идея. Скорее всего, пакостная.
— Не хочу тебя, Вов, расстраивать, но… придется посетить консерваторию.
Вовка скривился:
— Зачем еще?
— А затем, что послезавтра в Большом зале дают «Ликующую Руфь». Силами театра «Ла Скала». Должны же мы выяснить ик… икаю что-то… кто-то вспоминает, наверное. Должны же мы выяснить, что это за вещь, раз на нее столько всего завязано. Тем более, что записей пока нет — придется воспринимать вживую.
Вовка держал рюмку с красным вином за ножку и внимательно рассматривал вино на свет.
— Интересно, этот «Театр Оскала» специально приехал, чтобы порадовать нас ораторией? — спросил он.
— Не знаю, но это в рамках «кул
— И тебе охота это слушать?
— Вов… Ты слышал о том, что непрочитанные книги умеют мстить?
— Да, ты говорил…
— Так вот — говорят, что непрослушанные оратории тоже.
Вовка вздохнул. Потом сказал с робкой надеждой:
— Туда, наверное, и билетов не достать…
— Не «билетов», а билетА! — мне удалось достать только один, через профессора Баранова. В ФСБ мне порекомендовали к нему обратиться, и Борис Владимирович не отказался помочь. Он ведет в консерватории класс композиции, когда-то изучал музыку Виральдини. Так что пойдешь один.
— Я? Один?!
— Один. Я пойду копать другие источники информации.
— Ну, Стас… добрый доктор Ватсон!
— Точнее, это даже не билет, а VIP-приглашение от итальянской концертной компании, которая привезла сюда «Ла Скала». Будешь сидеть в правительственной ложе с особо важными персонами.
Вовка озадаченно помолчал. Потом спросил:
— Чем обязан такой честью?
— Ты же обещал мне помогать, — Стас выразительно подмигнул. — Я сказал Баранову, что ты — начинающий музыкальный критик, тебе нужно рассказать о жизни и творчестве Виральдини, и вообще, тебя следует поощрить элитным концертом. Так что, смотри, не подведи.
Вовка не на шутку рассердился и принялся кидать в Стаса зубочистками.
— Эй, хорош хулиганить! Музыкальному критику это не пристало. — Стас умело уворачивался от летящих в него заостренных деревянных палочек. — И кто тебя только воспитывал?
— Когда папа Карло, а когда никто, — мрачно сказал Вовка. — А еще ты. Правда, давно…
— Такому я тебя не учил, — смеясь, ответил Стас. — Я, наоборот, беспокоюсь о твоем культурном росте… Главное, Вов, веди себя со знанием дела. Ведь сидеть будешь рядом с организаторами всего этого музыкального безобразия.
— Ты с ума сошел! Что мне им говорить?
— Да ничего. То есть, прежде всего, ничего лишнего. Сиди, слушай ораторию. Уходя, попрощайся с устроителями концерта, поблагодари Баранова. И непременно произнеси какую-нибудь мутную похвалу. Вроде: «Кажется, сегодня все очень удачно получилось, не правда ли?»
Вовка опять вздохнул.
— Стас, ну какой из меня музыкальный критик? Я же в классической музыке, как… — Вовка печально икнул. — Как баран в апельсинах!
Стас усмехнулся.
— Смотри, не ляпни это при Баранове.
— Да он и так всё сразу поймет!
Теперь сердиться настала очередь Стаса.
— Когда же я наконец научу тебя главному: никогда не бойся делать того, что ты не умеешь! «Хотеть — значит мочь!» Это даже Фрося Бурлакова в свое время усвоила, а до тебя все никак не допрет. — Стас поднял вверх указательный палец. — Всегда помни: Ноев Ковчег был построен самым что ни на есть любителем. А Настоящие Профессионалы построили «Титаник»!
— А если этот Баранов спросит меня, знаю ли я, что такое оратория?
— Ну, так посмотри в словаре — что здесь сложного! — Стас расслабленно откинулся на спинку стула, — Или, погоди, давай я тебе объясню. Вот, например, если я тебе скажу: «Вовка, налей мне вина!», то это еще не оратория. А вот если я вдруг завою дурным голосом: «Вовка, Вовка, Вовочка-а-а, налей, ну налей, о нале-е-ей же мне вина, вина-а нале-е-е-ей же…», — посетители кафе заоглядывались, — вот это уже ближе к тому, что называется ораторией. Сечешь?
Вовка взял бутылку вина, машинально вытер ладонью образовавшийся на столе влажный ободок и плеснул в бокал Стаса.
— Как видишь…
Стас улыбнулся.
— Молодец! Адекватная реакция, — сказал он, чокаясь с Вовкой. — Будем считать, что жанр оратории ты освоил и не ударишь в грязь лицом…
— Ничего я не освоил, — проворчал Вовка. — Если уж ты все это заварил, значит должен снабдить меня детальной программой поведения. Как мне изображать из себя этого критика?
— Я тебе помогу, — с готовностью отозвался Стас. — Для начала зазубри какую-нибудь музыковедческую муру. Потом научись быстро и непринужденно ее произносить.
— Какую еще муру? — насторожился Вовка.
— Да любую! Ну, например… — он полез в карман брюк, выудил оттуда ворох мятых бумажек, быстро просмотрел их. — Во! Просто супер: «Аль-те-ри-рован-ная суб… суб-до-ми… — нанта». Понял?
— Стас. А пошел ты! — произнес Вовка тем скорбным тоном, каким упитанные сотрудницы Митинского крематория обычно выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.
— Да ты только вслушайся! Попробуй на вкус: альтерированная-я субдоминанта-а…
— С меня хватит того, что тебя от него чуть наизнанку не вывернуло.
— Зря ты так. Звучит весьма креативно.
Вовка уронил голову на кулак.
— А сам-то ты что будешь делать?
— Владимир Викторович, — издевательски отозвался Стас. — Ты клинически любопытен!
— Не скажешь, да?
— Ни! За! Что! Ашот, посчитай пожалуйста.
— Сейчас, дар-р-рагой! — раскатисто ответил Ашот и поспешил к ним со счетом.
Стас, хмыкнув, отложил «Дневник». Это было совсем не то, что он искал, и, по-видимому, никакого отношения не имело к их с Вовкой расследованию. Стоит ли дальше читать личные записки человека, умершего много лет назад? В задумчивости Стас некоторое время рассеянно листал страницы ксерокопии, затем увидел набранное мелким шрифтом примечание и вновь склонился над «Дневником».
Толпа перед консерваторией безумствовала. Тройной кордон милиции пытался сдержать потоки страждущих приобщиться к великой музыке, исполняемой не менее великими силами.
— Что у вас? — устало поинтересовался страж порядка, увидев протискивающегося ко входу Вовку.
— Приглашение… Вот, — Вовка протянул прямоугольник из плотной бумаги.
— Федь, пропусти — еще один блатной.
Коренастый Федя с погонами сержанта отодвинул заградительный барьер вроде тех, что используют в метро, и молча кивнул: «Проходите».
Профессор Баранов встретил Вовку на билетном контроле.
— Кто выписал вам это приглашение? — вредным голосом поинтересовалась билетерша.
— Я! — прогремел над ней могучий бас.
Старушка присела.
— Ой, Борис Владимирович, я как-то и не признала вашу подпись.
Профессор взял Вовку под руку и повел по сдержанно роскошному консерваторскому фойе, уже заполненному публикой. Беседа завязалась сама собой.
— Музыкой Виральдини я занимался давно, и, честно говоря, сейчас она меня мало интересует. Разве что в плане истории музыки. Тем более, вы же понимаете, сейчас ее просто разучились исполнять…
— Концерт пройдет в двух отделениях? — светским тоном поинтересовался Вовка.
— Увы…
— Почему «увы»?
— Потому что в первом отделении решили «в нагрузку» пустить выступление детского хора из Екатеринбурга под управлением Олега Царевича. Коллектив посредственный, но с богатыми спонсорами. Вот и проплатили им выступление «вместе с Ла Скала».
— Хорошо хоть не Ивана-Царевича, — ухмыльнулся Вовка.
Профессор кивнул и продолжил начатую мысль.
— История жизни Виральдини полна загадок и странных совпадений… — с этими словами он открыл дверь правительственной ложи.
На бархатных стульях небольшой, но уютной ложи восседали два толстых итальянца, пожилая дама с невероятным количеством золота и камней на всех частях тела, а также известный музыковед с трогательной фамилией Мандич, ведущий популярной телепередачи «Экстазы классики» — такой же мутной, как и ее название.
— Добрый вечер… — робко произнес Вовка.
— Buona sera! — приветливоответили итальянцы.
Музыковед Мандич холодно кивнул, а дама наклеено заулыбалась и энергично закивала. Тяжелые брильянтовые серьги смешно закачались возле впалых щек. «Наверное, тоже итальянка», — подумал Вовка.
— Позвольте представить, — провозгласил профессор Баранов, — Владимир. Молодой, но подающий надежды музыкальный критик.
Вовка внутренне напрягся, а глаза Мандича плотоядно заблестели. Но тут дали третий звонок.
Пожилая конферансье в длинном черном платье, туфлях на высоких каблуках ис затейливой прической вышла на сцену, возвестила о начале концерта и перечислила исполнителей. В первом отделении действительно значился детский хор из Екатеринбурга. Вскоре минут зал наполнился звучанием детских голосов. Чайковский, Рахманинов, Глиэр, Щедрин… в этом исполнении все они были подозрительно похожи друг на друга. Сильно отдавало пионерской песней. Зал приуныл. Один Царевич держался бодрячком — с вычурной бабочкой, цветуханом в петлице и крепкой седой шевелюрой, он с удовольствием раскланивался после каждого произведения и делал рукой широкий жест в сторону хора.
Вовка поднял глаза к люстре, обтянутой еле видимой проволочной сеткой и окруженной маленькими позолоченными ангелами с трубами. Ангелят было много, больше, чем сторон света на карте. «Да… — подумал Вовка, — Если такая люстра треснет, когда они вострубят — а пора бы, — зрители в партере не пострадают — сетка. Разве что разлетится плафон в мелкую пыль, и она, медленно оседая, образует на головах шапки из стеклянного снега…» Вовка посмотрел на портреты великих композиторов. Бах пристально смотрел прямо на него, а Моцарт почему-то упорно отводил глаза, разглядывая поющих детей и их руководителя.
Заскучав от пения юных гостей с Урала, Вовка стал глядеть в партер — из Правительственной ложи он был весь как на ладони. Кто-то полулежал, облокотившись на подлокотник кресла, кто-то откровенно зевал… Сухая старушка в третьем ряду жеманно обмахивалась программкой, словно веером. Через некоторое время Вовка поймал себя на том, что невольно начал считать лысины, одновременно прикидывая их среднее количество. Выходило где-то 2,75 лысины на ряд. Дисперсия значительная — Вовке смутно стал припоминаться факультативный курс математики, к которой он всегда испытывал дружескую симпатию. Интересно, а какое это распределение? Нормальное? Нет, похоже, не очень… «Ты меня слушай, Привалов, все в мире распределяется по гауссиане…»
После Щедрина последовал цикл песен на стихи какого-то малоизвестного поэта XIX века. Вовка слушал вполуха, думая о чем-то своем, когда вдруг со сцены полился странный текст на фоне подмывающих пассажей фортепьяно: «На вокзале в темном зале кот лежал без головы…» Вовка встрепенулся от неожиданности. Темп тем временем все ускорялся: «…Пока голову искали! Пока голову искали!! Пока голову искали!!!.. Ноги встали и ушли!» Вовка не поверил своим ушам и покосился на соседей по ложе. Баранов отрешенно глядел на сцену и, казалось, мыслями пребывал где угодно, но только не на концерте. Вовка ему слегка позавидовал… Дама сидела все в той же позе и с той же хронической улыбкой на лице — возможно, она просто не понимала, о чем поют «эти милые бамбини». Оба толстых итальянца откровенно дремали. Музыковед Мандич неэлегантно чесал в затылке и хлопал глазами. «Да… Пакостнее этой считалочки и придумать сложно, — подумал Вовка. — Зачем заставлять детей петь эту ахинею?..» Бах глядел с портрета строго и осуждающе, а Моцарт неуловимо поморщился. «Причем здесь этот дурацкий кот? На вокзале… Без головы… Тьфу!» Однако садистская песенка про безголового кота кончилась. Отшумели дежурные аплодисменты и пожилая конферансье провозгласила пятнадцатиминутный перерыв.
— Вас ист дас? — вдруг спросила дама, почему-то обратившись к Вовке.
Вовка удивленно поглядел на нее, подумал секунду и ответил в стиле «Большой прогулки»:
— Дас ист антракт…
И тут же поспешил выйти в фойе, чтобы не рассмеяться во весь голос.
Когда Вовка вернулся в ложу после второго звонка, на сцене уже восседал огромный симфонический оркестр. Кто-то из оркестрантов настраивал свой инструмент, другие разыгрывались. Толстые итальянцы перегнулись через барьер ложи и о чем-то оживленно беседовали с подошедшей миловидной флейтисткой, одетой в длинное черное платье. Вовка огляделся. Сказать, что зал был переполнен, — не сказать ничего. Многие слушатели стояли в проходах и толпились по всему периметру зала. Вовка поднял глаза к балкону и ужаснулся — народу на верхнем ярусе было, как сельди в бочке, разве что на бортиках не висели. Профессор Баранов проследил за его взглядом.
— Будем надеяться, что балкон не обвалится… — сказал он.
Наконец дали третий звонок. С двух сторон на сцену повалил хор и выстроился на станках позади оркестра. Хор поразил Вовку своей численностью — человек сто, не меньше. Станков всем не хватило, стояли еще и по бокам, сбившись в кучу. «Наверное, это и называется тесным расположением голосов», — подумал Вовка. Вечером накануне концерта он решил: раз уж ему завтра предстоит играть роль музыкального критика, нужно непременно почитать что-нибудь музыковедческое. Ради этого он провел ревизию отцовской библиотеки и, уже отчаявшись найти там что-нибудь подходящее, случайно наткнулся на небольшой томик «Хор и управление им» какого-то Чеснокова. Как эта книга оказалась в библиотеке профессора истории, Вовка не знал, но, судя по девственному внешнему виду, последний раз с полки ее не доставали никогда. Вовка решил, что более подходящего чтива на ночь ему все равно не сыскать, и оказался прав — здоровый сон сморил его уже на пятой странице.
Процокала каблуками конферансье и, молитвенно сложив на груди руки с записной книжечкой, торжественно провозгласила:
— Антонио Доменико Виральдини! Опера-оратория «Ликующая Руфь» для солистов, двойного хора, оркестра и органа. Симфоническая редакция Валерио Федерико Массимилиани. Исполняют: Анна Джильоли — сопрано, София Марчелло — меццо-сопрано, Маурицио Торо — тенор, Франческо Камелионти — бас. Хор и оркестр театра «Ла Скала». Дирижер — Рикардо Мути.
Публика приветствовала аплодисментами каждого солиста, а маэстро Мути устроила бурную овацию. Наконец аплодисменты стихли, внимание публики устремилось на сцену. Дирижер взмахнул палочкой, и зал наполнился чистыми звуками арфы и флейты. Постепенно к ним присоединялись все новые инструменты, пока не зазвучала вся мощь одного из лучших в мире оркестров. Позади этого звукового великолепия сосредоточенно вздыхал орган.
Вовку охватило странное чувство: ему показалось, что душа покидает тело и парит над залом, купаясь в божественных звуках и совершенных гармониях. Кончилось оркестровое вступление и вперед вышла сопрано Анна Джильоли. Вновь зазвучал оркестр. Сопрано запела. Вовка внимательно смотрел на певицу. «Красивая женщина, — думал он. — Совершенно не похожа на итальянку». Блондинка с абсолютно интернациональной внешностью, она с легкостью могла бы сойти и за француженку, и за финку, и за немку… Даже за русскую, коей она, безусловно, не являлась. Белая гладкая кожа, слегка вздернутый нос, медового цвета волосы… Голос ее не поддавался описанию — Вовка никогда в жизни не слышал ничего подобного. Он был какой-то неземной, непохожий на другие: вольной птицей взлетал вверх, к мощной люстре, серебряными нитями растекался по залу и словно выплескивался наружу, через залитые закатным солнцем окна над портретами композиторов. Вовка почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Что это со мной? — подумал он. — С каких это пор я стал так реагировать на классическую музыку?»
Голос Анны Джильоли парил над залом. Он волшебным образом соединял музыку и слова, наполняя окружающее пространство самой сутью вокального совершенства:
Сейчас это была уже не просто красивая, великолепно поющая женщина. На сцене стояла библейская Руфь! Любящая, глубоко страдающая. Она собирала свой разбросанный сноп, чтобы оставить колосья у порога тех, кто бедствует… Звуки оркестра возносили этот образ к недосягаемым небесам. И вот, дорогим гобеленом ручной работы над залом возникло ровное звучание хора: «Ci sara'…»[12]
«Oh come del pensier batte alle porte quello immago e mi persegue…»[13], — трепетно пела юная Руфь, будущая прабабушка царя Давида. — «…Riguardati pietosa e non far motto»[14] — чарующей мелодией вторил ей хор[15].
Оратория продолжалась: могучим океанским прибоем дышал оркестр, строго и отрешенно гудел орган, солисты то сменяли друг друга, то объединялись в затейливые ансамбли. Пением Сил Небесных отвечал им хор. Это была избыточно красивая музыка — словно венецианская парча, вытканная золотыми нитями с вкраплениями лазури, пурпура, с узорами, полными тайного смысла… Вовкой овладело легкое оцепенение, из которого его вывел неистовый рев публики и шквал аплодисментов.
Вовка даже не сразу понял, что оратория кончилась. Он встал и вместе с итальянцами и «вешалкой» тоже принялся хлопать и кричать «Браво!», не обращая внимания на косые взгляды музыковеда Мандича, который сидел не шелохнувшись.
«Иногда любимое лицо действительно невозможно запомнить, — подумал Стас. — Оно как бы засвечивает фотопленку памяти… Однако что-то я зачитался. Уфф… все, баста! Не пора ли позвонить нашему музыкальному критику? Как он там, бедолага?»
Стас набрал номер, но услышал только женский голос, словно с прищепкой на носу: «Аппарат абонента выключен или временно недоступен… Попробуйте позвонить позднее», — глумливо добавила механическая девица.
— Я вряд ли смогу помочь вам с какими-то новыми сведениями о Виральдини, — сказал профессор Баранов, выходя из ложи последним и закрывая за собой дверь. — Но посоветую поистине потрясающего консультанта. Фамилия Струве вам знакома?
— Струве… Да, я слышал… — Вовка продолжал играть роль «молодого, но подающего надежды музыкального критика». — Кажется, в контексте какого-то детского хора. Не «Радио-Телевидения»?
Профессор еле уловимо поморщился.
— Нет, «Радио-Телевидение» — это Попов. А Струве — совершенно иное направление. Но не об этом речь. Он уже много лет изучает историю Виральдини и осведомлен в ней значительно лучше меня. — Профессор достал из кармана ручку. — У вас будет на чем записать?
— Да, конечно. Вот, — Вовка вынул из бумажника свернутый вдвое чек на приобретенный недавно мобильный телефон и протянул его Баранову. Тот написал номер.
— Георгий Александрович летом живет за городом, но, думаю, он найдет возможность с вами встретиться. — Неожиданно Баранов спросил: — Как вам «Ликующая Руфь»?
Вовка слегка растерялся, но тут же взял себя в руки и решил во что бы то ни стало показать, что в сфере музыки шит отнюдь не лыком.
— Мощное произведение, ничего не скажешь. И очень красивое. Даже, может быть, чересчур красивое. Не знаю… это такое грандиозное, монументальное полотно, я бы сказал, несколько громоздкое для той эпохи… не правда ли? — Он многозначительно помолчал и добавил: — Виральдини всегда так писал?
Получилось эффектно. Вовка даже слегка загордился блеском своей псевдоэрудиции в музыкальной сфере.
Профессор Баранов, похоже, оценил весомость вопроса.
— Нет, — словно размышляя, произнес он. — К такому жанру он обращался нечасто. Эта оратория, к сожалению, была невостребована и забыта на века. В музыке тогда господствовала нидерландская школа полифонии с ее чистыми гармониями и натуральными интервалами. Красивая в своей простоте и, безусловно, высокодуховная, но местами однообразная… Кстати, вы ведь знаете, что Виральдини, как и Бах, наоборот, предпочитал пользоваться темперированным строем?
Этот вопрос застал Вовку врасплох.
— Э-э… чем он предпочитал пользоваться? — Вовка помигал, но попытался сохранить при этом как можно более умное лицо.
Профессор растерялся. Очевидно, именно этого вопроса от музыкального критика он ожидал меньше всего.
— Темперированным. Строем. Ну… это когда, скажем, ноты ре-диез и ми-бемоль являются одной и той же клавишей…
Вовка усилием воли заставил себя припомнить клавиатуру древнего бабушкиного пианино и названия белых и черных клавиш. Мысленно найдя на клавиатуре ре-диез он попытался вычислить гипотетическое местоположение ми-бемоль и пришел к утешительному, как ему показалось, выводу, что на пианино это действительно одно и тоже.
— Но ведь… так оно и есть… — неуверенно сообщил он профессору.
Тот окончательно опешил.
— Физическая природа звука, молодой человек, — отрешенно заговорил он, не глядя на Вовку, — и застарелый музыкальный консерватизм указывают на то, что это не так… А еще можно сказать, что Виральдини по праву считается отцом концерта для струнных, клавесина и солирующего инструмента.
— Интересно, а кто в таком случае его мать? — не удержался от сарказма Вовка, желая тем самым восстановить имидж специалиста, который с чем-чем, а уж с музыкой «на ты».
Профессор вдруг посерьезнел.
— Не ерничайте, молодой человек! — похоже, созданный Вовкой минуту назад образ музыкального эрудита рухнул окончательно. — И запомните, в беседе со знающими людьми «Ликующую Руфь» клеймить не стоит. Если уж она так вам не понравилась, лучше будет высказаться в том смысле, что… «смутная концепция дирижера провалила исполнение шедевра». В общем, как-нибудь в таком духе.
— Нет, что вы, мне очень понравилось! — поспешил заверить Вовка. — А исполнение, по-моему, идеальное…
— Ну, как знать. Музыканты, конечно, постарались на славу. Хор и оркестр «Ла Скала» вне конкуренции — фирменный звук, чистейший строй… Анна Джильоли с ее поистине ураганным вокалом, это, знаете ли, да… — он удовлетворенно покивал головой.
— Действительно, великолепная певица.
— Не то слово! — оживился профессор. — Это специалист гигантского творческого диапазона. Она с равной мерой филигранности может петь как оперу, так и джаз, рок, свинг… Уникальная женщина! Жаль, что исполняет исключительно Виральдини. Но хотя бы так, как надо. Особенно сегодня.
— Простите, Борис Владимирович, я не совсем понял… Разве остальные делают это… не так, как надо?
— Володя, я скажу вам по секрету — идеалом исполнения этого сочинения будет хор и оркестр Ангелов со Святым Антонием в качестве дирижера. И самим Виральдини за органом!
Вовка усмехнулся.
— И потом, не забывайте, что исполнять музыку Виральдини в наше время очень непросто.
— Почему? — спросил Вовка.
— По причине давности написания, — ответил Баранов. — В двадцатом веке камертон подскочил почти на терцию и вздернул за собой вверх все голоса.
— И что же, разве нельзя ради подлинности исполнения все это… слегка понизить?
— «Слегка понизить» можно все. Другой вопрос, что никто всерьез этим заниматься не будет, — профессор неопределенно развел руками. — В конце концов, Виральдини — это не Россини и даже не Чайковский.
— При чем здесь Россини? — Вовка удивленно посмотрел на него.
— Музыковеды хором трубят, что Россини мог бы быть так же высок в музыке, как Виральдини, если бы большую часть жизни не провел столь беззаботно и счастливо.
— А чем же тогда Виральдини хуже вашего Чайковского? — Вовку неожиданно кольнула запоздалая обида. — И вообще, можно ли их сравнивать?
— Сравнивать их можно — все зависит от желания. Но, мой друг, я думаю, что основная проблема в том, что и «мой» Чайковский, и «ваш» Виральдини родились слишком рано, чтобы писать для кино.
Вовка вытаращил глаза.
— Таким образом, — продолжил профессор, — оба упустили возможность достичь настоящего благополучия и успеха.
Профессор раскатисто рассмеялся собственной шутке и величественно двинулся дальше по коридору.
Вовка секунду подумал и решил его не догонять.
— Алло! Вовка, ну как концерт?
— Ну, Стас! Еще одна такая подстава и… я не знаю, что я с тобой сделаю.
— А что случилось-то? — похоже, Стас удивился действительно искренне. — Не понравилась оратория?
— Оратория-то как раз понравилась. Но потом Баранов почему-то решил обсудить ее со мной на равных!
Стас на другом конце провода явно ухмылялся.
— А ты?
— Что а я? Я, как идиот, лоб в морщины собирал. И пытался поддержать беседу. Можешь себе представить, что из этого получилось! Удивляюсь, как меня вообще не выперли из консерватории.
— Ладно, Вов, лиха беда начало… Ты мне скажи, удалось что-нибудь узнать?
— Да не особо. Но Баранов дал мне телефон какого-то Струве. Сказал, что тот сорок лет занимается Виральдини. Вот, думаю завтра поехать…
— Идея хорошая. Давай я встречу тебя опосля. Я тоже кое-что нашел. Заодно и обсудим.
— Мальчики, чаю хотите? — спросила бабушка, приоткрыв дверь в комнату Бурика.
— Не, спасибо, бабуль, — за обоих ответил Бурик. — Короче… дочитал я «По следам поезда-призрака», держи. В общем, книжка классная… не Крапивин, конечно…
— А что еще за Крапивин? — с ноткой ревности осведомился Добрыня. — Что, лучше Топоркова пишет?
— По мне так гораздо лучше… И, кстати, тоже о поезде-призраке упоминал. «Голубятню на желтой поляне» читал?
— Не-а…
— Я тебе дам… Там такой же поезд проходит через разные пространства и замыкает время в кольцо.
Дверь открылась.
— Вот… Проголодались, небось…
Бабушка вкатила в комнату маленький столик на колесиках. Колесики неприятно поскрипывали. На столике красовались две дымящиеся чайные чашки и вазочка с вафлями и печеньем.
— Ну, бабуль, ну зачем?.. Мы ведь не голодные…
— Конечно, голодные, — не расслышала бабуля.
— Что он замыкает в кольцо? — спросил Добрыня.
Бурик подождал, пока бабуля закроет за собой дверь.
— Время… Это придумали… я даже не знаю, кто. То ли пришельцы, то ли какие-то другие существа. Так они контролировали жизнь на земле и в параллельных пространствах. А потом один мальчик взорвал мост, через который проходил этот поезд. То есть, не мост, а одну рельсу на мосту… А сам погиб.
— Погиб? — переспросил Добрыня.
— Да. Но не совсем… Он превратился в галактику. Живую.
— Что-то я запутался… — сказал Добрыня.
— Когда прочитаешь, все поймешь.
Бурик подошел к книжной полке, провел пальцем по корешкам книг и решительно достал зеленый томик.
— Забирай… Добрыня, я вспомнил! — воскликнул вдруг Бурик.
— Что вспомнил?!
— Погоди, погоди… — Он замер с книгой в руках. Потом резко сунул ее Добрыне и вновь кинулся к книжной полке. — Вспомнил, где я встречал слово «койво». — Бурик достал с полки другой том, белый с красной полосой.
— Что, тоже Крапивин? — спросил Добрыня, присмотревшись к фамилии автора на обложке.
Бурик торопливо листал книгу.
— Это из аннотации к следующему тому, к циклу «В глубине Великого Кристалла». Вот: «Герои этих повестей — ребята-койво — вступают в борьбу со злом в разных пространствах многогранной Вселенной. Удивительные и опасные приключения становятся частью их жизни».
— И все? Что-то не очень ясно. Ты лучше своими словами скажи.
— А я «Великий Кристалл» пока не читал, — грустно сказал Бурик. — У меня нет ничего из этого цикла. Эх, вот бы почитать!
Добрыня взял у Бурика книгу и перечел аннотацию:
— Да, насчет удивительных, а особенно опасных приключений, «которые становятся частью жизни», — это как раз про нас.
— И в борьбу со злом мы, похоже, уже вступили, сами того не желая, — добавил Бурик, вздыхая.
— А причем тут разные пространства?
— Ну… у Вселенной много пространств… Одни — совсем как наше. Другие — непохожие, странные… А через все пространства проходит Дорога…
— А говоришь, не читал, — усмехнулся Добрыня.
— Я кристаллический цикл не читал, — с легкой обидой ответил Бурик. — А про Дорогу вот в этой книжке хорошо написано. — Бурик указал на книгу, которую по-прежнему держал в руках Добрыня.
Добрыня, не поднимая головы, стал смущенно листать книгу. «Дорога — это всеобщий Звездный Путь. Он идет по всем мирам…», — прочел он. — Бурик, как это?
— Не скажу. Сам читай.
— Ну, Бурик… Ну не дуйся…
Бурик улыбнулся.
— Как на тебя можно дуться? Конечно, расскажу. В общем, Дорога… она… как будто огибает Кристалл Вселенной…
— Да ты понятнее говори. Где ее можно найти, это твою Дорогу?
— Почему «мою»? Ведь она такая же и твоя. Понимаешь, по этой Дороге можно попасть куда хочешь. Только надо очень-очень хотеть. Дорога может начаться с чего угодно — с любой тропинки в парке или с заброшенных рельсов. А потом ты вдруг увидишь, что она вывела тебя в такое место, где все по-другому — необычно, как в сказке. И еще нужно… ну, я не знаю… Мне кажется, очень важно, чтобы с тобой обязательно был Лучший Друг. — Бурик заметно смутился. — Иначе ничего не получится…
— А что тогда получится?
— Да ничего! Просто Дорога превратится тогда в тупик.
— На железнодорожном пути?
— Может быть… И никакой сказки не будет.
Добрыня вспомнил россыпи земляники на заброшенных рельсах, словно открывшиеся именно для него и Бурика, и сказал, смущаясь не меньше:
— Мне кажется, у нас с тобой тоже есть Дорога. Помнишь землянику? Ее ведь никто не видел, кроме нас. Хотя людей там много ходит…
— Ага… И церковь, которая исчезает!
— И балкончик над шлюзами…
Мальчишки посмотрели друг на друга и счастливо улыбнулись.
Внезапный телефонный звонок заставил их вздрогнуть.
— Сашенька, это тебя, — крикнула из коридора бабушка.
— Спасибо, бабуль, — крикнул Бурик, снимая трубку с головы лукавого бегемотика — этот симпатичный телефонный аппарат мама подарила ему на день рождения.
— Алло? Алло!
В трубке что-то щелкнуло, и раздались короткие гудки. Бурик выглянул в коридор.
— Бабуль, кто звонил?
— Не знаю, Сашенька, голос мужской. Может, учитель какой из школы?
Бурик закрыл дверь.
— Это не учитель, — уверенно сказал Добрыня. — Знаем мы таких учителей…
Бурик испугался.
— А кто?!
— Кто-кто!.. Вагон с танком, что ли, забыл?
— Так… То ж был не танк… а… БМП?
— Сам ты Бэ-Эм-Пэ!
— Что?
— Без Малейшего Понятия, вот что.
Снова зазвонил телефон. Трубку схватил Добрыня.
— Приемная Министерства путей сообщения! — сообщил он уверенным взрослым тоном. — Что? А-а… Саш, тебя.
— Кто это? — в ужасе спросил Бурик.
— Не знаю. Она сказала, что мама.
Бурик взял трубку.
— Алло? Да, мам… Все хорошо. Нет, это друг. Да, Добрыня, конечно. Да просто играли… Ага. Мы больше не будем…
— Гляди, здесь нарисован план, — сказал Добрыня, когда Бурик повесил трубку. Пока тот говорил с мамой, он, похоже, детально изучил красно-белый томик.
— Какой план? Где?
— Вот. Фирменный магазин «Командорская лавка на Октябрьской». А Командор — это Крапивин?
— Ага. Вообще-то Командорами называли всех, кто посвятил жизнь защите детей — так в книге написано. Но самого Крапивина тоже часто называют Командором.
— Слушай, там же, наверное, можно все недостающие книги купить.
— Точно! Как я сам не догадался! Стой. А денег-то у нас нет. — Бурик приуныл.
— Мне мама точно не даст. Даже и просить нечего. Закричит: в рванье ходишь, я тебе ботинок приличных купить не могу, а туда же, книжки покупать. Может, твои дадут?
— Размечтался. Мои тоже не сахар… — Бурик задумался. — Есть одна идея…
— Какая?
— Подожди, а то не сработает. Посиди здесь.
Бурик скрылся. Вскоре за стеной раздались голоса. Добрыня старательно не вслушивался. Минут через двадцать Бурик вернулся усталый, но довольный.
— Порядок, — сказал он. — Бабуля даст сто пятьдесят рублей с пенсии.
— Ура! А когда у нее пенсия?
— После двадцатого. Ничего, подождем.
— Конечно! Слушай, как тебе удалось?!
— Это было нелегко…
— Вот, здорово! Да, Саш, повезло тебе с бабушкой!
— И я так считаю, — улыбнулся Бурик.
— А мы с мамой вдвоем… Ладно, давай, может, в гонки сыграем? Сегодня я тебя точно обгоню.
— Посмотрим.
Они перешли в другую комнату, и Бурик включил отцовский компьютер. Пока машина загружалась, Бурик сидел в задумчивости. «Мне вообще повезло. С бабулей, и с мамой и папой. И у меня есть ты, Добрыня». Бурик улыбнулся и глубоко вздохнул.
Милан, май 1735 года
К дирижерам и композиторам Винченцо де Пьемонте относился как к небожителям и не представлял, что когда-нибудь тоже напишет оперу и сам выйдет к дирижерскому пульту. Сегодня он сидел в театре в пятом ряду и наслаждался новым творением своего учителя, аббата Антонио Виральдини, и пением женщины, оставившей глубокий шрам на сердце Винченцо.
Театр был заполнен на две трети. Но Винченцо знал, что к середине второго акта он будет набит до отказа — дневная субботняя премьера, случай редчайший. Увы, опоздания в оперу считались у миланской знати хорошим тоном. Завтра городские газеты напишут что-то вроде: «…новая опера аббата Виральдини не выбивается из общего ряда шедевров, которыми балует нас этот несостоявшийся богослужитель». Но это будет завтра. А сейчас… Отгремели последние аплодисменты, колыхнулся, закрываясь, занавес. И вот уже раздался скрежет сценической машинерии, разбираемой для следующего спектакля. Винченцо расправил затекшие от долгого сидения плечи и направился за кулисы. В комнате дирижера его ждал накрытый стол. Виральдини приветливо встретил его, улыбка учителя была доброй и немножко беззащитной.
— Анна сегодня прекрасно пела, не правда ли? — сказал аббат Виральдини, отпив превосходного красного вина из тонкого, изящного бокала венецианской работы — подарка богатого поклонника-негоцианта.
— Да… Она умная женщина… — совсем некстати ответил Винченцо, густо покраснев.
Виральдини почти не удивился.
— Да, она умна. Но, что ни говори, это второстепенное качество.
— Как второстепенное? Умная женщина и…
— Она прежде всего талантливая женщина, — мягко перебил его аббат Виральдини. — А талант… К уму он имеет весьма опосредованное отношение. Ведь в проявлении таланта главное — интуиция, а не ум. Интуиция и любовь…
Винченцо напрягся.
— Вот вы, маэстро… Превозносите в своих операх тему любви — и намеками, и мелодиями, и открытым текстом. Малейшая мелодия у вас поет о любви, жаждет любви, радуется любви… А что для вас любовь? Объясните мне.
— Любовь… Есть множество понятий… — Виральдини развел руками. — Ты сам только что сказал…
— Но вы-то как думаете?
Лицо аббата заострилось. Он не ожидал такого поворота в разговоре.
— Я думаю, — медленно произнес он, — что любить — это чувствовать другого, как самого себя. Это прежде всего…
Винченцо сжал руками бокал с вином. Его темно-карие глаза мрачно блестели.
— Я ненавижу ее! Ненавижу Анну!! — он весь кипел от гнева. Его пальцы сжимали бокал все сильнее. — И вас тоже ненавижу, с вашим божественным талантом и церковным ханжеством!
Стекло хрустнуло в его руке, осколки посыпались на стол, вино разлилось. Винченцо растерянно глядел, как из глубокого пореза сочилась кровь. Виральдини бросился к нему, быстро оторвал широкую полосу от белой шелковой салфетки, аккуратно удалил стекло из раны и принялся ловко накладывать повязку — в музыкальном приюте ему часто приходилось залечивать не только душевные, но и телесные раны своих учеников. Ведь многие из его мальчишек обладали необузданными характерами, а потому раны, порезы и ссадины были для них привычным делом.
Винченцо наблюдал за манипуляциями учителя в каком-то сонном недоумении. Наконец повязка была наложена, разбитый бокал заменен на новый.
— Простите меня… — тихо промолвил Винченцо.
Аббат Виральдини налил ему вина.
— Ко мне ты можешь относиться как угодно, — грустно произнес он. — Это ничего не меняет. Но Анну ты любишь. А любовь должна прощать. Того, кого любишь, нельзя ненавидеть…
— Почему?
— Потому что любовь… — он запнулся и на мгновение отвел взгляд в сторону. — Когда любишь, ни в чем не приходится раскаиваться.
Винченцо смотрел в бокал с вином, чтобы не смотреть на аббата. Потом поднял глаза и тихо сказал:
— Сегодня, когда я слушал ее, то понял, что любовь очень похожа на смерть… Это и боль, и наслаждение. И мечта. А мечта о любви порой бывает выше самой любви. Разве не так?
Виральдини молчал.
— Мы были вместе три года, — продолжал Винченцо глядя куда-то мимо. — Потом она ушла. Петь в этих ваших… операх. Мы не виделись больше пяти лет. Я пытался забыть ее… Я очень изменился за эти годы… Когда сегодня я увидел Анну на сцене, то пережил потрясение — маэстро Антонио, она осталась прежней! Совсем не стала старше! Я не знаю, что и думать… Хотя что мне теперь за дело — я ведь ей не нужен.
Он уронил голову на руку и просидел так бесконечную минуту.
— Такие женщины, как Анна, не становятся старше, — сказал аббат. — Они становятся лучше.
А про себя подумал: «Анна… Ее глаза — центр Вселенной. Ее руки — руки божества… Ее тело — тело Клеопатры… Кто ты? Прекрасная сказочная фея из Детства, небожительница, святая, кто ты? Зачем ты пришла в мой мир? Пойму ли я это хоть когда-нибудь…» Аббат Виральдини еще не знал, что с возвращением этой женщины началась его новая жизнь. Но оно возвестило и о скорой смерти… И о нежданном воскрешении через три столетия.
Тоскливая пауза затягивалась.
— Простите меня, маэстро… — хрипло произнес Винченцо. — Все эти слухи о рецептах вечной молодости, якобы зашифрованных в ваших нотах… И о вашей связи… В общем, я не хотел… Не должен был все это говорить. Ведь это все ложь, правда?
Виральдини посмотрел в окно, за которым плавился майский полдень, и ничего не ответил. Вдоль улицы прошли два молодых человека. Их длинные шпаги бренчали по булыжной мостовой.
Москва, 2005 год
Георгий Александрович Струве обладал замечательным взглядом. Глаза его удивленно улыбались миру, словно каждый новый день жизни был его первым днем. А может, дело было в его неуемной энергии или легкой походке, каком-то мальчишеском наклоне головы? Хотя недавно он отметил бодрое семидесятилетие.
Георгий Александрович взял у Вовки тарелку, подошел к столу, открыл большую кастрюлю и зачерпнул половником очередную порцию ароматной окрошки.
— …в то время талант Виральдини достиг совершенства. Когда он выступал в концертах, публика была поражена, будто неким сверхъестественным явлением. Его воздействие на подсознание слушателей было очень мощным, оно буквально переносило их за пределы действительности.
— Так это и неудивительно, — вставил Вовка. — Музыка у него очень сильная.
— В том-то и дело! Вот тогда и всплыли в некоторых не очень умных головах сомнительные легенды в стиле раннего Средневековья: о ведьмах, привидениях, неприкаянных душах ближайших родственников…
— Я слышал, что известный итальянский композитор Барчелло довольно активно выступал против Виральдини. Об этом недавно рассказывал в своей передаче музыковед Мандич. Извините за выражение… Барчелло распространял слухи о том, что Виральдини, будучи священником, продал душу дьяволу. А тот якобы даровал ему талант композиции и виртуозной игры.
— Сильвио Барчелло — талантливый композитор, прекрасный мелодист… Помните его концерт для гобоя с оркестром? Та-ра-ра-ра-ри-ра-ра-а-а…
Вовка неопределенно кивнул — мелодия была красивой, но известной в основном по рекламе ивановского постельного белья. Он даже не подозревал, что это классика.
— …но Барчелло был одержим недугом банальной зависти. Представьте, этот талантливый человек договорился до того, что струны скрипки Виральдини были изготовлены из… не удивляйтесь… из кишок любимого кота Виральдини, принесенного им в кровавую жертву! Представляете?
— Бред какой-то… — Вовка невольно поежился и вспомнил своего недавно сбежавшего неведомо куда кота Маркелыча.
— Согласен, это полный бред. Даже, несмотря на то, что любимый кот Виральдини, Маркелино, действительно исчез года за два до этой идиотской публикации…
— Как-как звали кота? — удивился Вовка.
Струве внимательно посмотрел на него.
— Маркелино. По крайней мере так он значится в сохранившихся дневниках. По другой версии, Виральдини сам похоронил умершего от старости кота и даже написал в его память кантату.
Вовка рассеяно кивнул. Затем спросил:
— И долго этот «брателло» отравлял ему жизнь?
— Точно не известно. Однако есть сведения, что перед отъездом в Вену Виральдини окончательно простил его, а современные медики вообще диагностируют «эффект Барчелло» как острую шизофрению.
Вовка не смог сдержать усмешки.
— Да, представьте себе! Ведь злые и завистливые люди часто бывают сентиментальными. Барчелло втайне очень любил музыку Виральдини. И не мог ему простить, что сам он не в состоянии был так писать. Кто-то из критиков того времени ядовито назвал музыку Барчелло «потоком инкрустированного поноса». А Виральдини был мелодистом от Бога! Эти мелодии словно никто не сочинял, а с момента зарождения Вселенной они лежали на поверхности Бытия — бери, кто хочет. Виральдини и брал. А Барчелло — не мог. Вот и злился.
— И что же, Виральдини не опровергал все эти вымыслы?
— Отнюдь. Ведь они значительно повышали интерес слушателей к его произведениям. С другой стороны, не драться же ему было.
— Почему бы и не подраться… — негромко сказал Вовка.
Георгий Александрович пожал плечами.
— Все-таки он был человеком не очень сильным, худым и довольно болезненным…
Вовка покосился на висящий над роялем портрет Виральдини. Струве понимающе улыбнулся.
— И потом, ведь он носил сан священника и вообще был очень религиозен.
— Ну… у каждого человека с этой сферой свои взаимоотношения… Но наверняка ему жилось не очень легко с таким шлейфом «общественного мнения». Странно, что он не пытался бороться.
Георгий Александрович всплеснул руками.
— А разве легко бороться с официально принятой моралью? Впрочем, вы не жили при доморощенном коммунизме, когда даже детские хоры обязаны были прежде всего прославлять партию и правительство, а потом уже думать о формировании полноценного репертуара.
— Ну, почему же… немного жил… В общем, я, кажется, догадываюсь, о чем речь.
— И потом, Владимир, поймите правильно, Виральдини не мог позволить себе каких-то опрометчивых поступков еще по одной причине. За ним стояли дети. Две сотни музыкально одаренных мальчишек. Я больше полувека работаю с детьми, так что, поверьте мне, ответственность за детей — чувство особого рода.
— Вы хотите сказать, что его привязанность к детскому приюту была столь сильной, что…
— Она была не просто сильной. Фактически хор и оркестр, которые Виральдини создал в приюте, образовали этакий прообраз современной музыкальной студии с талантливым человеком во главе. А это уже само по себе — детище, которое, хочешь не хочешь, будешь оберегать, как зеницу ока. Виральдини был первым в Италии, кто во главу музыкального воспитания попытался поставить хор. Результат оказался сногсшибательным, но в то время идею не поддержали.
— А… какая разница? Вы извините, я не очень разбираюсь в таких вещах.
— Понимаете, хор — это не просто «собрание поющих», как писал Чесноков…
— Да, конечно! Я помню, это ведь из книжечки «Хор и управление им»! — воскликнул Вовка, радуясь, что вчерашнее «чтение на ночь» пришлось кстати.
— Эта «книжечка», Владимир, является библией любого музыканта, работающего с хором, — очень серьезно сказал Струве. — Не стоит отзываться о ней легкомысленно.
«М-да… — вовкины уши быстро приобретали пунцовый оттенок. — Хорошо еще, что не сказал «брошюрка». Ой, как неудобно!». Георгий Александрович между тем продолжал:
— А хор… — Струве явно подбирал нужные слова. — Хор — это очень мощное орудие воспитания, в том числе религиозного — не следует забывать, что музыкальный приют «Conservatorio Ospedale del Pace» был создан тайным монашеским орденом, о котором практически ничего не известно до сих пор. Выучить двадцать красивых церковных песнопений — это значит запомнить двадцать молитв. Если выучить десяток песен на стихи выдающихся поэтов, это значит выучить десять стихов! Я уже не говорю о том, что это позволит научиться певческой дисциплине, правильному дыханию, почувствовать сакральную связь между текстом и музыкой… По-своему хор — очень мистичное явление. И мистичность его до сих пор не изведана полностью! Прибавьте сюда первоклассную музыкальную подготовку и участие в элитных концертах. Немудрено, что из приюта под управлением Виральдини выходили уже сложившиеся профессиональные музыканты — в Италии это означало гарантированный заработок.
— Да… Такая просветительская деятельность дорогого стоит, — сказал Вовка.
— Владимир, это не только просветительская… Это скорее деятельность родительская. Не удивляйтесь — это тот самый случай, когда чужих детей чувствуешь своими.
Вовка задумался над словами Георгия Александровича, но тут по краю сознания зачем-то проползла идиотская, но с претензией на серьезность песенка про
— Но и это не главное… — продолжал Струве.
— Были еще причины?
— Да… — Струве как бы раздумывал, стоит ли говорить дальше. — Вы слышали легенду о Командоре?
Вовка задумался.
— Я совершенно точно об этом читал. Но, честно говоря, боюсь, не вспомню сейчас подробностей.
— Я вам расскажу. Много веков по миру гуляет легенда о Командоре — человеке, который ходит по свету и собирает неприкаянных ребятишек. Но не просто детей, а с доселе невиданными свойствами или с большими талантами, в том числе музыкальными. Ведь именно одаренным чаще всего неуютно и одиноко в этом мире… Он старается уберечь их от мирового Зла, которое, со своей стороны, тоже открыло на них охоту. Ведь необъяснимые способности, да и просто талант, можно одинаково использовать и во имя Добра, и во имя Зла.
— Красивая легенда.
— Да… Постепенно командорами стали называть всех тех, кто объединяет вокруг себя детей с необъяснимыми способностями, или просто одаренных. И кто помогает им полностью раскрыть свойства своей души. Одним из таких командоров был Виральдини — он собирал своих мальчишек по всей Италии, потом давал им фундаментальное музыкальное образование через хор. Возможно, таковы были его обязательства перед орденом, в котором он состоял. И так было, пока не закрыли приют…
— Закрыли? — удивился Вовка. — Почему?
— Это точно не установлено. Формально его перевели в область Тоскана. Город Пиза. Там, где падающая башня, знаете?
— Еще бы…
— Но там следы приюта затерялись.
— А как же дети?
— Как всегда… Кого-то усыновили, кого-то забрали настоящие родители… Остальных, возможно, распределили по другим приютам. Впрочем, как я уже сказал, после «Ospedale del Pace» мальчики выходили прекрасными музыкантами, так что ближайшее будущее они могли себе обеспечить.
— Виральдини, наверное, здорово переживал.
— Конечно! История музыки — это во многом история интриг, предательств, ударов судьбы и горьких разочарований. Закрытие приюта подкосило Антонио еще больше, чем запрещение оратории «Ликующая Руфь».
— А разве ее запретили? Почему?
— Тоже сложная история… Если хотите, могу рассказать.
— Вы еще спрашиваете…
Георгий Александрович улыбнулся и подсел к роялю. Сначала его длинные чуткие пальцы словно ощупывали пожелтевшую от времени клавиатуру, потом взяли первый аккорд, и по комнате разлилась сдержанная в своей страсти мелодия арии Руфи с хором «
— Сокрушительно красивая ария, — произнес маэстро, не прекращая игры. — Пасквилянт Барчелло заметил, что это творение Виральдини заставляет всхлипывать даже ангелов.
Вовка молчал, наслаждаясь музыкой.
— Премьера новой оперы-оратории «Ликующая Руфь» должна была состояться в Пизе прекрасной весной 1737 года, — продолжал Струве. — Виральдини очень любил этот город, и, подозреваю, написал «Руфь» именно для него. Ведь недаром на титульном листе партитуры он собственноручно вывел: «Oratorium Pisane» — «Пизанская оратория». Хотя ничего особенно «пизанского» в этой музыке не было. Ну да гению виднее. В Пизе уже вовсю шли приготовления к премьере, которой так и не суждено было состояться…
Пиза, апрель 1737 года
Кардинал Мартини прохаживался по огромному кабинету и нервно растирал лоб: «Подумать только, он живет с женщиной! Аббат, получивший сан и давший обет безбрачия…» Остановившись у окна, забранного затейливой чугунной решеткой, он отодвинул тяжелую малиновую портьеру. За окном, на внутреннем дворике кардинальской резиденции, два толстых садовника возились с розовыми кустами. Из-за невысокой южной стены виднелась верхняя часть Падающей колокольни, сделавшей Пизу местом массового паломничества любителей всего необычного.
— Дурачье… — некстати вырвалось у кардинала. — Восхищаются наклоном и орнаментикой, забывая, что это прежде всего колокольня Божьего храма…
За спиной послышался негромкий скрип открывающейся двери и шорох сутаны.
— Простите, ваше высокопреосвященство, вы что-то спросили?
На пороге стоял дон Альдо — уже более десяти лет бессменный секретарь и помощник кардинала. Мартини посмотрел на священника и будто впервые заметил его впалые щеки, большой нос, испещренный красными прожилками, усталые глаза: «Если уж ты так постарел, брат Альдо, что же тогда говорить про меня». Подлая мысль царапнула сознание: «А сам ты — не потому ли сейчас исходишь злобой и завистью, что, дожив до своих лет, так и не совершил того, что позволяет себе этот гениальный «рыжий аббат», которому ты собираешься запретить въезд в свой город?..» Кардинал поморщился и скосил глаза на роскошное венецианской работы распятие в углу кабинета. Потом перевел взгляд на стол.
Одиноким листком на обширной столешнице лежала программа пизанских гастролей человека, имя которого уже давно гремело далеко за пределами Италии. Антонио Доменико Виральдини. Аббат Римской католической церкви, композитор, скрипач-виртуоз… Репертуар пизанских концертов интриговал и завораживал одновременно: «Тайная гармония» — цикл из двенадцати совершенно безрассудных концертов для солирующей скрипки, струнного оркестра и клавесина. Прославляющая кантата «Gloria Viva» для хора и оркестра — вызывающая по форме и удивительная по содержанию. И, наконец, премьера оперы-оратории «Ликующая Руфь» для просто сумасшедшего состава: два хора, вызывающе огромный оркестр, орган и четверо солистов. Среди последних — сопрано Анна Джирони, которая уже много лет сопровождает аббата-музыканта в концертных поездках…
Дон Альдо перехватил взгляд своего благодетеля.
— В городе много говорят о приезде аббата Виральдини.
— И что же? — кардинал поднял глаза на помощника.
— Как всегда… Одни восхищаются его музыкой, другие истово бранят ее, но никто при этом не остается равнодушным. Хотя всех волнует другое…
— Именно! — кардинал взял со стола программу и вновь пробежался по ней глазами. — Всех волнует его связь с этой сопранисткой.
— Кстати, весьма посредственной, как сказал наш капельмейстер, она красива, но голос…
— При чем тут ее вокальные данные? — оборвал помощника кардинал. — Священник живет с женщиной и пользуется при этом всеми благами известности! Какой пример это подаст нашему священству и воспитанникам семинарии?
Секретарь выждал положенную паузу — он как никто знал особенности характера кардинала Мартини, — затем робко возразил:
— Еще во Флоренции Виральдини объявил, что он и Джирони — всего лишь друзья и никакой близости между ними нет, что это всего лишь платоническая любовь…
— Альдо, — устало промолвил кардинал, — человечество пока еще не придумало такой любви, которая хоть когда-нибудь не закончилась бы близостью.
В кабинете повисла пауза.
— Близостью телесной? — дон Альдо внимательно посмотрел на кардинала. Тот не отвел взгляда.
— Близость, сын мой, понятие абсолютное… — кардинал вновь опустил глаза на программу концертов. — А пока подготовьте два указа: один — об отмене концертов и второй — о постоянном запрещении аббату Антонио Виральдини въезжать в Пизу с какой бы то ни было целью.
— Но ведь репетиции оратории почти завершены…
Взгляд кардинала сделался ледяным.
— Как прикажете, ваше высокопреосвященство. — Дон Альдо склонил голову.
Москва, 2005 год
Георгий Александрович аккуратно опустил крышку рояля.
— Вот так, Владимир! Произведения Виральдини либо хвалят, либо ругают, но равнодушных к его творчеству история музыки действительно пока не знает, — он по-мальчишечьи крутанулся на вращающемся стуле и улыбнулся. — Еще окрошки?
— Нет-нет, спасибо — я совершенно сыт и… пора мне уже — я и так «съел» много вашего времени!
— Пустяки…
Его перебил звонок мобильного телефона. Извинившись, Вовка снял с пояса трубку.
— Алло! Стас, привет. Ты где?
— Еду в твою сторону. Ты как там?
— Да мы уже закончили. Георгий Александрович очень помог.
— Ну что вы, Володя, — смущенно вмешался в разговор Струве, — я ничем не помог, просто рассказал то, что знал…
Вовка замахал на него руками, мол, «помог-помог, еще как помог».
— Вовка, придумай, где нам пообедать, — попросил Стас. — Я голодный, как сволочь.
— Почему «как»? — усмехнувшись, спросил Вовка.
— А ты намыль шею, прикупи веревки, и я тебе при встрече с удовольствием объясню.
— Все-все… Я выбираю жизнь. И придумывать ничего не буду, лучше у Струве спрошу… То есть, ой… у Гёрсаныча. Георгий Александрович!..
Струве улыбнулся:
— Да, Володя?
— Вы не посоветуете, где тут можно перекусить?
— Как же, конечно посоветую, хоть вы и «совершенно сыты».
— Да я-то сыт, у меня Стас голодный. Это мой коллега, и вообще, друг большой.
— Ну, раз большой, тогда конечно… Здесь, на платформе «Никольская», есть несколько кабачков, но вы, не поленитесь проехать одну остановку до Салтыковки. Там есть очень симпатичное заведение. И называется интересно: «Три медведя». Передайте от меня поклон хозяину — Евгению Ахмедовичу Абашидзе, он там… главный медведь. Впрочем, вы это сами увидите: колоритнейшая личность. Грузин по отцу… или по маме, я точно не помню. Замечательный человек.
— Спасибо огромное! Значит так, Стас…
— Да я все слышал, Вов. Жду тебя на Салтыковке. Друг друга на платформе, надеюсь, разглядим. Привет ГЁРЛ-Санычу!
Вовка глянул на Струве и непроизвольно покраснел.
— Циник ты, Стасич!.. До встречи.
Вовка спрятал телефон. Струве поднялся и направился ко входной двери, Вовка последовал за ним. Привет от Стаса он благоразумно решил не передавать.
Воздух после грозы был удивительно чистый, все еще пахнущий озоном. Лежащая возле конуры пожилая боксериха Айна, увидев хозяина, вскочила, подбежала к крыльцу и весело завиляла обрубком хвоста.
— Георгий Александрович, уж и не знаю, как вас благодарить…
— Ну-ну, прекратите, прошу вас. Мне это было в удовольствие.
Вовка окинул глазами большой загородный дом, в котором провел несколько часов в ауре чудесной музыки и неупотребляемых доселе слов и понятий: кантата, клавесин, капельмейстер, хоровая студия, певческая дисциплина…
— Володя, хотите, я покажу вам маленькое, но самое настоящее чудо? — неожиданно спросил Струве.
— Это вопрос? — улыбнулся Вовка.
Георгий Александрович улыбнулся в ответ и, полуобняв Вовку за плечи, повел неприметной тропинкой между буйно цветущими клумбами.
— Глядите, этому дубу почти триста лет. Наверху, вон, видите, еще сохранилось дупло. В нем я мальчишкой любил прятаться. От музыки…
— Действительно чудо.
— Нет-нет, чудо совсем в другом. Два года назад рядом с этим дубом вдруг выросла рябина. Вот она. Ее никто не сажал — просто выросла сама, и все!
— Удивительно.
— Не то слово! И еще ребеночка принесла… — Георгий Александрович указал на тонкий прутик с рябиновыми листочками, тянущийся вверх как раз между рябиной-мамой и древним дубом. — Разве не чудо? Значит, все-таки можно «
Вовка невольно улыбнулся и крепко пожал профессорскую руку. Тот искренне улыбался в ответ.
— Звоните, Владимир, я всегда буду рад вам помочь.
Стас встретил Вовку на платформе «Салтыковская».
— Ну как, узнал что-нибудь? Как тебе Струве?
— Осколок Империи… — Вовка все еще находился под впечатлением встречи.
— Как Чуковский?
Вовка вскипел:
— Может, еще с Роменом Ролланом сравнишь?
— Запросто, но сейчас, пожалуй, не буду, — шутливо испугался Стас. — Лучше расскажи, что выяснил.
— Много чего. Например, где нам пообедать.
— Это актуально.
Спустившись с платформы и пройдя чуть вперед, они попали на неширокую улицу с провинциальным разнообразием деревянных и кирпичных домиков и гордым названием, — Шоссе Ильича.
— Надо же, — удивился Вовка. — Не переименовали до сих пор.
Стас, погруженный в свои мысли, не ответил. С правой стороны обнаружилось продолговатое одноэтажное здание с летней террасой, головой-чучелом свирепого кабана над входом и большой вывеской «Три медведя».
— «Кто хлебал из моей чашки?!», — злобно процитировал Стас.
— Не я, — ответил Вовка, открывая дверь.
На стене небольшого зала красовались внушительные лосиные рога и три медвежьи шкуры — одна больше другой.
— Кто же из них «главный медведь»? — задумчиво протянул Вовка, разглядывая анималистическую композицию.
— Что бы ты понимал! — ответил Стас. — Тут горевать надо, а не стебаться.
— Это еще почему? За свои деньги и не постебаться?
Стас соорудил скорбное лицо.
— Да потому, что данные шкуры — все, что осталось от трех медведей после визита к ним девочки Маши. «Кто что-то делал на моей кровати и сломал ее?!» Классику читать надо!
Вовка собрался было ответить на это какой-нибудь качественной литературной цитатой, но тут из недр заведения вышел необъятных размеров человек с густыми поседевшими усами. Он достал откуда-то пульт дистанционного управления и слегка уменьшил громкость висящего в левом от входа углу телевизора, на экране которого шла классическая заставка с танцующими под оркестр Поля Мориа страусами.
— Евгений Ах… Ахмедович? — догадался Вовка, почему-то смутившись.
— Мы от Георгия Александровича… — доверительно сказал Стас тоном старорежимного спекулянта.
— Да-да, вам от него поклон, — поспешил добавить Вовка, ткнув Стаса локтем в бок и прошептал, — совсем спятил? Прозвучало, как «мы из налоговой инспекции»!
— Проходите, — радушно улыбнулся хозяин, — как там Гёрсаныч? Не занемог ли? Что-то он давненько не заходил. После последнего педсовета…
— Да занят он очень, — неопределенно ответил Вовка.
— Ну, занят так занят… Выбирайте где вам больше нравится.
Друзья уселись за уютный столик возле барной стойки.
— Вера! — позвал Евгений Ахмедович.
Откуда-то появилась приятная молодая темноволосая женщина со жгучими черными глазами. Она поздоровалась приветливым, но сдержанным кивком, и предложила меню в темно-зеленой папке. Стас и Вовка пробежали глазами по строчкам.
— Меня Струве окрошкой потчевал, — сказал Вовка. — Так что первого я не буду.
— Везет, — ухмыльнулся Стас. — Окрошкой из рук профессора Струве сейчас мало кто похвастается.
— Ошибаешься, — ответил Вовка. — Похвастаться может кто угодно, а вот отведать… И вообще, это было не из рук, а… из кастрюли.
— Ну… — Стас развел руками. — Разрешите, по такому случаю, величать вас исключительно «господин Шубов». Можно?
— Перебьешься. Короче, супло я не буду.
— Твое дело. А я, пожалуй, отведаю… — Стас пробежался глазами по меню, — харчо.
— Прекрасно. «Хочу харчо!». Я у тебя отхлебну.
— Хрен тебе!
— Можно без хрена.
— Простите, — обратился Стас к официантке совершенно иным тоном, — что вы порекомендуете на второе?
Вера задумалась над списком, после чего произнесла немножко нараспев с очаровательным акцентом, свойственным исключительно кавказским женщинам:
— У нас хороший шашлык из цельной вырезки на вертеле. Недорогой.
— Несите два, — подал голос Вовка. — Стас, я угощаю.
— Рокфеллер! Тогда с меня — «жидкая часть проекта». Два пива, пожалуйста.
Через пару минут на столе образовались две массивные кружки с медово-янтарным содержимым.
— «Пейте пиво пенное…»
— …будет харя вдохновенная, — закончил за Вовку Стас. — Твое здоровье!
— И вам не болеть! Ну что же, Стас, в Пизе, судя по всему, искать нечего, — сообщил Вовка, деловито отхлебывая добрую треть кружки. — Виральдини запретили туда даже въезжать. Указ об этом подписал какой-то кардинал-недоумок с ликеро-водочной фамилией. Не то Кампари, не то Чинзано…
— Мартини, — сказал Стас. — Кардинал Мартини.
— Во-во! Я помню, что какой-то вермут… Кстати… — Вовка красноречиво почесал нос, — я бы не отказался. Исключительно в качестве аперитива.
— Пьяница! — ужаснулся Стас. — Мартини после пива?
— А… А я его немножко выпил. Оно и не почувствует!
— Ладно оправдываться. Да, Владимир Викторович… Я в твои годы такой склонностью не страдал.
— Уж лучше ты страдал бы ею в мои годы, — с улыбкой ответил Вовка.
— Вера, — Стас повернулся к стойке. — Будьте так добры, мартини с апельсиновым соком вот этому пропойце. Ну и мне за компанию…
— Старый склочник! — сказал Вовка.
Вера улыбнулась и взяла с полки большую бутылку нежно-зеленого цвета.
— Понимаешь, — начал Вовка, отпив через соломинку глоток жидкой итальянской классики, — следы биографии Виральдини настолько размыты, что их до сих пор восстанавливают по крупицам. Струве занимается этим уже сорок лет, правда, в контексте феномена детского хора.
— Детского хора? — не понял Стас.
— Да. Виральдини служил в музыкальном приюте для мальчиков. Обучал их музыке. И они были первыми исполнителями его произведений. Говорят, это было что-то феноменальное. И, как я понял, приносило весьма неплохой доход.
— Ничего удивительного, — отреагировал Стас. — Можно делать добро и наживать его одновременно. Одно другому не мешает.
— Ага… — отозвался Вовка, снова припав к соломинке. — Так вот, пресловутый указ был подписан в 1737 году, и это было началом конца карьеры и жизни Виральдини. Тридцать седьмой год — вообще какой-то роковой во всех столетиях.
— Насчет тридцать седьмого года ты прав. Смотри, что мне удалось раскопать: похоронная книга города Вены, где было записано, что Антонио Виральдини умер по неизвестной причине и похоронен 28 ноября 1741 года, была найдена спустя двести лет — в 1937 году.
— Парадоксальная дата… Но меня волнует другое — почему во всей этой истории фигурирует Пиза? Какой-то роковой город.
— Вов, ну вспомни, когда мы там были, разве он производил гнетущее впечатление? По-моему, совсем наоборот. И вообще, ведь Город не виноват…
— Но как тогда объяснить, что все в прошлый раз замкнулось на него, и сейчас… Боже, какой запах!..
К столику бесшумно приблизилась Вера с небольшим подносом. На нем дымилась глубокая тарелка, источающая аромат настоящего харчо из свежей баранины с большим количеством зелени и каких-то неизвестных Вовке специй.
— Ты зря отказался… Знаешь, покойный Кривега, мой учитель… — Стас вдруг замолчал, но потом быстро взял себя в руки. — Когда мы с ним обсуждали всю эту историю с поездом-призраком, он сказал, что, по-видимому, этот город, как и Венеция, построен на узловой точке «Генерального Меридиана»… Мы тогда взяли за основу теорию кристаллического строения Вселенной: помнишь, каждая грань — это отдельно взятый мир…
— Помню, конечно. Давай суть.
— Погоди… — Стас зачерпнул ложкой харчо, отправил в рот и зажмурился от удовольствия. — Великолепно… А суть в том, что в Кристалле Вселенной есть так называемые узлы, где одновременно соединяются свойства нескольких пространств. Но пространства не могут существовать изолированно. Кривега полагал, что в таких узлах, также происходит пересечение времен, судеб, и Бог знает чего еще…
— Перекресток миров… — Вовка задумался, почему-то глядя в стасову тарелку, где аппетитно плавал огромный кусок баранины. — Может, потому и разыгралась там история с поездом-призраком?
— Кто знает… — Стас отправил в рот еще одну ложку. — Смотри, поезд-призрак стартовал из Рима и пропал в горах Ломбардии. Но развязка произошла именно близ Пизы… Что-то в этом есть, ты прав.
Стас вновь зачерпнул из тарелки.
— Простите… — позади возникла огромная фигура Евгения Ахмедовича. — Я тут услышал про «поезд-призрак»… Это не тот ли поезд, из которого мальчик череп вынес?
Вовку заметно передернуло, а Стас замер с ложкой в руках. Из нее шумно потекло обратно в тарелку.
— Хорош харчом брызгаться! — возмутился Вовка, выйдя из секундного оцепенения, и отряхивая рукав.
— Извини… — Стас погрузил ложку в тарелку и протянул Вовке салфетку. — Да, Евгений Ахмедович, это тот поезд… Вы о нем тоже слышали?
— Люди говорят, ходит тут что-то мимо Салтыковки… Никто, правда, толком не видел. Это ведь, как НЛО…
— НЖО, — вырвалось у Стаса.
— Что? — не понял хозяин ресторана.
— Эн. Жэ. О. Неопознанный железнодорожный объект.
— Точно. Я о нем недавно книжку прочитал. Запоем прочел, надо признаться. Тут месяц назад один писатель обедал…
— Писатель? — заинтересовался Вовка. — С дамой?
— Кажется, нет, — нахмурил большой лоб Евгений Ахмедович. — С книгой.
— Юрка! — сказал Стас. — Топорков, зараза… Точно, он! Юрка с дамой — это нонсенс! А вот с книгой — это пожалуйста…
— Да, Топорков! — с гордостью вспомнил Евгений Ахмедович. — Он сказал, что идея сюжета родилась здесь, в нашем ресторане. Подарил экземпляр с автографом. Сейчас жена читает, дочка на очереди.
— Прохиндей… — проворчал Вовка. — Сказал бы я, где родилась идея сюжета…
— Вам понравилось? — спросил Стас.
— Так я же говорю, взахлеб прочитал! Я, знаете, много стран объездил, много видел того, что называют чудесами света, поэтому мне было очень интересно!
— Нам тоже… — ответил Вовка. И мысленно добавил: «Особенно в самом поезде».
— Ну, не буду мешать, — сказал Евгений Ахмедович. — Кушайте, приятного аппетита.
— Дела… — сказал Стас, глядя на Вовку.
— Слов нет… Ладно, давай о деле. Есть сведения, что Виральдини несколько раз тайно все-таки проникал в Пизу под чужим именем и в парике — чтобы скрыть свои рыжие кудри.
— Интересно, что за интерес у него там был — прости за игру слов.
— Туда перевели музыкальный приют. Может, он приезжал туда, чтобы навестить своих мальчишек? Струве рассказал, что Виральдини был этим… Командором.
— Воинское звание?
— Нет, в гражданском контексте — как человек, оберегающий одаренных детей.
— Вот как… Ну хорошо, вернемся в Пизу. Что там было дальше?
— Дальше? — Возле столика, словно смуглая фея, возникла Вера с подносом. — Шашлык из вырезки, как заказывали.
— Ух… — синхронно ответили Стас и Вовка.
— А вот настоящий грузинский ткемали, — сказала Вера, выставляя на стол изящную кремового цвета соусницу с густым темно-красным содержимым. — Евгений Ахмедович просил передать.
— Вот что значит «главный медведь»! — восхитился Вовка.
«Здесь кормятся и другие необычные едоки…» — сообщил висящий в углу телевизор голосом Николая Дроздова. Стас и Вовка синхронно обернулись.
— Это про нас? — спросил Вовка.
— Размечтался, — ответил Стас. — Это «В мире животных».
«…и предпочитают выводить детенышей в привычных для них условиях».
— Вот-вот… Так что там, в Пизе-то? — спросил Стас, отрезая первый кусок восхитительно нежной вырезки, приготовленной на углях.
— Пока не знаю, — ответил Вовка, последовав его примеру. — Известно только, что после отмены пизанских концертов Виральдини еще год оставался в Милане, пока не закрыли приют. Потом вернулся в Венецию и жил там тоже недолго. Его начали травить за то, что у него была эта… что-то вроде современной гражданской жены. Пела по совместительству в его операх. Обалденно вкусно, правда?
— Угу… — Стас жевал шашлык и что-то обдумывал. — Наверное, хорошо пела. Представляю, как ему за нее доставалось. Священник все-таки…
— Да, это была одна из причин общей травли. Прямо Союз советских композиторов. Привет Шостаковичу! А виной всему — нездоровая католическая концепция «неженатого духовенства».
— Нет, Вов, не думаю. Просто обывательский интерес к личной жизни знаменитостей жил и будет жить в обывателях вечно. А Виральдини в то время был просто суперпопулярен. — Стас взял соусницу и обильно полил мясо. — Ладно, пора обобщить найденный материал и копать дальше. Я, кажется, вышел на след еще одного потенциального консультанта. Целыми днями висит в интернете, в чате форума «Классика». Попробуй угадать, под каким никнеймом?
Вовка отобрал у него соусницу.
— Только не говори, что Viraldini!
— Именно! Часами беседует там о классической музыке стиля барокко. Похоже, это один из тех фэнов классики, которые постепенно начинают отождествлять себя с героями своих фантазий. В нашем случае — с композитором Виральдини.
— Стас, ты меня удивляешь! Что, мало психов в рунете? А идиотов в каждом чате пруд пруди. От них, конечно, весело, но что теперь, с каждым консультироваться?
— Вов, остынь! Пусть он десять раз псих, но, по некоторым сведениям, он, что называется, владеет вопросом. Признаюсь — я тут навещал Андрея Щербакова… Помнишь, я рассказывал?
— И что Андрей?
— Я попросил его неофициально пощупать этого нью-Виральдини.
— Каким же это образом? Насколько понял, тебе известен только его ник в чате. Или этих данных вполне достаточно? Я ведь в этом… еще хуже, чем в классической музыке.
— Я тоже думал, что это затруднительно. Но, оказывается, способов множество. — Стас взял из красной пластиковой подставки салфетку и принялся складывать ее гармошкой. — Андрюха что-то говорил про заголовки пакета, по ним как-то можно отследить IP-адрес, но… фиг его знает, как этот пакет устроен. В общем, ничего отслеживать и не понадобилось. Нам повезло: на той фирме, через которую наш «Виральдини» соединяется, у Андрея работает бывший сослуживец. Так что ему достаточно было десяти минут, чтобы потоптать кнопки на компьютере, а потом два раза позвонить: один раз сослуживцу, другой — какой-то Раечке на бывшую работу.
— И кто же наш самозванец? — спросил Вовка у своего бокала с остатками мартини.
Стас перестал мучить салфетку, достал из кармана и развернул сложенную вчетверо распечатку.
— Харченко Алексей Михайлович, тридцать три года. Выпускник теоретико-композиторского отделения Уральской консерватории. Холост, детей нет. Место работы — фонд «Русская музыка». Андрей дал мне его адрес и номер телефона. И обещал посодействовать, если тот начнет упираться.
— Это как «посодействовать»?
— Ну… не знаю. Может, подключить бывших сослуживцев, а может, еще что. Есть же какие-то методы.
Вовка усмехнулся.
— Ну, все. Тридцать седьмой год!
— Э-э… Не скажи. В тридцать седьмом его бы сгноили на Соловках. Просто для профилактики. Изображал бы Виральдини на нарах.
— Ты прав… Слушай, а может, познакомиться с ним прямо в чате? И расспросить. Безо всяких этих… штучек. Как ты думаешь?
— Да уже думал. Боюсь, это невозможно. Попытки были, но все неудачные. В чате он почти не идет на контакт. Потрепаться на отвлеченные темы — это пожалуйста. А копнешь глубже — начинает в пафосе купаться. Истерики закатывает…
— Ладно, пошли. Спасибо за «Мартини». С пивом… — Вовка повернулся к барной стойке, — Верочка, цавет тамен, посчитайте, пожалуйста, дорогая моя.
— Что-что ты ей сказал? — спросил Стас.
— Я объяснился с ней на армянском, — как бы между прочим ответил Вовка.
— Да? И что же ты ей объяснил?
— «Я возьму твою боль на себя…» Это классическое армянское выражение. Приятное каждому армянину. Ашот научил…
— А откуда ты знаешь, что она — армянка?
Вовка неопределенно помахал рукой.
— Так это же очевидно. Разрез глаз, овал лица, гибкий стан, акцент такой… изысканный.
Стас закивал головой.
— Ловелас… Старый развратник!
— Можно подумать, что ты — развратник молодой, — Вовка отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. — Бабник и ханжа!
— Да?! А что же ты тогда не крикнул Евгению Ахмедовичу: «Гмадлобт, генацвале»? — не унимался в своей иронии Стас.
— А что это такое?
— Тебе, как полиглоту, должно быть известно, что это — «спасибо, дорогой». По-грузински! Ведь Струве сказал, что у Ахмедовича то ли папа грузин, то ли мама грузинка. Я слышал…
— Ух, какие мы ушастые! — сказал Вовка, принимая у подошедшей Веры маленькую папку со счетом.
На счете были оттиснуты изображения трех медведей. Двое стояли на задних лапах и будто разговаривали. Между ними в странной позе сидел третий.
— Очевидно, хорошо принял, — сказал Вовка, разглядывая медведей. Он доел последний кусок шашлыка и вытер губы салфеткой.
— Смотри, действительно недорого! — сказал Стас, взяв счет у Вовки. — Топорков знает, куда ходить за хорошим шашлыком и культурным обслуживанием.
Вера тем временем подала отдельный счет за мартини. Стас недовольно крякнул — кардинал Мартини ничтоже сумняшеся откусил солидную сумму от его и так не слишком впечатляющих отпускных. Но по сравнению с замечательным и недорогим обедом это воспринималось как сущий пустяк, не способный испортить блаженное настроение.
Все было, как порой выражался Вовка, «не в кассу». Дождь оказался нудным, лужи под ногами слишком частыми, ветер не в меру злым. Стас и Вовка шли вверх от Большого театра к Петровскому пассажу, укрываясь огромным черным зонтом.
Накануне Стас бросил все силы на организацию встречи с Алексеем Харченко — эксцентричным человеком, который настолько глубоко вошел в изучение жизни и личности композитора Антонио Виральдини, что порой отождествлял себя с ним. Впрочем, последнее происходило либо по весне, либо по осени… Успокаивало то, что на дворе лето.
Стас не мог отделаться от смутного чувства, что от этой встречи зависит многое — в частности, получение некой ключевой информации во всем импровизированном расследовании. Стас пытался подстраховаться на всех видимых ему этапах. Он даже позвонил Андрею и попросил, в случае чего, принять участие в странном мероприятии под названием «беседа с фанатом Виральдини». На это Андрей ответил, что звонок из серии: «Здравствуйте! Вас беспокоят из Федеральной службы безопасности», — пока еще способен вызвать адекватную реакцию даже у весьма одаренного обывателя: «Очень рад. Просто счастлив. Вот радость-то в доме!»
Каково же было удивление Стаса, когда ни одна из придуманных им «превентивных мер» не понадобилась. По телефону ответил приятный мужской голос. На вопрос Стаса, не мог бы Алексей Михайлович дать небольшую консультацию по поводу жизни и творчества Антонио Виральдини, последовал весьма неожиданный ответ:
— С огромным удовольствием! Думаю, вряд ли сейчас кто-нибудь сможет дать вам более интересную информацию, чем я.
Вот так. Ни много ни мало. Ответ был действительно неожиданным. Так же, как время и место встречи, которые предложил Харченко, — пивной ресторанчик «Пять оборотов» на Петровке, сразу за Петровским пассажем. Десять утра.
— Ты узнал что-то новое об этом Харченко? — спросил Вовка, наступая в очередную лужу.
— Да, Андрей кое-что нарыл… Харченко — давний фанат Виральдини. Уже одиннадцать лет собирает коллекцию его записей. Представь, набрал семь с половиной тысяч единиц хранения: компакты, винил, кассеты…
— Ненормальный… — вырвалось у Вовки.
— В чем-то — безусловно, да. Историю Виральдини изучает не как часть истории музыки, а как… просто человеческую жизнь. Пишет о нем книгу. Харченко засветился практически во всех спецфондах ведущих библиотек. Старается не пропустить ни малейшей подробности.
— Охота пуще неволи…
— В своей последней статье о Виральдини в «Музыкальном Клондайке» он заявил, что недавно открыл нечто сногсшибательное. О чем поведает читателям в следующих номерах. Каково, а?
— Занятно… Продолжай.
— Дальше еще занятнее. Среди партнеров Харченко — психиатр Безекович.
— Неудивительно, что ему понадобился психиатр.
— Да нет, причина в другом… Безекович сейчас пишет диссертацию по галлюциногенным препаратам. И Харченко добровольно вызвался быть для него подопытным кроликом.
— Это еще зачем?
— Как я понял, доктор периодически вгоняет его в этакий транс. Во время него Харченко как бы проживает участки жизни самого Виральдини.
— Ни фига себе! А что, такое возможно?
— Не знаю, Вов. Мне самому трудно это понять… Одно ясно — такие эксперименты бесследно для психики не проходят.
— Немудрено… Кстати, а откуда такие… интимные подробности?
— Харченко их не скрывал, плюс Безекович публиковал отчеты о действии нового препарата. В общем, открытая информация.
— И зачем накачивать себя всякой дрянью? Ведь в таких случаях вполне можно обойтись гипнозом…
— Значит, нельзя.
— Рассказывай дальше.
— Потом. Мы уже пришли. Имей в виду, придется ограничиться кружкой дешевого «Клинского» на нос — боюсь, цены тут еще те.
Отряхнув у входа зонт и вытерев мокрую обувь о коврик, Стас и Вовка спустились в уютный, вкусно пахнущий подвальчик. В этот час ресторан был практически пуст, если не считать скучающих официантов, уставившихся в висевший над стойкой бара телевизор. С появлением Вовки и Стаса в их компании произошло заметное оживление.
— Доброе утро! Присядьте, пожалуйста, вам сейчас принесут меню.
— Спасибо… Вообще-то у нас здесь назначена встреча.
— В таком случае вас ждут вон там — столик в конце зала.
Стас и Вовка прошли в дальний конец зала. Навстречу им поднялся невысокий мужчина лет тридцати, в ладно сидящем джинсовом костюме. Его длинные пепельные волосы были собраны на затылке в хвост наподобие лошадиного. Широко посаженные светлые глаза смотрели на мир открыто, но с легким вызовом и укором. На столе перед ним стояли уже ополовиненная кружка пива и открытый ноутбук.
— Алексей Михайлович? — поинтересовался Стас.
— Доброе утро.
Стас и Вовка по очереди представились и пожали Харченко руку. Новый знакомый жестом пригласил их сесть.
— Надеемся, вам не пришлось ждать нас слишком долго, — сказал Вовка.
— Пустяки, — ответил Харченко, протягивая две визитные карточки. — Можно просто Алексей. Позвольте предложить вам гиннеса?
Стас и Вовка переглянулись.
— Да мы как-то не планировали… С утра.
— Глупости. Гиннес хорош в любое время суток. А здесь он отменный. Мне будет приятно вас угостить.
Через несколько минут на столе красовались кружки густого черного пива с такой крепкой пеной, что она казалась шапкой взбитых сливок.
— Мне очень импонирует ваш интерес к Виральдини. К сожалению, сейчас его воспринимают исключительно как музыканта и композитора. И забывают о том, что он был прежде всего живым человеком. Таким же, как любой из нас.
— Вот об этом мы и хотели бы поговорить… — сказал Стас.
— О, это мой конек! Я помешан на Виральдини…
Стас и Вовка переглянулись.
— Пусть вам не кажется это странным. Фаны классической музыки довольно своеобразные люди. Во всяком случае, мы здорово отличаемся от других людей.
— Все люди разные… — попробовал возразить Вовка.
— Вы считаете себя фаном классики? — в тон ему спросил Стас.
— О, не только. Я — исследователь! Музыколог. И еще коллекционер. Собираю записи Виральдини.
— А почему именно его? — спросил Вовка.
— Сложный вопрос… Порой мне кажется, что оттуда, с небес, Виральдини выбрал именно меня, чтобы рассказать свою историю. У нас с ним божественный резонанс. Совпадение нуль-вектора…
Вовка покосился на Стаса и сказал:
— Чтобы прийти к такому выводу, наверное, надо быть настоящим профессионалом. Ведь вы консерваторию окончили?
— Да. И вы абсолютно правы. Только знатоки по-настоящему разбираются в классической музыке. Впрочем, как и в дорогих винах. Чтобы оценить и то, и другое, нужны зрелость и опыт. И не заказать ли нам по этому поводу хорошего вина?
— Нет-нет, спасибо! Мы, в общем-то, не пьем… — наперебой запричитали Вовка и Стас.
Харченко тем временем ткнул пальцем в клавиатуру ноутбука. Поискав что-то на экране, он поднял глаза:
— Многие знают ноты, но лишь избранные сочиняют музыку… Обратите внимание, что пишет о Виральдини один из критиков того времени:
— Да… — сказал Вовка, — Музыка действительно очень сильная. Особенно «Четыре эпохи» и эта… «Ликующая Руфь».
Вовка невольно вспомнил странное томление, охватившее его, когда он слушал «Ликующую Руфь» в Большом зале консерватории.
— «Руфь» — это произведение со сложной, изломанной судьбой. Оно обладает редчайшей силой воздействия. Виральдини назвал его «Пизанская оратория». Хотя в Пизе при жизни композитора она так и не была исполнена.
— Это совпало с указом о запрещении Виральдини въезжать в город?
Харченко кивнул, затем жестом подозвал официанта.
— Графин водки.
— Сколько? — спросил официант.
— Грамм… двести пятьдесят.
Официант удалился.
— Что-то мне захотелось гиннес «с прокладочкой». Знаете, что это такое?
— Приблизительно… — уклончиво ответил Стас.
— Это когда глоток пива — рюмка водки, глоток пива — рюмка водки…
Вовку откровенно передернуло. Стас же решил не показывать удивления.
— Ваше здоровье! — провозгласил новый знакомый по возвращении официанта. — Ох, хорошо! Будто ангелочек пробежался там босичком…
Стас смотрел во все глаза. Вовка отвернулся и принялся рассматривать красочные постеры на стенах зала.
— Между прочим, Виральдини чуть ли не единственный композитор, биография которого полностью выражена в его сочинениях, — сказал Харченко, громко сглотнув.
— А Моцарт? — спросил Стас.
Харченко неопределенно махнул рукой.
— У Моцарта жизнь и творчество плохо пересекались.
— То есть? — не понял Стас.
— Так и есть — писал гениально, это несомненно, но вспомните, как он жил…
— «Гуляка праздный», — подсказал Вовка, за что получил от Стаса ногой под столом.
Тем временем Харченко начало откровенно развозить. Стас и Вовка молчали. Их собеседник понял их молчание по-своему.
— Вы, наверное, не слышали о тайном шифре в партитуре «Волшебной флейты», — сказал Харченко слегка заплетающимся языком.
— Признаться, действительно не слышали… Да, Вов?
Вовка кивнул.
— Сейчас уже доказано, что в этой опере Моцарт зашифровал некое тайное знание, которым владела масонская ложа. Моцарт имел несчастье в ней состоять. За эту оперу он поплатился жизнью — братья по ложе не смогли простить ему столь оригинального способа разглашения тайны. Фактически они спровоцировали отравление.
— А что это за знание? — Вовка интуитивно почувствовал, что эта информация может оказаться очень важной, хотя и не имеет прямого отношения к Виральдини.
Харченко траурно зевнул.
— Вот это пока точно не выяснено. Ключ к расшифровке вычислили в Институте Моцарта в Зальцбурге. Но тут, представляете, из архива Института исчезли все копии прямых источников.
Вовка от неожиданности присвистнул. Но тут же смутился:
— Ой, извините…
— Ничего страшного, — Харченко редкозубо улыбнулся и откинулся на спинку стула. — Нормальная реакция… Так что картина остается весьма размытой. Пока ясно только одно, — он поднял вверх указательный палец, — в тайных шифрах красной нитью проходит тема Мироздания на фоне прямо-таки египетской мистерии.
Алексей еще налил себе из графина и выпил уже без пива.
— Но Моцарт не был оригинален. — Он вдруг резко наклонился к Вовке и Стасу и снизил голос до шепота. — Виральдини опередил его! Он многих опередил. Даже пресловутого Куперена, который впервые назвал свой опус «Багателем». Глупец! Свой первый Багатель Антонио написал в восемь лет, за три года до того, как Куперен об этом вообще подумал!
Вовка посмотрел в изрядно осоловевшие глаза и тихонько пнул Стаса под столом.
— Вы хотите сказать, что Виральдини тоже был масоном? — Стас спросил это только для того, чтобы пауза не затянулась. Похоже, в подпитии Харченко становился непредсказуемым.
— Ни в коем случае! Наоборот, он состоял в некоем тайном монашеском ордене… Правда, за все время, что я занимаюсь темой Виральдини, мне так нигде и не встретилось название этого ордена. Вот подлость, а! — Он поводил глазами по лицам Стаса и Вовки, явно ища сочувствия. — Но одно я понял наверняка — некий тайный шифр сокрыт в партитуре «Ликующей Руфи»!
Повисла пауза. Стас и Вовка переваривали услышанное, Харченко явно наслаждался произведенным впечатлением.
— Эти ноты были найдены чуть больше года назад и уже успели произвести эффект разорвавшейся бомбы.
— А где их нашли? — спросил Вовка.
— В одном забытом частном архиве. В герцогстве Роскони на севере Италии. Замок Роскони стоит особняком в предгорьях Ломбардии. Архив был вмурован в восточную стену замка, рядом с домовой церковью.
— Капеллой?
Харченко мигнул.
— Да. — Он пьяно кивнул головой. — Антонио хорошо позаботился о том, чтобы эти ноты не нашли раньше времени. А может… чтобы вообще не нашли. Но их нашли.
— Он специально их прятал?
— Конечно! Как только пошел слух, что в партитуре скрыто Тайное Знание, на нее буквально открыли охоту.
— Неужели это знание так всех интересовало?
Харченко снисходительно посмотрел на Стаса.
— Интересовало. Кто-то ляпнул, что в нотах Виральдини зашифрован рецепт вечной молодости.
— Что за чушь! — не выдержал Вовка.
Вновь повисла неловкая пауза. Харченко тщетно пытался свести разбегающиеся глаза на вовкиной переносице, Стас ожидал очередного взрыва эмоций. Вовка попытался хоть как-то исправить положение.
— Э-э… Я хотел сказать, что никогда не верил во всякие там «средства Макропулуса»…
Харченко тяжело вздохнул и опустил глаза.
— Рядом с ним была женщина… Которая имела наглость не стареть. В свои тридцать восемь она умудрялась выглядеть на двадцать два. Об этом есть документальные свидетельства.
— Да… Тогда нездоровый интерес понятен.
Статус-кво был восстановлен, и Харченко продолжил:
— Оригинал партитуры украли во время репетиции прямо с дирижерского пульта — за несколько дней до пизанской премьеры. Потом кто-то напел кардиналу Мартини, что проводить в городе концерты священника-музыканта, у которого помимо Божьего дара есть еще и любовница, — плохой пример и насмехательство над Церковью. И тот издал злополучный указ. Идиот… — Харченко сжал кулаки.
— И что же дальше? — поторопился вставить Вовка. Он боялся, что повествование в любой момент может прекратиться.
— Дальше? — Харченко сверкнул глазами. — Дальше Антонио был вынужден спасать свое творение. Он восстановил его по партиям, которые копировщик Франческо расписал для всех инструментов и для хора. Потом три дня Антонио добирался до замка своего тайного благодетеля Роскони. После этого следы оратории были утеряны.
— Совсем? — непроизвольно вырвалось у Стаса.
— Как знать… В тот же год Виральдини изгнали из музыкального приюта для мальчиков. Был какой-то скандал. Возможно, на Виральдини пытались повесить то, что его интерес к мальчикам носил не только музыкальный характер. Ну, сами знаете, как это делается… Однако через два года его уже буквально умоляли вернуться.
— Наверное, это была обычная клевета? — сказал Вовка.
— Вне всякого сомнения! Но охота за ораторией продолжалась. Она до сих пор продолжается… Хоть партитуру и нашли, и даже успешно исполняют. Охота идет за Тайным Знанием… Кто-то очень хочет вечной молодости. Но не ее Антонио зашифровал…
— А что же тогда?
— Вам-то что за дело!
Стас и Вовка растерялись. Первым нашелся Стас.
— Да нам, в общем-то, ничего… Просто вы заинтриговали нас своим рассказом. Согласитесь, это естественный интерес.
Харченко пожал плечами, налил себе еще водки и посмотрел в рюмку сверху, словно оценивая глубину.
— Не многовато ли вам… — сказал Вовка, но Стас прервал его, снова пнув под столом носком ботинка.
Опрокинув рюмку, Харченко утерся салфеткой и сфокусировал взгляд на кружке пива.
— Никто всерьез не пытается найти ключ к этой тайне. Никто ничего не воспринимает всерьез. Но я найду… Верите?! — он резко вскинул голову.
— Конечно-конечно, — поспешил успокоить его Стас. Вовка энергично покивал.
— А все эта стерва! Это она сломала ему жизнь и загнала в могилу!! — в тишине ресторана слова Харченко прогремели как гром небесный. Официанты то и дело оборачивались в сторону столика, где сидела забавная троица.
— Пьяный бред… — полушепотом сказал Вовка. — Стас, пошли отсюда.
— Погоди… Алексей, кто сломал ему жизнь?
— Джирони! Анна Джирони, эта вавилонская блудница, совратившая монаха! Она думала, что гениальность Антонио уйдет вместе с его девственностью. Но как она просчиталась… — Харченко рокочуще отрыгнул. В глазах его засветился недобрый огонек. — Она хотела выведать тайну, полученную им от ордена. Но он держался молодцом… Молодец, старина Антонио! Зашифровал тайну, да не сказал ей ключ!!
Он засмеялся, потянулся к графину с водкой и неловким движением опрокинул себе на штаны кружку с остатками гиннеса.
— С-сука… — процедил он сквозь зубы, отряхивая штаны.
— Пошли, Вов, — тихонько сказал Стас.
Оба неловко поднялись.
— Сколько мы вам должны? — участливо поинтересовался Вовка.
Харченко поднял на него мутные глаза.
— Я же сказал, что обо всем позабочусь.
— Спасибо за пиво и беседу. Мы много почерпнули для себя.
— Вы не поняли главного! — почти крикнул Алексей. — Она вернулась! Она вернулась в этот мир, чтобы наконец заполучить тайну Антонио!! Она не оставит его в покое, пока не получит то, что ей надо!
Харченко уронил голову на руки и вдруг заплакал навзрыд.
Вовка и Стас, не сговариваясь, молча покинули ресторан. Официанты проводили их понимающими взглядами.
Дождь уже кончился. На солнце весело сверкали лужи, в небе висела бледная радуга.
— Надо же… — сказал Стас, глядя вверх. — Радуга в центре города. Нечастое явление…
— Ага… — рассеянно ответил Вовка. — Стас, по-моему, он окончательный псих.
— Похоже на то. До Виральдини он плотно занимался творчеством Шостаковича. А потом резко переключился на Виральдини. Кто-то сказал, что под музыку Шостаковича хорошо сходить с ума. Думаю, Харченко — яркий тому пример.
— Возможно. Но, в данном случае, нам это на руку, тебе не кажется?
— Пожалуй… Как бы цинично это ни звучало. Чувствую, опыты доктора Безековича не прошли для него даром.
Друзья двинулись вверх по Петровке.
— Надо же было добровольно отдать себя на такой эксперимент…
— Смотря что этот Безекович ему пообещал.
Помолчали. Гнетущее впечатление от встречи с Харченко постепенно вытеснялось солнечной погодой и осознанием того, что на дворе все-таки лето. А лето, как известно, кончается не скоро.
— Харченко, конечно, человек интересный… Но из его бреда я почти ничего не вынес.
— Вов… — Стас как будто взвешивал слова. — У меня такое чувство, что он не бредил.
— Да ну? — усмехнулся Вовка.
— Нет, бредил, конечно. Но… Ладно, я все обдумаю, тогда вынесу вердикт.
Вовка посмотрел на золотящийся в лучах солнца купол Высокопетровского монастыря, затем перевел взгляд на противоположную сторону улицы. Там слабо светилась реклама букинистического магазина. Внезапно ему в голову пришла идея.
— Слушай, ты говорил, что Харченко писал книгу?
— Да. Он ее почти написал.
— Вот бы почитать…
Стас повернулся к Вовке и на одесский манер поинтересовался:
— Вальдема-ар! Ну, ты же не хочешь все-таки сказать, шо мы ее таки немножко своруем, я тебя спрашиваю!
— Смеяться можно? — Вовка слегка обиделся.
— Ладно, не дуйся. Я же пошутил.
Вовка поддел носком ботинка лежащую на тротуаре алюминиевую банку из-под какой-то газировки и отправил ее в сторону ближайшей урны. Достав из кармана визитную карточку, он прочитал:
— Alex Kharchenko, musicologist… Я вот подумал, а что если через пару дней позвонить и попросить разрешения почитать копию. Думаю, он не откажет. Главное, не дать ему опять нажраться.
— Ну-ка, дай-ка сюда визитку. Надо же: «мьюзиколоджист»… — Стас вернул карточку Вовке. — Идея интересная. Только лучше встретиться с ним завтра. Пока он нас не забыл. Выслушивать все это девственное музыколожество второй раз я не собираюсь.
Вена, май 1741 года
— Маэстро! — услышал он оклик, но не стал оборачиваться. Скорее всего, это не ему — в Вене мало кто знал его в лицо.
— Маэстро!! — Крик уже ближе, затем топот бегущих ног и чья-то легкая рука легла на его плечо. — Постойте, маэстро Антонио!
— Давно никто меня так не называл, — проговорил он, медленно поворачиваясь. — Тем более по-итальянски.
— Вы не узнаете меня?
— Нет, синьор.
Он внимательно вглядывался в открытое приятное лицо молодого человека лет двадцати, стоящего перед ним.
— Нет… Увы, нет. Простите…
— Я Гуарески! — молодой человек растерянно улыбнулся. — Неужели вы не помните, Учитель?
Лицо Виральдини изменилось. Морщины разгладились, и в них на мгновение проступила светлая кожа. И глаза стали такими… да-да, совсем такими, как тогда, в приюте «Ospedale del Pace», когда самые сложные произведения начинали звучать так виртуозно и непринужденно, будто их исполняли Ангелы по вдохновению Творца. Робкая и беззащитная улыбка вдруг осветила его лицо. Гуарески с болью смотрел на своего учителя, думая о том, что, наверное, последний раз маэстро улыбался очень давно.
«Боже, сейчас ему должно быть лет тридцать пять, а выглядит уставшим от жизни стариком…»
— Не называй меня учителем, сынок… Считаться моим учеником сейчас мало чести.
— Если бы не вы, Учитель, я никогда не стал бы музыкантом, а сгнил на судоверфи! — горячо возразил Гуарески. — И никогда бы не научился отличать хорошее от дурного. Вы дали мне школу и привили вкус. Разве этого недостаточно, чтобы боготворить вас? Как же я могу от вас отказаться? Ведь тогда получится, что я предал вас. А учителей нельзя предавать!
— Это не предательство, — попытался успокоить его Виральдини. — Это… элементарная осторожность, пойми… Ведь мне уже все равно, а тебе может только навредить. Ты молод и талантлив. Я помню, как ты играл… И каким же при этом шалопаем был…
— Да я таким и остался, Маэстро, — широко улыбнулся Гуарески.
— А чем ты занимаешься сейчас? Не бросил музыку?
— Что вы! Я первая скрипка в оркестре «San Mose».
— Оркестровая аристократия…
Гуарески смутился.
— Ну, не знаю… Может быть. Эти четыре дня мы в Вене на гастролях.
— Так это вашими афишами оклеены все стены города. Мне бы хотелось сходить в театр, но… жаль, не получится…
— Как же так, Маэстро! — воскликнул Гуарески, но тут же понял, что Учитель не может себе позволить даже билет на галерку.
— Обязательно приходите, я проведу вас!
— Упаси тебя Бог! Ты хочешь, чтобы тебя выгнали из Оперы? О, молодость, беспечность… Ты хороший человек, Джанни. У тебя открытая, широкая душа. Оставайся подольше таким, прошу тебя… Но не надо что-то делать из признательности, из чувства долга. Не надо жалеть меня. Со мной случилось то, что должно было случиться… Я знал, на что шел. А ты… ты талантлив. Береги свой талант. Это ведь большая ответственность. Нет, не передо мной — перед Богом!
— Но…
— Послушай. Не станешь ведь ты общаться с чумным. Подавать руку прокаженному… А мне сейчас хуже во сто крат. Самое главное, Черный Омут может затянуть еще и тебя, ни в чем не виноватого. А я не могу этого допустить. Прощай. И не ищи встречи со мной.
Виральдини развернулся и ушел прочь, мгновенно затерявшись в пестрой венской толпе. Растерянный Гуарески почти сразу потерял его из виду. Незнакомый город поглотил Учителя словно песчинку. Куда идти? Где искать? Венская толпа не могла дать ответа…
— Я обязательно найду вас, Маэстро! — крикнул он в пустоту толпы.
Гуарески не обманул Учителя. Через два дня в бедном пристанище композитора Антонио Доменико Виральдини с глухим скрипом отворилась дверь. На пороге стоял Джанни Гуарески с привычным по приюту совершенно хулиганским выражением лица и с корзиной в руках. В корзине уютно возлежала всякая вкусная снедь и темно-зелено поблескивала объемная емкость, в венском просторечии именуемая «Подруганка». В ней плескалось нечто влекущее, манящее, конечно же, зовущее. И обещающее мимолетное утешение в горестях быстротекущей жизни.
Опережая протесты Учителя, Гуарески быстро проговорил:
— Маэстро, я ненадолго. По делу!
На столе в мгновение ока появилась вышеупомянутая бутылка и причитающиеся к ней аксессуары: четыре вида сыра, темная сырокопченая ветчина, свиная вырезка с черносливом, сухая охотничья колбаса, шейка, запеченная с чесноком и майораном, и румяный венский каравай.
— Вино еще из венецианских запасов, — заливался соловьем Гуарески, не переставая выкладывать закуски.
«Из мирного времени…» — пронеслось в голове у Виральдини.
— …А все эти вкусности куплены здесь, в Вене, в лавке какого-то… Штрауса. Он уважает музыку и обещает своих детей и внуков обучить музыкальному искусству.
— Вероятно, обучит… — произнес Виральдини, только чтобы прервать этот словесный поток, призванный усыпить его бдительность изгнанника.
— Конечно, обучит, — подхватил Гуарески. — Но это его дело. Я-то здесь совершенно с другой целью.
— С какой же, позволь полюбопытствовать?
— Мне безумно хочется выпить за ваше здоровье, Учитель.
Виральдини приложил ладони к лицу и усмехнулся.
— Достойный повод, мой мальчик.
— Вот и я так подумал… Ведь такого вина вы не пили давно, и я…
— Я давно не пил вина, — перебил его болтовню Виральдини. — А теперь присядь. И расскажи, как ты меня нашел.
Джанни обвел глазами комнату. При входе в жилище своего некогда прославленного Учителя он лишний раз понял — Маэстро бедствует, как никогда. Полуподвальная клеть из двух комнат с нужником налево от коридора. Подобие окна под неровным потолком. Старый клавесин в углу под поблекшими, но наверняка не потерявшими благодати изображениями Спасителя, Мадонны и Анны Павийской. Деревянный стол, два плохо отесанных табурета. Совершенно голые стены…
Джанни присел на один из табуретов.
— Это было не так сложно, Маэстро. В Академии музыки…
— Не говори мне о ней! — Виральдини прикрыл глаза, но тут же совладал с собой. — Прости…
Когда бутыль вина была откупорена, а вино разлито в красивые бокалы посеребренного венецианского стекла («Боюсь, что именно они будут проданы в ближайшее время», — подумал Джанни), Учитель сказал:
— За тебя! За твой талант, за твою удачу, за твое счастье, данное Богом, и, может быть, немного направленное мной…
— Нет, Маэстро. Я хочу выпить именно за вас.
— Ну… давай тогда за меня, — почти равнодушно согласился Виральдини.
Оба по маленькому глотку отпили вино. Дверь бесшумно приоткрылась. Гуарески поднял глаза и увидел Анну Джирони — бессменную нестареющую примадонну виральдиниевских опер. Его музу и давнюю страсть. Джанни едва удержался, чтобы не перекреститься, до того зловещим показалось ему это явление. Он сам не понял почему. Впрочем, возможно, он просто не успел этого понять — Анна коротко кивнула и закрыла дверь, оставив Антонио наедине с гостем.
Виральдини, хоть и сидел в кресле спиной к двери, почувствовал ее появление, но не сделал никаких попыток познакомить с Гуарески.
— Итак? — спросил маэстро, сделав очередной глоток вина и наслаждаясь почти забытым истинно итальянским вкусом.
— У меня есть заказчик… вернее заказ… вы не поверите, Маэстро, это удивительная история… я расскажу вам… — проговорил Гуарески, подливая вина в бокал учителя и свой. — Дело было вчера вечером. Я шел в свою гостиницу после концерта. Захотелось что-то пройтись пешком… Ну, мы немножко выпили после концерта…
— Понятно…
— Сами ведь знаете — без этого в нашем деле нельзя…
— Смотри, не увлекайся.
— Что вы, Маэстро! Я только маленькими глоточками… Ну и вот, иду я, настроение такое хорошее… Никуда не спешу… Как вдруг что-то вихрем проносится мимо меня и резко останавливается. Это была черная карета, запряженная четверкой вороных. Я музыкант, а не лошадник, но скажу вам, синьор Антонио, таких, как на подбор, породистых, дорогих коней поискать… Карета распахивается, и из нее выскакивают двое!
— В масках?
— Да! Как вы догадались? В черных масках, совсем как у нас в Венеции, на карнавале — одни глаза горят! Неужели грабители, думаю я, прижимая скрипку к груди. Как заору: «Скрипку не отдам!!» А они, ни слова не говоря, подхватывают меня под руки и заталкивают в карету. Просто похищение! Дальше я что-то плохо помню, — продолжал Гуарески, меланхолично подцепив вилкой кусочек сыра и отправляя в рот. — Похоже, меня чем-то усыпили… Очнулся я на роскошном диване в богато убранной гостиной. Сразу же убедился, что скрипка при мне, и немножко успокоился. Выходит из-за портьеры седовласый господин — благородный такой старикан. Я молча гляжу на него, и он ничего не говорит — смотрит на меня, вижу — изучает. Вдруг он заговорил по-итальянски. Вначале рассыпался в извинениях за такой не очень приятный способ знакомства. Выразил надежду, что я не очень пострадал. Он, видите ли, боится огласки и хочет остаться инкогнито. Я был целиком в его власти, так что счел за лучшее не возражать ему. А затем, Маэстро, он заговорил о вас.
— Обо мне?!
— Да, Учитель. Он очень лестно говорил о вашей музыке и сказал, что хочет сделать вам заказ. Как он узнал, что мы знакомы — до сих пор понять не могу…
— Какой заказ? — перебил Виральдини и невольно подался вперед. Глаза у него блеснули.
— Что-нибудь значительное. Фундаментальное… для солистов, хора и оркестра. Может быть, мессу?
— С некоторых пор, мой мальчик, я не пишу духовную музыку, — сказал Виральдини, снова откидываясь в кресле.
— А может, ораторию или кантату? Сейчас умами публики владеет Гендель, но ведь вы… вы же значительно глубже чувствуете… Кстати, тот благодетель не ограничивал в выборе темы и формы… Послушайте, а может быть, оперу! Что вы скажете, например, об «Орфее и Эвридике»? Это же глубочайший сюжет! Все силы ада ополчаются против бедного прекрасного певца. А как вы это можете сделать! Я просто предчувствую, как это будет звучать! Генделю и не снилось…
«Главное, не дать ему догадаться, что заказчик — я… Но у меня есть неубиваемый аргумент — изрядная сумма, которую я оставлю ему во что бы то ни стало. Откуда такие деньги у простого музыканта? А про богатого, щедрого, но эксцентричного дядюшку, старика Стефано Гуарески, ему лучше не напоминать. Тем более, что Учитель в свое время отказал старому сумасброду в написании Реквиема…»
После ухода Гуарески Виральдини долго смотрел на стопку золотых дукатов, оставленную на столе.
«Мой милый мальчик, Джанни… Боль моя… Помню, пять лет подряд я бился с твоим характером. Победил не я, а Характер. Зато какая радость была, когда у нас что-то получалось и звучало наконец так, как должно звучать… Вот ведь выдумщик, однако, — кони, маски, похищение… — Виральдини улыбался. — Но делаешь ты это от чистого сердца, у тебя щедрая, открытая душа. Разве я мог отказаться, как тогда с Реквиемом?.. Мальчик мой, как же мне теперь уберечь тебя… вот новая забота…»
Привычные мысли смешались, и среди них появилась еще одна, незнакомая. Виральдини прислушался… Где-то вдалеке тихо-тихо звучала песня Орфея. Словно ключик забил в пустыне, в центре выжженной души. Маэстро глубоко вздохнул. Если бы он мог плакать, он разрыдался бы.
Ватная тишина оставляла его…
Москва, 2005 год
Библиотека Национального музыкального фонда находилась в старинном особняке недалеко от станции метро «Белорусская». Вовка с деловитостью заправского «каталогоанатома» препарировал основную картотеку и наконец нашел, что искал. Подойдя к стойке, он заказал книгу музыковеда Александра Орлова-Сокольского «Антонио Виральдини. Жизнь и творчество».
— Прекрасный выбор! — уважительно отозвалась молодая словоохотливая библиотекарша. — Эта книга у нас давно, но ее так редко берут. Мало, знаете ли, знатоков настоящих. Я сама музыку Виральдини не слышала, но отзывы самые положительные… Вы музыкант?
— В некотором роде… — уклончиво ответил тот, подумав про себя: «Уймись же, дура!»
— Пианист?
— Да! — рассердился Вовка, хватая со стойки принесенную книгу. — Музыкальный работник детского сада. «В лесу родилась елочка» лабаю гениально!
— Так, пять минут вам! — раздался за спиной хриплый голос уборщицы. — И все, библиотека закрывается. Сегодня короткий день. Нечего вам тут…
Странная была женщина эта уборщица. От нее исходило хроническое недовольство жизнью вообще и им, Вовкой, в частности. Вовка расписался в формуляре, кивком поблагодарил библиотекаршу и спустился вниз. В гулком вестибюле не было ни души, а входная дверь оказалась запертой.
— Эй, есть кто?
Эхо откликнулось густое и неразборчивое. Вслед за ним появилась все та же уборщица.
— Ну чего разорался, как павиан! Сейчас пол протру и открою. Успеешь.
— Да я и не тороплюсь…
— Понасрали-то, понасрали… — басовито гудела уборщица, ловко орудуя тряпкой. — Интеллигенция хренова, пес их возьми…
В переходе на станцию «Белорусская-кольцевая» стоял небольшой оркестрик и с десяток слушателей. Молодые ребята играли старательно и добротно — посвистывала флейта, вздыхали валторны, пели скрипки, что-то негромко рассказывала контрабасу виолончель… Звучал любимый вовкин «Пасторальный менуэт» из «Четырех эпох». «Да… — подумал Вовка. — Старина Антонио теперь в фаворе».
Серебристые звуки ударялись о низкий потолок, устремлялись в дальние закоулки, чтобы возвратиться оттуда деликатным эхом… Отзвучали последние аккорды. Немногочисленная публика зааплодировала, послышался звон мелочи о дно стоящего на полу скрипичного футляра.
— Гнесинка? — поинтересовался Вовка у субтильного контрабасиста в больших очках.
— Обижаете, — важно ответил тот. — Мерзляковка!
Вовка достал бумажник, намереваясь отблагодарить музыкально-студенческую братию символическим подношением. В этот момент долговязый альтист пихнул локтем миловидную флейтистку и громко спросил:
— Ну что, Новоселова! Убедилась теперь, как попса в переходе по кайфу идет?
Вовка убрал в карман бумажник и отправился прочь с неясным чувством, будто его чем-то обидели. А чем именно — толком и не поймешь.
Исследовательский центр «Чизанелли» в Пизанских горах, 2005 год
— А что будет? — спросил Магистр. Низкий абажур зеленой лампы освещал только нижнюю часть его лица. — Если мы физически перетянем его сюда, для того времени он просто умрет. Меня волнует другое — сколько сможет продержаться эта «привнесенная материя» в нашем мире?
— Не распадется ли он на атомы? Вы это хотите сказать? — Доктор Безекович сложил руки домиком. — Не думаю, что здесь стоит чего-то опасаться. Я подготовил физическую замену в лице моего пациента Алексея Харченко. В состоянии измененного сознания он давно мнит себя Виральдини.
— Потому-то вы и рекомендовали его в качестве донора для переноса Виральдини в наше время?
— Харченко давно уже использует мою «Методику межвременного взаимодействия». Он несколько месяцев находится в контакте с Виральдини. Это придаст эксперименту определенную стабильность. С другой стороны… ведь вы добыли череп Виральдини?
— Да. Это стоило нам больших трудов и денег.
— Но оно того стоило! Вы ведь знаете, какую энергоинформационную нагрузку несут человеческие останки?
— Мне ли не знать… Даже в Средние века, если вы помните историю, при отлучении от католической церкви уже умершего еретика обряд совершали над останками, специально вырытыми из могилы. И при этом было весьма желательно иметь именно череп.
— Совершенно верно! Вы сами, Мастер, ответили на ваш вопрос. — Безекович взял со стола карандаш и принялся вертеть его. — Череп Виральдини у нас в руках. Харченко готов вселиться в шкуру Виральдини в любой момент. Так что за «сохранность присутствия» Виральдини в нашем мире можно не беспокоиться. Зря мы со всем этим тянули.
— Не все так просто, доктор… — Магистру, похоже, доставило удовольствие осадить самонадеянного партнера. — Сегодня в семь часов десять минут по местному времени началась первая фаза слияния планет группы «Агн Вир». Это случается примерно один раз в триста лет. Когда планеты разойдутся, перенос физически будет невозможен, и нам останется только забавляться с зеркалами. Так что у нас в запасе всего два дня.
Безекович растерялся.
— Вы прежде ничего не говорили о положении планет… Причем здесь это?
Магистр вновь сцепил пальцы.
— Видите ли… Слияние некоторых планет Солнечной системы приводит в действие определенную структуру здесь, на Земле… Мы называем ее Ромб — в моделях она действительно имеет форму ромба. В нем как бы сходятся направления разных миров Вселенной — это немного похоже на пересечение трамвайных рельсов. В момент слияния планет Ромб становится источником невероятной силы… Она позволяет буквально держать Вечность на ладони. Время необратимо, с этим законом не поспоришь. Но в любом законе есть дыры. — Магистр, все больше увлекаясь собственной речью, воздел руки. — И законы Времени отнюдь не исключение. Более тысячелетия назад мы обнаружили такую «дыру» и научились ею пользоваться. Но дано это нам раз в триста лет — когда сходятся планеты. И если сейчас ничего не получится, придется ждать еще триста лет. Задумайтесь над этим, синьор Безекович.
— Не знаю, как вы, — пробормотал Безекович, выслушав этот «монолог Жермона», — а я так уж точно не доживу.
Магистр решительно поднялся и грузно оперся на стол.
— Наши службы мобилизованы, так что можно начинать. У вас ведь все готово?
— Да-да, Мастер, — суетливо проговорил Безекович. — Не думал, что все решится так быстро… Я звоню Харченко?
Магистр медленно кивнул.
— Я оставил ему дозу цереброминала. — Безекович торопливо набирал номер на сотовом. — И сегодня в шестнадцать часов у него будет «сеанс контакта», как он сам это называет. По московскому времени. Вы ведь от нас на два часа отстаете?
— Да. Это будет… — Магистр бросил взгляд на тяжелые напольные часы в углу кабинета. Раз в полчаса они наполняли слух густым утробным боем, — …через десять минут.
С этими словами он пододвинул к себе клавиатуру компьютера, щелкнул парой клавишей и добавил:
— Если мы правильно состыкуем два события, то Харченко через туннель уйдет «туда», а Виральдини сможет оказаться здесь.
— Это будет адекватная физическая замена, — ответил Безекович. — В конце концов, закон сохранения еще никто не отменял и… Алло, Алексей! Да, это я. У вас все в порядке?.. Как так?! И много? Это вы напрасно… нет, я ничего не хочу сказать, но очень прошу, не злоупотребляйте… ну зачем же так грубо?..
Доктор, сказал в трубку еще несколько маловразумительных реплик. Наконец разговор закончился.
— Что-то не так? — недовольно поинтересовался Магистр.
— Нет-нет, — поспешил его успокоить Безекович. — Он, правда, выпил… Но в нашем случае это даже хорошо: алкоголь, с одной стороны, расслабляет, с другой — действует мобилизующе…
— Расслабленным он что-то мне не показался, судя по вашей беседе, — с сомнением сказал Магистр. — Впрочем, другого такого идиота у нас с вами все равно нет… — Магистр посмотрел на часы. — Без пяти два. Давайте начинать.
Он нажал кнопку селектора и сказал в микрофон по-итальянски:
— Всем службам исследовательского центра «Чизанелли» — пятиминутная готовность…
Вена, 1741 год
Напевная мелодия неторопливо лилась из-под пальцев маэстро. Звуки клавесина, обычно сухие и отрывистые, сейчас, словно боясь исчезнуть, с теплым воздухом поднимались к потолку, растекались по стенам и надолго задерживались в нишах старого дома.
— Только Музыка противостоит Смерти, — негромко сказал Антонио, не прекращая игры. — Иначе Смерть ничто не остановит. Мне бы хотелось хоть немножко задержать Время, зажать в кулаке безжалостные стрелки часов и не пускать…
— Это невозможно, поверь, — грустно ответила Анна. — Они просто разорвут тебе руку.
— Неважно. Пусть…
— Да. Но еще они разорвут тебе душу. Это очень больно.
Виральдини не отвечал.
Мелодия внезапно прервалась причудливым аккордом. Его сменил другой, еще более сложный.
— Орфея и Эвридику все же спасет Любовь. Подумай, ведь Любовь и Смерть всегда переплетаются… — Антонио продолжал играть, закрыв глаза. — Смерть Эвридики помогла Орфею перейти на новую ступень любви… Ты слышишь? Я люблю тебя…
— Да… И я люблю тебя, — прошептала Анна, доставая из складок рукава восточного халата остро заточенный стилет.
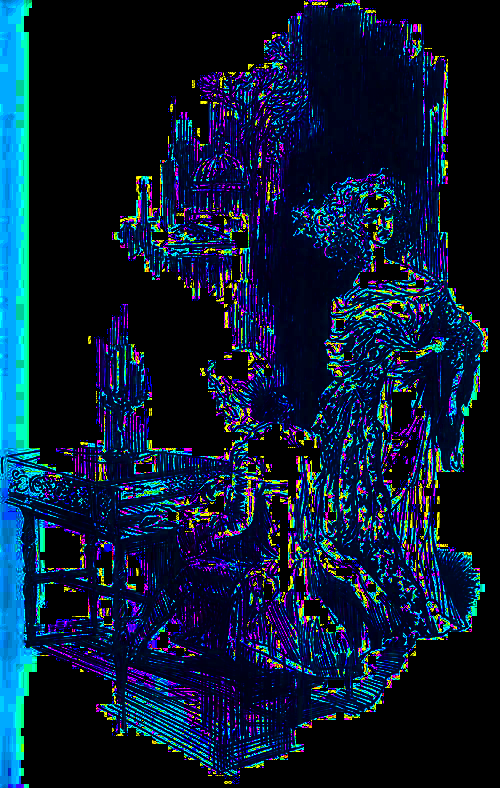 |
Мелодия, которую играл Виральдини, имела аккордовую фактуру. Она словно вырастала из мрака смерти и заливала все окружающее светом. Это был гимн Любви, гимн Жизни, гимн Вечной Весне… На первый взгляд это было похоже на импровизацию, настолько странные, непривычные гармонии вырывались из-под пальцев маэстро. Но Анна, хорошо знавшая Виральдини, поняла, что это давно им продумано и прочувствованно.
— Здесь, в кульминации, они должны встретиться, — говорил Антонио, не открывая глаз. — После смерти.
— Да… — выдохнула Анна, подойдя сзади и обняв Антонио. Ее красивая ухоженная рука обвила его шею. — Непременно. После смерти…
Стилет вошел в спину аббата Антонио Виральдини слева. Он умер сразу. Гораздо раньше, чем начал сползать под клавесин, а последние аккорды «Орфея» растаяли под потолком. Скорее всего, он так и не понял, что произошло. Для него Любовь просто перетекла в Смерть.
Москва, 2005 год
Вовка перелистнул страницу. «Партитура кантаты «Орфей» не сохранилась, — любезно сообщал музыковед Орлов-Сокольский. — Но, по преданию, Антонио Виральдини хотел выразить в этом произведении не столько историю популярной тогда древнегреческой трагедии, сколько свое видение взаимоотношений Любви и Смерти».
Исследовательский центр «Чизанелли»
— Проклятье! — воскликнул Магистр, с размаху стукнув кулаком по клавиатуре компьютера, так что несколько клавиш, выскочив со своих мест, с жалобным цоканьем поскакали по столу, как подкованные блохи.
Безекович от неожиданности подскочил на стуле. Не решаясь задать вопрос, он только недоумевающе глядел на Магистра.
— Эта мерзавка убила его! Убила в момент переноса! — и Магистр добавил еще несколько совершенно уж неподобающих его сану итальянских идиоматических выражений.
— Кто? — решился подать голос Безекович.
— Дьяболина! — Магистр с силой сжимал столешницу, так что кончики его пальцев побелели и казались прозрачными. Затем он разжал пальцы, медленно, словно с трудом, отрывая их от стола, и откинулся в кресле. Лицо его, обычно завораживающе-обаятельное, выглядело сейчас старым, некрасивым и обрюзгшим. — Ошибка природы
Безекович выжидающе молчал. Магистр поднял на него глаза. Это был взгляд человека, который понял: уже ничего исправить нельзя…
Венеция, 1717 год
— Хочешь, погадаю? — неожиданно спросила Анна, стоящего перед ней растрепанного мальчишку.
— Не знаю… — ответил Антонио. — Ведь христианам запрещено гадать.
Она серебристо засмеялась.
— Не бойся, мой мальчик. Это старинное венецианское гадание. Оно не запрещено. Ибо не связано ни с вызовом душ умерших, ни с попыткой заглянуть Богу в мысли. Ну, так погадать?
— А я и не боюсь. Давайте…
Тяжелые портьеры на окнах были плотно закрыты, гостиную наполнял таинственный полумрак. В большом серебряном блюде плескалась теплая вода. Горели три ароматных свечи (Антонио знал, что такие свечи отливают в мастерской старика Бруно, и стоят они баснословных денег) — одна возле Анны, другая близ Антонио, третья — немного правее гадального блюда. Анна взяла третью свечу, поднесла ее к двум другим, словно соединив мимолетным поцелуем язычки пламени, потом занесла над блюдом, и стала медленно лить расплавленный воск в воду. В теплой воде воск застывал не сразу, рисуя причудливые узоры.
Она повернулась к Антонио и нежно провела рукой по его волосам и щеке. Ее пальцы казались слегка наэлектризованными.
— Я хорошо вижу твою жизнь — она коротка и длинна одновременно. А музыка твоя будет жить после твоей смерти. Этому можно по-настоящему позавидовать.
— А какая мне разница, что будет после моей смерти? — спокойно спросил Антонио, словно ждал этого пророчества.
— Может быть, просто не будет смерти?
— А что будет?
Пламя свечей колыхнулось. Анна не ответила. Красивое лицо на мгновение отразилось в гадальном блюде.
В этот момент свет померк в глазах Антонио.
Москва, 2005 год
Мария Михайловна торопилась. Две тяжелые сумки с продуктами то и дело колотили ее по ногам. «За что мне это наказание, — думала она. — Он считает, что если домработница, так можно сесть на шею и ноги свесить. Убирайся, обстирывай, готовь… Да еще и за продуктами бегай! А она, чай, не девочка уже — через месяц седьмой десяток разменяет. Нет, она, конечно, еще крепкая, хоть и стенокардия иногда беспокоит. А хозяин тоже хорош. Хочу, мол, свинину в белом соусе сегодня на ужин. Сенсацию он, видите ли, какую-то откопал, сам с собой отметить хочет. Винища французского накупил… Женился бы давно, и не пришлось бы отмечать в одиночестве. В белом соусе… Залей сметаной, вот и будет тебе белый соус! Так нет, его ж готовить дольше, чем саму эту свинину треклятую. Да и продуктов на него надо перевести на ползарплаты…»
Предаваясь невеселым мыслям, Мария Михайловна не заметила, как подошла к подъезду шестнадцатиэтажного кирпичного дома. Преложив сумки в левую руку, она решительно надавила на кнопки домофона. Послушав с минуту игру переливчатого сигнала, кляня все на свете, она извлекла из недр болтающейся на плече старомодной кожаной сумочки длинный ключ и вставила его в отверстие домофона. Тот противно запищал и впустил Марию Михайловну в подъезд.
Поднявшись на лифте на восьмой этаж, она открыла дверь холла и, подойдя к 46-й квартире, начала возиться с замками. Один, второй… Из-за двери доносилась музыка — хозяин опять слушал какую-то классику. «Заслушался, бездельник, по домофону ответить не может!» — сердито подумала домработница. Наконец дверь открылась.
По квартире изысканной птицей порхал небесной красоты женский голос, томно выводящий «Qui tollis pecca-ata mu-undi-i…» Ничего не понимавшая в музыке Мария Михайловна невольно застыла, вслушиваясь в звучащую красоту. Через несколько секунд она ухмыльнулась сама себе и громко крикнула: «Алексей Михалы-ыч! Ужин к скольки готовить?» Ответа не последовало. Голос певицы смолк, отзвучали последние оркестровые пассажи. Большой музыкальный центр в гостиной громко щелкнул окончившейся кассетой.
— Есть кто дома?! — Марию Михайловну охватило смутное беспокойство.
Она поставила сумки в прихожей и почему-то на цыпочках направилась к кабинету хозяина. Открыв дверь, она замерла на пороге. Глаза ее широко распахнулись, а тело начало сводить длительной судорогой. Через несколько мгновений Мария Михайловна распрямилась и опрометью кинулась вон из квартиры. Минуя лифт, выскочила на лестницу и сама не заметила, как бегом преодолела несколько пролетов вниз. Когда она остановилась, чтобы перевести дыхание, до ее сознания вдруг дошел смысл увиденного в хозяйской квартире. Привалившись к стене, выкрашенной бледно-зеленой краской, Мария Михайловна подняла глаза на разбитую лампу дневного света под потолком и завыла.
Выла Мария Михайловна художественно — с переливами, модуляциями, во всю мощь своих легких. Этот леденящий душу вой многократно усиливался акустикой лестничной клетки — он был слышен на всех этажах и мог бы разбудить мертвого. Но музыковед Алексей Михайлович Харченко так и не пробудился. Ибо трудно восстать из мертвых, когда от тебя осталась только нижняя половина туловища.
— …И спасибо за помощь, молодой человек… — кричал пожилой мужчина, брызгая пеной. Никак не удавалось вспомнить, как его зовут.
Вовка мельком огляделся. Вокруг простиралось горное плато, обрамленное заросшими склонами. Слева одиноко ржавела заброшенная одноколейка. Окружающий пейзаж сам по себе не вызывал у Вовки опасений, хотя никак не получалось сообразить, каким же образом он здесь очутился. Однако прямо на Вовку смотрел круглый зрачок пистолетного дула. Это обстоятельство весьма омрачало окружающую идиллию. «Зачем это он?.. Не надо!» Вовка ощутил странную раздвоенность: будто один Вовка обмирает от ужаса под дулом пистолета, а другой молча стоит в двух метрах от первого и с болезненным любопытством наблюдает за происходящим.
Тому, второму Вовке, не было страшно. Наверное, когда тебе чуть больше двенадцати, ты прекрасно осознаешь, что болезнь или смерть может грозить кому угодно, только не тебе.
— Без тебя я никогда не смог бы получить этот ларец. Ведь из поезда с ним мог выйти только ребенок…
«Вспомнил! — сказал Вовка сам себе. — Бондарь. Григорий Ефимович. Но ведь он умер! Точнее, его… того…» Вовка не успел додумать, чего «того», — раздался выстрел. Он был каким-то густым, вязким. «Странно… — подумал Вовка. — Ведь это, наверное, должно быть больно. Или хотя бы страшно. Как-никак, меня убивают…» Маленький пистолет вдруг издал вопль какого-то экзотического животного. Вовка наконец понял, что это был не вопль и не выстрел, а телефонный звонок, который гремел над горным плато бесцеремонно и громко. Лицо Бондаря удивленно скривилось и неожиданно разрослось до немыслимых размеров. Поморгав глазами, оно начало истаивать, растворяться в пространстве сна, пока не исчезло где-то за его пределами.
Сев на кровати по-турецки и помотав головой, Вовка дотянулся до журнального столика и поднял трубку.
— Да? — хрипло произнес он.
— Вов, ты спишь? — раздался в трубке голос Стаса.
Вовка опять помотал головой.
— Стас! Сейчас… — он мельком взглянул на зеленое табло электронных часов, — пять утра. Что в это время обычно делают нормальные люди?
— Значит, я могу предположить, что ты не стоишь, а хотя бы сидишь. Или лежишь. Просто не хочу, чтобы ты упал, когда услышишь то, что я тебе скажу.
— «Стас уполномочен заявить!» — хрипло съязвил Вовка. — Что случилось?
— Харченко мертв.
Вовка подскочил на кровати. Затем попытался осмыслить услышанное. Получилось плохо. Он вновь тряхнул головой, чтобы, наконец, проснуться окончательно.
— Стас, ты уверен, что это… телефонный разговор?
— Уже еду, — в трубке зазвучали короткие гудки.
Вовка вновь посмотрел на часы и замер в липком оцепенении, не в силах отвести от них взгляд. На табло горела тревожная ярко-зеленая надпись «SOS», и только спустя несколько долгих тягучих мгновений Вовка понял, что это не латинские буквы, а цифры: «5:05». Наконец часы сдвинулись с мертвой точки и показали шесть минут шестого, семь… десять…
В половине шестого появился Стас. Вовка в одних трусах восседал на табуретке. Взгляд его блуждал за Стасом, ходящим туда-сюда по кухне.
— Вчера допросили возможных свидетелей. Больше всех, конечно, досталось его домработнице — она первая обнаружила то, что от него осталось. Чуть с ума не сошла. Оказывается, домой он пришел уже хороший: «напою жену, обниму коня…» Купил дорогущего вина и заказал ей на ужин какую-то экзотику. Чуть ли не свинину со взбитыми сливками.
— Да ну! — Вовкины глаза сверкнули восторгом исследователя.
— Не отвлекайся, кулинар! Домработница пошла за продуктами. А когда вернулась, застала «картину маслом».
— Бедная домработница…
— Верхнюю часть туловища, начиная с головы, буквально засосало в монитор компьютера. От него будто откусили половину. Представляешь?
— Смутно… — поморщился Вовка.
Стас зачем-то снял со стены большой половник, покрутил его в руках и водрузил на место.
— Знаешь, тебе удалось меня запутать, — сказал Вовка. — Теперь, сделай милость, озвучь хотя бы одну версию. Какие идеи у милиции?
— Как всегда, никаких, — спокойно ответил Стас. — Ты что, не знаешь нашу милицию? «Шьем дело из материала заказчика…»
— Надеюсь, это не пресловутая «тайна следствия»?
— А следствие этой информацией вообще не располагает. Так что скорее это тайна ДЛЯ следствия. А вот в известном тебе ведомстве кое о чем догадались.
— Стас, не издевайся! Не томи.
— Так вот, в тот день он вернулся из библиотеки Музыкального центра имени Глинки и сообщил домработнице, что, наконец-то сложил все части мозаики и завтра мир узнает о его невероятном открытии.
— Она что, помогала ему в работе?
— Да нет, обычная приходящая тетка, в музыке ни бум-бум, вроде нас с тобой. Зато приготовить, убрать, то-се — это пожалуйста. Соседи говорят, именно она его квартиру в порядок привела. А то там была дикая грязища, да насекомых целые стада.
— Надеюсь, не кровососущих?
Стас на мгновение задумался.
— Нет. Скорее шустробегущих…
— Тоже неприятно. Неужели совсем ничего не осталось? — Вовка помотал головой. — Слушай, Стас, идея! Ты говоришь, монитор несколько… покорежился. Но если был монитор, то был и компьютер. А если был комп, то должно же остаться какое-то файло…
— Комп был, это верно. Ни много ни мало — последней модели UNING с процессором R900.
— Ни фига себе! — Вовка присвистнул. — Это ж целое состояние.
— Да. Была даже и цифровая камера за креслом, уж не знаю, на что она ему… Похоже, деньги у него водились немалые.
— Ну и?..
— Вов, эксперты тоже не дураки. Первым делом они кинулись к компу — и что ты думаешь? Винчестер был абсолютно голый, что твой король.
— Отформатированный, что ли?
— Нет, просто размагниченный. То ли скачок напряжения был, то ли выброс какой-то энергии. Не знаю, я ведь не физик.
— Дела-а… — задумчиво протянул Вовка. — Значит, все его записи пропали?.. Паршиво…
— Скорее всего, мы опоздали, — мрачно согласился Стас. — Вот не согласился ты на грабеж, узколобо смотришь! Шучу-шучу, «не смотрите на меня так, товарищ Хунта…»
— Стас, а не могло ли остаться копии? Совершенно случайно?
— Вовка, голова! Так… Он писал статьи для «Музыкального Клондайка», сотрудничал с агентством «Новости»…
— Серьезно? — Вовка вскочил с табуретки. — У меня в «Новостях» хорошая знакомая работает. В центре обработки сообщений.
— Люба?
— Все-то ты знаешь… Ну да, Любка. Она сможет помочь. Вот только никого больше втягивать во все это не хочется.
— То-то и оно… Я сам жалею, что ввязался во всю эту историю. Да еще и тебя втянул. Но назад хода нет. Мне об этом уже намекнули. Деликатно.
— Пока деликатно… — проворчал Вовка.
— Ладно, Вов. Поеду я… Может быть, что-то новое узнаю.
— Эй, погоди. А завтракать?
Стас прислушался к себе.
— Спасибо, Вовик, не хочется. Попозже что-нибудь съем. А сейчас ничего в горло не лезет.
Соединение с интернетом заняло не больше минуты. Увидев в переговорном окошке программы ICQ знакомое имя Lyuba_Borisova, Вовка несказанно обрадовался и тут же набрал на клавиатуре:
«Люб, привет! Ты чего в такую рань на работе?;-)».
«Так я и не уходила, — последовал ответ. — Работой привалило:((».
«Люба, выручи меня! Мне очень нужна твоя помощь».
«Я вся внимание».
«На какой-то машине вашего центра должны храниться файлы, принадлежащие одному человеку. Который вчера… в общем, он умер».
«Что за файлы?»
«Я не знаю. Но у хозяина была фамилия Харченко».
«Значит, это из-за его файлá у нас тут чуть скандал не разгорелся!:-/// Пришла комиссия из Агентства и решила проверить компы на постороннюю информацию. А тут на тридцать мегов какой-то ботвы».
«Любка! Только не говори мне, что все потерли!»
«А как же! Конечно, потерли».
Вовка похолодел. Люба тем временем продолжала:
«Но предварительно шеф записал этот каталог на сидюк;)))».
«Люб… Ты меня, кажется, спасаешь: о))))))».
«Да ладно, двоечник! Где пересечемся? Так и быть, сниму тебе копию».
«Где скажешь».
«Давай тогда в 11:30 в баре «Нептун» на Речном вокзале. Мне там надо путевки выкупить…»
«До встречи, Люб;-*».
Выключив ноутбук, Вовка удовлетворенно — до хруста — потянулся и подумал, что Стас, наверное, будет доволен.
После уличной жары Северный речной вокзал встретил Вовку нежной прохладой. В этот час здание было практически пустым. Вовкины шаги отдавались под гулкими сводами. Пройдя вестибюль, он свернул налево и открыл дверь бара «Нептун».
Внутри заведение было оформлено под трюм пиратского судна. Обитые мореным деревом стены, стилизованные под иллюминаторы окна, маленькие электрические факелы с имитацией «настоящего огня», столики в виде корабельных бочек, обернутых настоящими канатами… Звучала негромкая музыка. После солнечного дня глаза не сразу привыкли к уютному полумраку. Пришлось несколько секунд постоять и осмотреться.
Практически сразу Вовка заметил Любу — она сидела за столиком-бочкой одна. Перед ней красовалась открытая бутылка красного вина и тарелки с разнообразной закуской.
— Привет! — Вовка от души улыбнулся.
— Привет! — она подняла глаза.
— Тебе очень идет эта стрижка.
— Спасибо. Мне тоже нравится.
— Как называется?
— Не знаю… Фантазийного направления.
— Супер… Как ты, Люб?
— Хорошо. Долго рассказывать, но я довольна. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить, — она постучала по столу. Бочка отозвалась утробным уханьем.
Вовка и Люба шутливо вздрогнули от этого звука и рассмеялись. Люба взяла чистый бокал и подала Вовке.
— Разливай, — сказала она, кивнув на бутылку.
Вовка жестом заправского бармена взял бутылку и наполнил бокалы.
— Борисова, прости, я совершенно в нолях… Отпускные будут только через неделю.
— Ладно, ничего… Считай, что сегодня у нас будет Белый Завтрак — дамы угощают кавалеров.
Вовка грустно улыбнулся:
— С меня реванш.
— Не сомневаюсь. Ну ладно, рассказывай, во что ты ввязался на этот раз.
— Люб… — Вовка помолчал. — Если я расскажу тебе, как есть, ты все равно не поверишь. Если навру — побьешь. И правильно сделаешь.
Люба внимательно посмотрела на него. Достала из пачки тонкую сигару «Captain Black», элегантно прикурила от протянутой Вовкой зажигалки, откинулась на спинку стула и с удовольствием затянулась. Вовка посмотрел на нее и лишний раз понял, что полнота — это тот самый очаровательный недостаток, который стремится перейти в очевидное достоинство.
— Пожалуй, я побью тебя прямо сейчас, если ты немедленно не выпьешь за мое здоровье.
— Прости, солнце мое! — спохватился Вовка. — Я сегодня почти не спал и вообще торможу… Твое здоровье!
Они звонко чокнулись и отпили по глотку вина. Вовка удовлетворенно кивнул.
— Закусывай, — сказала Люба. — И не дай Бог, если ты все это не съешь.
— Борисова, я же отсюда колобком выкачусь!
— Что и требовалось доказать. Между прочим, это их фирменная закуска. Рекомендую.
Вовка взял небольшое канапе и отправил в рот.
— Вкусно?
Вовка промычал что-то неразборчивое и согласно закивал. Прожевав, спросил:
— Ты что, сегодня с работы ушла?
Люба хитро сощурилась.
— Прогуливаешь? — улыбнулся Вовка. — Или после ночи отпустили?
— Знаешь, ты меня, конечно, извини, но жизнь слишком коротка, чтобы посвящать ее только работе. Тебе не кажется? И вообще, я работаю для того, чтобы жить, а не наоборот.
— Логично. А из налоговой чего ушла?
Люба слегка двинула бровями и неопределенно поводила сигаретой.
— Так… Смена декораций. Естественный процесс.
В этот момент к их столику приблизился бармен и поставил около каждого высокий бокал с каким-то напитком.
— Вообще-то мы не заказывали, — сказала Люба.
— Это подарок от заведения. В знак симпатии от нашего управляющего. Коктейль «Атташе».
Вовка и Люба удивленно посмотрели друг на друга, потом на официанта.
— Спасибо. Не ожидали.
Официант улыбнулся и отошел к стойке.
— Так, пока не забыла… — Люба открыла красивую кожаную сумку и извлекла оттуда прозрачный конверт с компакт-диском. Круглая пластинка радужно заблестела в приглушенном свете бара.
— Любка! — растрогано сказал Вовка, убирая диск в папку. — Я твой вечный должник.
— Ага… Ты ешь, давай. Для кого я все это назаказывала?
Вовка с удовольствием отпил коктейль.
— Вкусно… Я думал, для себя.
— Индюк тоже думал. Свое я уже съела, пока тебя ждала. — Она тоже отпила через соломинку.
— Не считаясь с диетой? — Вовка не смог сдержать улыбки.
Люба подняла аккуратные брови.
— А что, я когда-нибудь изнуряла себя диетами? Чтобы стать очередной превосходной вешалкой для одежды? Глупо, Вова.
— Ты все так же любишь хорошо покушать… — он вновь припал к соломинке.
— Да, люблю. И покушать люблю, и выпить люблю. Я, если помнишь, вообще жить люблю. А серьезное отношение к жизни вредно сказывается на цвете лица. Так что…
Вовка наклонился к ней через столик и поцеловал в щеку.
— Братский поцелуй комнатной температуры, — прокомментировала Люба.
Вовка улыбнулся и стал играть стаканом, в котором все еще позвякивали почти растаявшие кубики льда. Посмотрел на Любу сквозь легкую завесу ароматного дыма и вдруг спросил:
— Как твой сынишка?
— Второй класс уже… — она не удивилась вопросу.
— Хорошо учится?
— Мог бы и лучше.
Помолчали. Люба затушила сигарету в стеклянной пепельнице и отрешенно произнесла:
— Чего теперь прошлое ворошить…
Вовка вздохнул. Сказал зачем-то:
— Время — лучший лекарь.
Люба подняла на него глаза, посмотрела долгим взглядом.
— Ага, — сказала она. — Только бездарный косметолог. Ты сейчас куда?
— Домой, наверное. Надо разобраться со всем этим добром. — Вовка похлопал по папке, где лежал драгоценный компакт-диск.
— Ну, а я пойду все-таки выкуплю эту путевку на «Федора Шаляпина».
Вовка, ничего не говоря, пододвинул свой стул поближе и щедро поцеловал круглую упругую щеку.
— А духи у тебя прежние.
— Просто я себе редко изменяю.
— Спасибо тебе еще раз.
Она махнула рукой — пустяки:
— Звони, пиши.
Вовка улыбнулся, взял папку, и через секунду дверь бара «Нептун» закрылась за ним.
За несколько минут до встречи со Стасом Вовка вышел из метро «Лубянка». По небу плыли безобидные рваные тучи, то открывая, то закрывая уже идущее на закат солнце. Высокий человек в сером костюме сладострастно ковырял в носу перед парадным входом в здание ФСБ. Покосившись на Вовку, он нехотя прервал свою изыскательскую деятельность, открыл журнал «Здоровье» и погрузился в чтение. Вовка полез было в пакет, чтобы достать купленную в переходе газету, но тут имперского вида дверь отворилась, и на пороге появился Стас. С усталой обреченностью на лице.
— Привет, — безрадостно сказал он Вовке.
— Здравствуй, — ответил Вовка, пожимая Стасу руку. — Чего невесел?
— Да надоело все! — Стас поморщился. — В последнее время я ощущаю себя как минимум следователем по особо важным делам.
С этими словами он направился к подземному переходу, жестом пригласив Вовку следовать за собой.
— И что же наш следователь успел выяснить?
— Всего лишь подробности вечера накануне смерти нашего уважаемого музыколога.
— Наверняка это нечто ошеломляющее.
— Вовсе нет. Всего лишь «Клубный концерт» в Гостиной дома Шуваловой. Относительно регулярное мероприятие, так сказать, «для своих да наших» — каждый исполняет то, что считает нужным, потом все дружно пьют чай.
— Очень миленько. А что Харченко?
— Харченко… Да ничего. Говорят, сидел себе… Глаза бессмысленные, бледность аристократическая и улыбка странная. Отвлеченная такая улыбка. Потом решил саккомпанировать одной флейтистке на фортепьяно до-минорный концерт Виральдини для флейты с оркестром.
— Это какой?
Стас повернулся к Вовке.
— Может, тебе еще и напеть?!
— Не надо… Продолжай.
— Ну, выпил он, оказывается, перед концертом. Наверное, для большей беглости пальцев и бодрости духа. Ты же знаешь Харченко. То есть знал… Перед выходом на сцену ему конкретно поплохело — пришлось вызвать скорую.
— И что?
— Ничего. Харченко на полу, флейтистка в слезах, публика в панике. Просто Кончерто Гроссо! — Стас хлопнул в ладоши.
— М-да… Странности дарования.
— От госпитализации он отказался еще по дороге, приказал везти домой. Ну а дальше — домработница обнаружила… то, что обнаружила. Верхнейчасти туловища так до сих пор и не нашли… У милиции, сам понимаешь, довольно приземленные версии случившегося: маньяки-убийцы, садисты-кредиторы, «Сидоров-кассир»… Извечный джентльменский набор.
— Блистать фантазией — не их специальность, — ответил Вовка. — Но, согласись, их вполне можно понять.
— Наверное. Тем более что документы этого хухрика исчезли, как сон, как утренний туман. Нету! Осталась только медицинская карта — за нее и взялись. И чего там только не понаписано! И косорукость, и плоскоглазие, и лихостопие… В общем, все то, что никак не в состоянии помочь следствию. Так что сейчас оно опирается в основном на показания соседей и домработницы.
— А что, соседи тоже как-то… приняли участие?
— А то! Домработница выбежала в подъезд и завыла, как по покойнику. Соседей, естественно, понабежало, словно на шоу со стриптизом! Теперь все они вызваны в качестве свидетелей и врут, как очевидцы.
Вовка остановился, Стас тоже.
— Стасик, ау! — Вовка пощелкал пальцами перед его лицом. — Что значит «как по покойнику»?
— Вов, извини… — он почесал лоб. — Что-то я задергался совсем.
— Проехали… Ну и дальше что? Как отреагировала «почтеннейшая публика»?
— Очень живенько! Разве что не рукоплескала и не кричала «бис!» А так — полный спектр ну самой непосредственной реакции. От непроизвольного мочеиспускания до коллективных инсультов.
— Я чувствую, у подоспевшей «скорой» было много работы.
— А ты как думал! Представь себе, что там началось, особенно когда выносить стали. Ай! Ой!! Да кто ж его, родимого, так!!! Милиция еле отогнала.
— А домработница что?
— О, как раз ей в тот момент повезло больше всех — она наконец-то бухнулась в обморок.
— Стас! Тебя слушать — и смех, и грех! — Вовка еле удерживался, чтобы не расхохотаться. — Неизвестно, чего больше.
— Прости, дорогой. Считай, что это защитная реакция организма. Иначе весь этот паноптикум просто не выдержать… — Стас вновь начал заметно грустнеть. — Ну а ты чем порадуешь?
Вовка открыл папку и достал оттуда подаренный Любой компакт-диск.
— Вот… Полная копия файлов Харченко. Не побоюсь сказать, что единственная.
Стас, как завороженный, смотрел на радужную пластинку.
— Вовка… Ты не шутишь? Ведь… это сейчас, возможно, вообще единственный ключ…
— Стас, я не шучу. И сейчас я намерен поехать в библиотеку музфонда — нужно кое-что уточнить, а эти книги на руки почему-то не выдают. Только в читальном зале. А потом домой, и засесть за этот материал.
— Уфф… Ну, ты даешь. Молодец. Просто умница!
— Да это не я, это Люба… Созвонимся завтра после обеда, потом увидимся. Идет?
— Идет. Герой… — Стас с улыбкой потрепал Вовку по затылку.
Старинные ходики в коридоре хрипло прокуковали полночь. Стас поставил на огонь турку с изрядной порцией кофе.
— Сахар положил? — спросил Вовка.
— Нет… А зачем?
— Не знаю, но армяне всегда варят кофе вместе с сахаром — говорят, бодрящий эффект при этом удваивается. И вообще, кофе должен быть, как любовь, — горячим, крепким и сладким. Можешь у Ашота спросить.
— Так и быть, спрошу, — ответил Стас, добавляя в турку щедрую порцию сахара.
Через пару минут он разложил душистую пенку по небольшим чашкам, расписанным в китайском стиле, и, перемешав, разлил кофе.
— Ну? Что скажете? Плохо это?.. — Стас умело скопировал интонацию профессора Преображенского.
— Молодца! — похвалил Вовка. — Замечательный кофе.
— Твоя школа.
— Ага! Наконец научил я тебя кофе варить.
— Скажи еще «научил на свою голову».
— Сейчас я на твою голову его опрокину. Хотя нет, не стану — жалко. Отличный кофе получился, — проговорил Вовка задумчиво.
Стас открыл портфель и извлек оттуда початую бутылку армянского «Арарата».
— Давай по чуть-чуть. К кофе. По-моему, сейчас самое время оценить выдержку. Десять лет, как-никак.
— Ого… — Вовка открыл кухонный шкаф, поставил на стол два пузатых бокала.
После обязательного ритуала чоканья, взбалтывания, нюханья и отхлебывания Стас решил, что пора переходить к делу. Он с легким стуком поставил бокал на стол, поднял глаза на Вовку и не терпящим возражения тоном потребовал:
— Рассказывай!
— Да… чего рассказывать…
— «Чего рассказывать…», — передразнил Стас. — «Шел из бани, морда красная…»
— Стас, я расскажу все, ты не думай. Просто мне надо собраться с мыслями. — Вовка потер лоб, затем подбородок. — Ну, тебе, в общем, и без меня практически все известно. Похоже, сейчас мы знаем о Виральдини больше, чем о самих себе.
— Слушай, а диск? Неужели пустышка? — огорчился Стас.
— Отнюдь!.. Только, понимаешь, информации от Харченко много, и вся она… эмоционально окрашена. А мне хочется быть объективным.
Стас выжидающе молчал. Вовка посопел, подбирая слова. Затем аккуратно поставил бокал, взял чашку с кофе, с упоением сделал пару глотков, поставил чашку на стол, театрально вздохнул и выдержал поистине МХАТовскую паузу. Стас с огромным трудом преодолел желание врезать ему по шее.
— Ну, что же, Стасик… — Вовка открыл бутылку и налил себе еще коньяку. — Только имей в виду, что это во многом будут отдельные эпизоды, обрывки, ассоциации. В общем, буду петь с листа и наизусть…
— Ничего, я потерплю.
Вовка сделал небольшой глоток, облизал губы, затем неторопливо достал из потертого пакета изрядно исписанную общую тетрадь. Любовно полистал ее и открыл на одной из страниц.
— Прости, без шпаргалок не могу… Итак, 4 ноября 1705 года в Венеции, в семье скрипача Капеллы Собора Святого Марка Маурицио Виральдини рождается мальчик, нарекаемый Антонио Доменико.
— Что, двойное имя?
— Да. Тогда это было модно… Рождается семимесячным, с предельно маленьким весом.
Вовка поднял глаза, ожидая первой реакции. Стас отреагировал:
— Да будет тебе известно, — поучительным тоном сказал он, — по медицинской статистике, люди, которые родились недоношенными, живут меньше, зато интенсивнее.
— Слава Богу, я переношенный, — сказал Вовка и вернулся к своим записям. — Итак, была полная уверенность, что малыш не выживет. Действительно, через несколько часов повивальная бабка констатировала смерть…
— М-да… авторитетный специалист, — заметил Стас, покачивая в бокале темный янтарь армянского коньяка.
— Других, очевидно, не было под рукой, — съязвил Вовка. — И вообще, не перебивай, когда я в образе.
— Молчу-молчу. Продолжайте, маэстро.
— Не ерничайте, молодой человек… — спародировал Вовка профессора Баранова. — Лучше представь себе: рано утром небольшая процессия прибыла на маленькое загородное кладбище, чтобы предать тельце земле. И вдруг, во время короткой панихиды, из наскоро сколоченного гробика послышался детский плач!
— Ни фига себе! — Стас чуть не пролил содержимое бокала себе на брюки.
— Вот-вот… Ребенок оказался живым! Нетрудно представить себе сцену, разыгравшуюся на кладбище.
— Подозреваю, что повивальную бабку чуть не прибили тут же, не отходя от свежевырытой могилки.
— История музыки об этом умалчивает, — важно ответил Вовка. — Впрочем, она эту проблему и не изучала никогда.
— Кто? Могилка или бабка?
— История!
Вовка встал, подошел к холодильнику и достал оттуда половинку лимона.
— Знаешь, я не признаю коньяк без лимона. Все эти плебейские штучки, вроде «пить коньяк без закуски», а потом шумно вдыхать — как-то не для меня.
Стас улыбнулся. На миг его охватила гордость за этого симпатягу, которому он в свое время заменил пропавшего отца. Почти и не надеясь, что отец когда-нибудь найдется.
— Я вижу, тебя научили отличать патрициев от плебеев.
— А то!.. — задумчиво ответил Вовка, нарезая лимон.
Он сел и вновь принялся листать тетрадь.
— И что же дальше? — спросил Стас, не скрывая своего нетерпения.
— Дальше, в общем-то, ничего сверхъестественного — в пять лет Антонио начинает учиться у своего отца играть на скрипке, а в десять свободно подменяет его в капелле собора Святого Марка.
— И что же, папаша внезапно заревновал?
— Как раз наоборот — он лично отвел сына к одному из лучших музыкантов города и попросил обучить игре на клавесине, органе и, если получится, композиции.
— Неужели получилось?
— Стас!! — Вовка укоризненно покачал головой. — Одним словом, все говорило за карьеру музыканта. Что произошло дальше, я так и не понял… То есть, нет, я понял, но… как-то не могу этого объяснить… Я несколько раз перелопатил файлы Харченко, но общей картины так и не вырисовывается. Здесь какой-то пробел у меня в мозгах — Антонио почему-то выбирает не музыкальное, а духовное образование.
Стас задумался.
— А в других источниках что-нибудь есть на эту тему?
— Да не поймешь… Я попробовал почитать несколько книг, но все эти музыковеды с трехэтажными фамилиями, по-моему, просто стебаются! Такой, знаешь ли, полет авторской фантазии, такие вопиющие разночтения…
— Не соврешь — не проживешь, — резюмировал Стас. — Надо же им свои двадцать авторских листов отработать. Что ты, в самом деле, как маленький!
Вовка отмахнулся.
— Всего за несколько дней до принятия духовного звания Виральдини зачем-то приезжал в Пизу.
— Любопытно…
— Там ему встретилась старая цыганка… Об этом везде упоминается вскользь, поэтому не спрашивай меня, что она ему сказала.
— Погадала, наверное.
— Скорее всего. В общем, после этой встречи, в двадцать один год, Антонио перебирается в Милан и принимает сан священника.
Стас снял очки и потеребил нос.
— В любом случае это серьезный шаг. Судя по Дневнику…
— Погоди, давай сначала я. Что шаг серьезный, я разве спорю? Вот только сделал он его как-то странно…
— Ты считаешь, что причина тому — пизанская встреча с цыганкой?
— Кто знает… Виральдини почему-то панически боялся цыганок. И совсем не потому, что был не из тех, кто любит заглядывать в будущее. Тут была какая-то другая причина, которая мне пока не ясна. Еще коньячку?
Стас открыл рот, собираясь что-то добавить, но вдруг передумал и молча протянул Вовке бокал.
— Но интересно не это. Дело в том, что богослужений Виральдини старался не проводить, и вообще, от богослужебной деятельности почему-то «косил», как призывник от армии.
— Наверное, слишком увлекся музыкой? — предположил Стас.
— Будем считать, что так. По некоторым источникам, именно после двадцати лет у Виральдини обостряются приступы астмы.
— Ты уверен, что это не так называемая «официальная версия»? А истинная причина состояла совсем в другом?
— Боюсь, что во всей этой истории я вообще ни в чем не уверен. — Вовка нахмурился. — Понимаешь, меня не покидает мысль, что все эти документы кто-то пытается найти, и если не уничтожить, то каким-то образом запутать или подменить. Единственное, что ему мешает, — это то, что я почему-то успеваю раньше…
— Ты хочешь сказать, что… — Стас запнулся.
— Да пока еще я ничего не могу сказать! Но кое-какая мозаика уже сложилась. Слушай дальше… — Вовка перевернул несколько страниц. — В то же время он возглавил миланский музыкальный приют для мальчиков-сирот и вместо церковной службы увлеченно работал с талантливыми мальчишками. Чья-то неуемная фантазия назвала это заведение консерваторией — Il Conservatorio «Ospedale del Pace», типа «Корпус Мира». Но не корпус, конечно. Но и не госпиталь.
— Ты неплохо произнес это по-итальянски, — заметил Стас.
— Можно подумать, ты в состоянии это оценить!
Стас с шутливой укоризной помотал головой. Вовка улыбнулся, допил кофе и перевернул чашку.
— Погадать хочешь? — ухмыльнулся Стас.
— Ага… Может, мне кофейная гуща расскажет, когда ты наконец перестанешь язвить. По поводу и без повода. А чашку я просто так перевернул.
— Ну-ну…
— Насчет «по-итальянски» — не удивительно. Столько всего перелопатить пришлось. Поневоле заговоришь. — Вовка перевернул еще несколько страниц. — Вот здесь-то и возникает «идея Командорства»… Эту тему надо бы раскопать поглубже. И вообще поизучать.
— Зачем? Что она даст?
Вовка слегка задумался.
— У меня странное ощущение… Когда Струве начал говорить обо всех этих детских хорах с какими-то Командорами во главе, я воспринял это… ну, как шумовую информацию — мало ли какие там музыкальные подробности могут возникнуть. А сейчас… у меня такое чувство, что эти знания вскоре могут пригодиться.
— Организуешь детский хор? — не удержался Стас.
— С тобой невозможно говорить! — искренне возмутился Вовка. — Не буду я тебе ничего рассказывать.
— Да? А что же ты будешь?
Вовка хотел ответить классическое «да уж найду что…», но вместо этого, перевернув еще пару страниц, сообщил:
— Тогда же Виральдини увлекся оперой. Интересно, что его духовный отец, аббат д'Амандзо, не благословил его заниматься оперным жанром. Он заявил, что Бог дал Антонио дар писать гениальные концерты, церковные кантаты и все такое… Зачем гоняться за журавлем в небе, имея такую синицу в руках? Так разбрасываться своим талантом — только Бога гневить… Да и не к лицу человеку в духовном сане писать оперные произведения — не принесут они ему удачи.
— Как я понял, Виральдини ослушался.
— Совершенно верно — ведь к тому времени он уже успел вкусить славы. Вся Италия говорила о том, что музыка Виральдини — это буквально прорыв в Небеса. А тут такая возможность заявить о себе в новом жанре!
Повисла небольшая пауза.
— Вовик, ты выстраиваешь довольно стройную картину. Но я тоже кое-что раскопал. — Стас взял портфель и, открыв его, извлек солидной толщины папку.
— Ого… — отреагировал Вовка.
— А ты думал!
— Давай тогда развязывай тесемки, а я пока… — он красноречиво качнул пузатым бокалом.
— Алкоголик! — усмехнулся Стас и протянул свой бокал. — Смотри, не повтори подвиг Харченко.
— Кто бы говорил! — чокаясь с ним и улыбаясь, ответил Вовка. — Если я и алкоголик, то алкоголик-гомеопат.
Стас раскладывал документы. Вовка тем временем продолжал:
— Жизнь текла. Чем дальше, тем быстрее…
Стас внимательно слушал, продолжая раскладывать документы. Последними на стол легли цветные фотографии со старинных портретов. Вовка вдруг напрягся.
— Дай-ка мне эту фотографию… Кто это?
— Это? Портрет Анны Джирони работы Марко Кампителли. Он не очень известен… А что?
Вовка, словно завороженный, смотрел на изображение.
— Вов, что с тобой?
— Стас… Ты только не подумай, что у меня глюки, но… это лицо — один в один с той сопрано, что пела в консерватории «Руфь». Те же глаза, те же брови… Нет, ну просто один к одному!
— Ты уверен? — Стас взял фотографию из вовкиной руки.
— Абсолютно…
— И что это нам дает?
— Пока ничего. То есть… я даже не знаю, что это вообще может нам дать. Но сходство просто фантастическое. Прямо реинкарнация какая-то… — Вовка снова потянулся к бутылке.
— Вов, Вов… Ты же верующий человек. Какая еще реинкарнация! И вообще, хорош коньяк хлестать, а то сейчас в очередном портрете Карла Маркса увидишь.
— Да я понимаю, что сморозил глупость, просто надо же как-то объяснить — феноменальное сходство, тоже сопрано, и тоже исполняет музыку Виральдини. И как исполняет! — Вовка закатил глаза.
Стас молча барабанил пальцами по столу.
— Харченко тогда бредил: «Она вернулась… она вернулась». Конечно, ниоткуда вернуться она не могла… А ну-ка, — он резко встал, — запускай интернет! Сейчас попробуем что-нибудь нарыть по этой певичке.
Лунными оттенками в темноте комнаты светился экран отцовского ноутбука. Стас и Вовка вчитывались в найденные в интернете страницы. Как и следовало ожидать, на русском языке были представлены только рецензии, видеосюжеты и всяческие оперные новости:
Зато англоязычные ресурсы не поскупились на действительно полезную информацию. Все западные сайты хором трубили о том, что божественная, небесноликая сопрано снизошла на музыкальный Олимп с каких-то неведомых высот — никто толком не знает, где Анна родилась, где и у каких педагогов училась… Из жизни ее известно только то, что живет она в Венеции, в уединении, на принадлежащей ей вилле.
Особняком стояли на западных сайтах статьи на английском языке, подписанные Alex Kharchenko.
— Наш общий покойный знакомый, — кивнул Стас.
— Смотри, какой плодовитый! Список до пола выпадает.
Перечень статей Харченко действительно был столь велик, что уходил далеко за пределы экрана. Названия некоторых его работ говорили сами за себя: «Роль певицы Анны Джирони в жизни и творчестве композитора Антонио Виральдини». Было даже нечто вроде «Девственность и гениальность», но внимание Вовки и Стаса привлекла серия статей, посвященных творчеству Анны Джильоли.
— Каким же мутным языком написано! — сетовал Стас, вчитываясь в текст на экране.
— А что пишет-то? — нетерпеливо ерзал Вовка.
— Да пока ничего нового… Описывает ее вокальные данные. Все пестрит специфическими терминами… Из интересного только то, что певица поет исключительно музыку Виральдини. Хотя могла бы блистать во множестве оперных ролей.
— Странная ограниченность.
— То-то и оно… Ну и вот еще одна сакраментальная фраза — в следующих статьях Харченко готов сообщить своим читателям нечто сенсационное. Все заинтригованы, интернет рукоплещет! Но он не успел…
— Стас, что-то здесь не так. Я пока не знаю, что именно, но все эти совпадения — звенья какой-то одной странной цепи. И Анна эта… Фактически двойник той Анны. Смотри, Харченко погиб почти сразу, как сообщил нам о ней.
— Да… В общем, надо копать дальше. А пока я предлагаю вернуться на кухню и продолжить разговор.
— Прекрасный тост! — мрачно ответил Вовка и выключил ноутбук.
— Что там у нас дальше? — спросил Стас, усаживаясь на табуретку и подливая коньяк в бокалы.
— Дальше — больше. Виральдини вступает в какой-то тайный монашеский орден, который во всех документах НИКАК НЕ НАЗЫВАЕТСЯ. Можешь себе представить? Причем, туда его ПРИГЛАСИЛИ. Я думаю, фактически этот орден и начал, как сейчас выражаются, «раскручивать» Виральдини. И параллельно передал емунекие тайные знания. Какие? В этом-то и весь вопрос…
Стас хотел было что-то сказать, но потом передумал и вместо этого отхлебнул еще коньяка. Вовка продолжал:
— В церковных кругах, как ты помнишь, роились слухи о связи Виральдини с Анной Джирони…
— Как сейчас помню!..
— Однако до поры до времени они гасились тайными доброжелателями — вероятно, орден заботился «о моральной неприкосновенности» одного из лучших своих представителей. Но тут Виральдини допускает ошибку…
— Зашифровывает в партитуре «Руфи» полученные в ордене знания?
— Точно. Пока не ясно, зачем он это сделал. — Вовка задумался. — Однозначно, какая-то причина была.
— Орден как-то наказал его?
— В том-то и дело, что нет! То есть, не совсем… Его просто «избавили от опеки» — перестали поддерживать и защищать. Точнее, изолировали от дел ордена со всеми вытекающими последствиями. Вот тут и началось…
— Да… И общественность припомнила Виральдини все его грехи?
— Травля была еще та — почище Союза советских композиторов. Особенно старался некто Сильвио Барчелло, тоже композитор. «Руфь» должна была впервые исполняться в Пизе, но исполнение запретили. Фактически это означало: «Ату его!» Потом исчез оригинал партитуры — Виральдини восстанавливал ее по партиям, расписанным для отдельных инструментов. Помнишь, Харченко рассказывал? Потом пропали партии, но восстановленную партитуру Виральдини припрятал. Именно ее и обнаружили год назад. В общем, в один прекрасный день Виральдини распродает свои ноты и уезжает в Вену. Анна Джирони отправляется вместе с ним. Этакая нестареющая жена декабриста…
— И зачем он ломанулся в эту Вену… — задумчиво произнес Стас. — Ведь у него не было запасной жизни, чтобы начинать все сначала.
— Не знаю. Наверное, он был сторонником так называемой «теории всплывания».
— Первый раз слышу. Это как?
— А вот так. Она означает, что талант всегда пробьется. В любых условиях и при любых обстоятельствах. Но внезапно Виральдини умирает. Причины смерти не известны до сих пор… По одной версии — это внезапно обострившаяся болезнь.
— Что-то уж слишком быстро обострилась его болезнь. Я ничего не хочу сказать, но… кто знает, отчего он там умер. Анна Джирони пережила Виральдини, однако дальше о ней ничего не известно. То есть, вообще ничего!
Стас посмотрел на Вовку.
— Я тут тоже кое до чего докопался.
Вовка хитро улыбнулся.
— Неужели до внебрачного ребенка?
— Хуже. Вов, сразу предупреждаю — то, что я тебе сейчас расскажу, тянет на идею дешевого фантастического романа. И я был бы рад, если бы оно таким и оказалось.
— Заинтриговал…
— История касается небезызвестного тебе доктора Безековича. Фармаколога-психиатра.
— Который лечил Харченко?
— И, как я понял, не только Харченко. Этот «дохтур», похоже, не лечит, а калечит.
— У него что, подпольный кабинет?
— Можно и так назвать. Но, может, ты все-таки выслушаешь то, что я хочу поведать?
— Я весь внимание.
Стас открыл блокнот с вычурной обложкой в стиле «Хохлома».
— Щербаков через свои связи этого Безековича пощупал. Это было не сложно — большинство его научных работ по проблемам измененного сознания официально зарегистрированы и даже плавают в интернете. А вот материалы докторской диссертации он пока не особенно афиширует. Может, потому, что сама работа находится на стыке многих наук, и ни одна из этих наук не воспринимает эту работу всерьез.
— Что, присутствуют элементы мистики?
— Как ты догадался! — картинно удивился Стас. — В общем, суть такова: Безекович кормил своих пациентов какой-то дрянью, которую сам же и разработал. Называется «Цереброминал». Потом сажал перед двумя зеркалами — одно напротив другого, так, чтобы образовался туннель. И заставлял долго туда смотреть.
— Что за бред! Этим еще в древности развлекались.
— Вот именно. Безекович перелопатил кучу литературы о свойствах зеркал. От древней оккультной до современной. И сделал вполне научную выжимку.
— Неужели было что выжимать?
— Представь себе… Слушай дальше — он ждал, пока сознание пациента (или «клиента» — называй как больше нравится) затуманится препаратом, затем ставил по бокам две свечи и заставлял вглядываться в открывшийся туннель, чтобы попытаться увидеть там кого-то из умерших.
— «Вызыва-аю дух Александра Сергеевича Пушкина-а-а…», — страшным голосом завыл Вовка и воздел руки в пугающем жесте.
— Так. Вовка! Еще раз перебьешь — дальше хрен услышишь! Понял?
Вовка молча кивнул. Стас продолжил.
— Как только пациенту являлось видение в зеркале, Безекович заставлял встретиться с ним взглядом — оказывается, это самое сложное. И если это удавалось (а это удавалось!), начинал фиксировать «историю контакта». Так это называется в его записях.
— Ну и как?
— Нормально. Оказывается, под действием препарата происходит… — Стас посмотрел в блокнот, — слияние двух сознаний с эффектом вторичной доминанты.
— Че-го?!
Стас улыбнулся.
— Хорошо сказал, да? В общем, доминирует как бы «второе сознание». То есть то, которое «входит» в клиента. Понимаешь?
— То есть таким образом можно вытянуть из прошлого чужое сознание?
— Да тут получается… что не только сознание, но и некую… духовную субстанцию.
— Душу, что ли?
— Не совсем… — Стас терялся в собственных рассуждениях. — Как я понимаю, душа и духовная составляющая человека — в общем-то разные вещи. А сознание — оно, вроде как, двойственно по природе…
— Стас, у меня по философии трояк был.
— Увы, у меня тоже. Ладно, сегодня почитаю что-нибудь на эту тему.
Друзья снова сдвинули бокалы и сделали по глотку коньяка.
— Скажи… — Вовка отправил в рот ломтик лимона. — Ты правда во все это веришь?
— Не знаю… — Стас немного подумал и последовал его примеру. — Но, судя по всему, Безековичу действительно удалось чего-то добиться.
— Невероятно…
— Да. «Есть многое на свете, друг Горацио…» так что и не уснешь. Интересно другое. По теории Безековича, увеличив дозу препарата, можно получить эффект так называемой «первичной доминанты» — то есть, фактически, вселить сознание клиента в того, кто по ту сторону. Причем, на довольно длительное время…
— То есть отправить человека ТУДА?!
Стас молчал.
— Стас! Если все это так, то это же… способ перемещения во Времени!
— Похоже на то… Плюс эксперименты над человеческим мозгом и еще Бог знает чем.
— Кошмар.
— Самое ужасное, что если это открытие получит ход, сколько желающих будет пообщаться с душами умерших. Хотя, это и не души вовсе… Или все-таки души? Запутался я что-то.
— Получается, что это никакие не души, а… чуть ли не реальные люди — просто «перетянутые» сюда.
— Или «отправленные» туда?
— Бред какой-то…
— Бред — не бред, а… — Стас развел руками. — Безекович называет это «эффектом гипертуннеля». Кстати, побочные действия у этого цереброминала самые неприятные. Кроме психики «ползут» печень, почки, легкие… в общем, весь ливер. И, похоже, человек подсаживается на этот препарат как на наркотик.
— Грех-то какой… И зачем Харченко обрек себя на это?
— В этом весь вопрос. Щербаков утверждает, что там был какой-то обоюдный интерес. Причем, не только в плане результатов эксперимента.
— В смысле?
— Оказывается, Безекович тоже заинтересован в «контактах» с Виральдини. При работе с Харченко он использовал даже не зеркала, а мощный компьютер с большим монитором и хорошей цифровой видеокамерой. Ставил камеру напротив монитора и… короче, получается такой же туннельный эффект, как с зеркалами, только разрешающая способность выше и, наверное, появляются какие-то дополнительные возможности. Я пока не знаю, какие. По идее, компьютер должен был параллельно обрабатывать все, что происходит, но я в этом не понимаю ни пса… — Стас развел руками.
— Рассказывай дальше.
— Сослуживцы Андрея посмотрели электронную переписку Безековича — он работает через того же провайдера, что и Харченко. Там оказалось много интересного. Переписывается он в основном с частным медицинским центром «Чизанелли» в Италии.
— Только не говори мне, что в городе Пиза!
Стас помолчал немного.
— Вовик, ты будешь смеяться, но именно там.
Вовка шумно выдохнул.
— Все ясно, Стас. Копать надо именно в этом направлении. Чувствую, город Падающей Башни снова нас удивит.
— Кто знает… Так вот, переписка шла на английском языке. И написано было примерно следующее: — Стас перевернул страницу блокнота, — «…при более подробном исследовании вторичной доминанты выяснилось, что некоторые участки «вызванного сознания» блокируются, независимо от желания обоих индивидуумов».
— Господи, ну и язык!
— Погоди, я ведь перевожу. В оригинале еще хуже. «…В частности, именно в таком «закрытом секторе» находятся сведения, о которых вы упоминаете. Полагаю, что некоторое увеличение финансирования позволит мне добиться большей очистки препарата для достижения лучших результатов. Повторно прошу вас ознакомить меня результатами ваших исследований в направлении «первичной доминанты».
— Прости, я пока выслушал конец, успел забыть начало. Ахинея какая-то. Может, своими словами перескажешь?
— В общем, он денег просит…
— Да это я как раз понял!
— Он говорит, что не может добыть для «них» какую-то информацию. Но будет пытаться.
— Информацию от Виральдини? Стас, вдумайся!
Стас остановился.
— Погоди… Кажется, ты прав. А ну-ка, — он вновь открыл блокнот. — Похоже на то. Смотри: «…повторно прошу вас ознакомить меня с результатами ваших исследований в направлении «первичной доминанты». То есть они, судя по всему, научились кого-то отправлять ТУДА… Безекович просит от них ноу-хау в обмен на свой способ «переноса СЮДА». Или наоборот?
— Стас, ты понимаешь, что происходит? — беспомощно спросил Вовка.
— Боюсь, что да. Более того, мне кажется, что теперь я понимаю, почему Анна Джирони и Анна Джильоли так похожи. — Стас усмехнулся. — Осталось только выяснить, какая «доминанта» имеет место — «первичная» или «вторичная». А может, она вообще никакая не «доминанта»?
Вовка огорченно помотал головой.
— Мозги вывихнуть можно…
— Уезжая в Италию, Безекович оставил Харченко пузырек цереброминала. И строжайшую инструкцию по его применению. В частности, там указана несовместимость с алкоголем. А наш подопечный, отлежавшись дома после незабываемого концерта, принял коньячку и решил проделать очередной «спиритический сеанс». Или как это там называется…
— Гипертуннель?
— Он самый. Вколол себе этой дряни от Безековича, настроил компьютер и принялся медитировать.
— Кажется, я начинаю догадываться… — сказал Вовка.
— Даже не пытайся. Оказывается, Харченко периодически развлекал себя «уходом ТУДА». Сначала через зеркала, а потом с помощью компьютера с цифровой видеокамерой. Я вчера специально купил на лотке «Книгу гаданий» какого-то Максимовича. Муть редкостная, — Стас достал из портфеля мрачно оформленный том в мягкой обложке, — но там есть раздел, в котором описываются случаи, связанные с гаданиями на двух зеркалах со свечами по бокам.
— «Суженый-ряженый»?
— И это тоже… Там еще написано, что ни в коем случае нельзя встречаться взглядом с тем, кто покажется в туннеле.
— Ты же говорил, что Безекович наоборот заставлял «сцеплять взгляды».
— Да. Ему нужен был контакт. И еще в книге написано, что были случаи, когда «туннель» в прямом смысле слова затягивал гадающего. И если зеркала не выдерживали и лопались, одна часть туловища оставалось в «туннеле», а другая здесь.
— Господи, Стас! Неужели ты способен поверить в этот бред?
Взгляд Стаса слегка посуровел.
— Вовик… ты забыл, как доставал черепушку из поезда-призрака? Как пересекал потом Барьер Времени?
Вовка потупился. Стас продолжал:
— Это все явления одногопорядка. И тогда у тебя не возникало вопроса — бред это или не бред. Харченко «затянула» непонятная сила. Похоже, что полученный им на экране туннель каким-то образом материализовался. Только вместо зеркал не выдержал компьютер — туннель начал затягивать беднягу, компьютер перегорел, а монитор разрезал хозяина пополам… Вовик, не смотри на меня так — у меня у самого голова кругом!
— Вот тебе и опыты доктора Безековича. Доктор-смерть, блин…
Наутро Вовка принял душ, соорудил два горячих бутерброда с помидорами и сыром, сварил кофе. Безо всякого удовольствия Стас и Вовка употребили все это, болтая о незначительных вещах. Возвращаться ко вчерашнему разговору не хотелось.
Проводив Стаса, Вовка нашел в квартире два небольших зеркала — старинное круглое, еще бабушкино, и прямоугольное, из отцовской комнаты. Поставил их друг напротив друга и стал смотреть в глубь возникшего коридора. Подумал, что изображение очень похоже на поезд метро, если смотреть из последнего вагона вперед, сквозь стеклянную дверь в торце — череда вагонов и стеклянных дверей тоже образуют иллюзию бесконечного коридора. Где-то по задворкам воспоминаний проехал поезд-призрак. Вовка вспомнил, как пробирался на ходу из вагона в вагон по скрипучим и шатким переходным площадкам. «Почему же этот поезд пропал тогда, в Италии? — подумал он. — Может быть, «зеркала пространств» как-то соединились в тот роковой момент? И горный туннель стал для поезда «гипертуннелем», как пишет Безекович? А это значит, — встревожился Вовка, додумав до этого места, — что такие гипертуннели можно создавать искусственно? Бред…»
Бездна зазеркалья удерживала взгляд. Теперь она уже не казалась цепочкой вагонов и стеклянных дверей. Иллюзия бесконечного поезда уступила место длинной спиральной трубе. Казалось, за ободом странной спирали может прятаться кто угодно. Вовка с трудом отвел глаза и убрал одно зеркало.
«Куда же ведет этот туннель? — подумал он. — Ведь не может это быть просто игрой отражения, раз Харченко «затянуло». Да и в прошлом были свидетельства таких «затягиваний в зеркала». Но если бы не случай с Харченко, я так и продолжал бы думать, что все это вымысел…»
Вовка вернулся на кухню и включил электрический чайник. Открыл коробку с чаем. На дне болтался одинокий пакетик. «Надо чаю подкупить…», — машинально подумал Вовка. Он сел за стол и принялся ждать, когда чайник закипит, бесцельно глядя в окно и барабаня пальцами по столу. Мысль о туннеле не давала ему покоя: «Значит, человеческое сознание при определенных обстоятельствах может «прорубить» туннель во Времени?»
Чайник наконец-то захлюпал и нехотя отключился. Кинув в большую гжельскую чашку с надписью «Владимир» последний пакетик чая, Вовка залил его кипятком и вдруг понял — пить ему совершенно не хочется.
Исследовательский центр «Чизанелли»
…Безекович выжидающе молчал. Магистр поднял на него глаза. Это был взгляд человека, который понял: уже ничего исправить нельзя.
— Такие женщины встречаются не более трех на все человечество за две тысячи лет, — усталым бесцветным голосом начал рассказывать Магистр. — В какой-то момент своей жизни — обычно около двадцати лет — они вдруг обретают способность существовать… как бы вне Пространства и вне Времени. Их нервная система входит в резонанс с неизведанными пока законами Мироздания.
— Женщины? — осторожноспросил Безекович.
— Именно, и только! Это странные существа. Химеры… Им не нужна Машина Времени — их интуиция сама находит те слои Бытия, где им комфортно. И, что самое удивительное… им не нужно искать рецепта вечной молодости — после двадцати шести эти женщины просто перестают стареть! Они проживают много столетий, пропуская через себя человечество, словно песок сквозь пальцы.
— Удобственно… — пробормотал Безекович.
— Да. В совокупности они живут столько же, сколько нормальные люди. Просто их локальное, я бы даже сказал, «персональное», время течет совершенно по-другому. И они как никто знают, что мгновение и вечность, в сущности, одно и то же. Хотя любой дар несет свои издержки. Для женщины-дьяболины — это бесплодие.
— Так «дьяболина» — не ругательство?
— Это слово действительно можно перевести как «дьяволица», но здесь оно скорее термин. Как, например, «койво». Только койво — это человеческая аномалия по мужской линии. Не такая уж редкая. Относительно, конечно, — сейчас на земле мальчишек-койво чуть больше десятка. Дьяболина — аномалия чисто женская. Но их за всю историю человечества можно пересчитать по пальцам одной руки.
— И чем вы объясните такой… демографический дисбаланс?
— А чем вы объясните такой же дисбаланс среди гениев? Обратите внимание, как мало женщин среди гениальных композиторов, писателей, художников…
— Ну, это как раз объяснимо: мужчина постигает мир в понятиях, а женщина — в отношениях. Поэтому мужчины и создают философии, а женщины — нет. А философия — одна из основных составляющих творчества.
— Вы сейчас говорите, как врач-психиатр, — Магистр откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул. Было видно, что этим разговором он хочет хотя бы ненадолго отвлечься от горечи поражения. — Хорошо, давайте рассуждать вашими категориями. Но тогда женщина — это и художник, и композитор, и писатель… Только она пишет не произведения искусства, а собственную жизнь. И делает это не верхним энергетическим центром, а нижним.
— Я смотрю, вы неплохо осведомлены, Мастер.
— Это естественно. Носители Истины, исповедующие культ Двенадцати Голов, во все времена старались не упускать дьяболин из виду. Как только рождалась девочка с такими свойствами, она сразу попадала в наше поле зрения.
— И когда же родилась эта ваша… дьяволица?
— Третьего января 1886 года в Турине, в семье мелкого торговца. Девочку назвали Анной. Свою исключительность она поняла уже в четырнадцать лет. Но, повторяю, совершенно неважно, когда и где она родилась — эти женщины живут вне Времени и Пространства. Для них перейти в другое время так же просто, как нам с вами переехать на автобусе на другой конец города.
— Но это невероятно… — Безекович озадаченно чесал лоб.
— Если не сказать неправдоподобно, не правда ли? Есть еще одна особенность. Дьяболины очень своенравны. В этом странность их психологии. Никто не может предсказать, как они поведут себя в следующий момент. Их практически невозможно подчинить.
— Так что же, на них нет никакой управы?
— Видимо, действительно нет. Есть, правда, легенда о некоем Гиперборейском Зеркале, но это только легенда. Фольклор… Иначе такой ценный артефакт давно был бы у нас.
— Значит, никакой помощи?
— Отнюдь. Анна согласилась нам помогать. Фактически она прожила с Виральдини целую жизнь. Еще немного, и она выведала бы его тайну! Но тут случилось непредвиденное… Дело в том, что дьяболина не стареет.
— Да, вы говорили.
— Виральдини и Анна прожили вместе много лет. При этом сам композитор в свои тридцать-тридцать пять уже выглядел довольно старым. Но Анна не менялась нисколько! А ведь она постоянно была на виду — пела в его операх. Тогда по Италии и пополз слух, что Виральдини раскрыл рецепт вечной молодости и зашифровал его в одной из своих партитур. Тут на его произведения пошла настоящая охота. Она сбила все наши планы. Ноты скупали, разворовывали, тайно переписывали… Часто с жуткими искажениями — эти, с позволения сказать, «копии» дошли до наших дней и до сих пор ставят в тупик матерых музыковедов. Основные подозрения, конечно, пали на «Руфь» — ведь она писалась специально для Анны Джирони. А за ней успела закрепиться стойкая слава нестареющей женщины.
— Тоже мне, Пьеха… — пробормотал Безекович.
— Два раза партитуру пытались выкрасть. На второй раз это удалось, но ее следы быстро затерялись. Третьего раза Виральдини дожидаться не стал — он восстановил партитуру по памяти и спрятал свое творение в одному ему известном месте. Как вы знаете, это место открыли только в прошлом году.
— Значит, вы получили партитуру?
— Да. Получили. И… передали копию в «Ла Скала». Пусть поют. Без ключа к расшифровке это всего лишь музыкальный шедеврик…
— Всего лишь?
— Да, всего лишь! Но тут Анна неожиданно изъявила желание наконец-то спеть партию Руфи — ведь при жизни Виральдини ей так и не удалось этого сделать. А потом партитура исчезла. Блажь, конечно, но отказать дьяболине — себе дороже. Ее любовь к цветам и поклонению одержала верх над идеей.
— Мне кажется, — вставил Безекович, когда Магистр сделал короткую паузу и потянулся к пластиковой бутылке с минеральной водой, — что любовь к цветам естественна для любой женщины, пусть даже наделенной какими-то сногсшибательными способностями. И если бы вы поняли это раньше…
— Прекратите! — резко оборвал Магистр, поперхнувшись минералкой и утираясь платком с непонятными вензелями. — Лично я не признаю цветов. Это так пóшло! В нашей структуре они не прижились. И вообще, в цветочных магазинах есть что-то похоронное, вы не находите? Все эти составные букеты, обертки, целлофан… Кажется, что под прилавком у них лежат трупы в ваннах с формалином!
«О-о… ну, я попал! — подумал Безекович. — Случай, кажется, близкий к клиническому… Проколоть бы ему курс цереброминала, всю эту муть как рукой сняло бы». Магистра тем временем понесло в рассуждениях совсем уж не туда. Он продолжал вдохновенно препарировать несчастную дьяболину.
— …но Анна слишком хорошо знает себе цену. Богатство, любовь, плюс сверхъестественные способности… Бодрит, знаете ли. А порой и глаза застит! У дьяболины есть то, что есть. Причем есть сейчас, в данный момент жизни! То, что было раньше — очень хорошо. Было и прошло. За давностью веков, так сказать. Опустилось в культурный слой истории. Чего теперь сравнивать: «что было, что будет, чем сердце успокоится…» Или что у них там вместо сердца?
— Понятия не имею, — сказал Безекович. — Вам лучше знать.
— Мы не стали с ней спорить. Напротив, обеспечили победу на конкурсном прослушивании в «Ла Скала» и годичный контракт. Хотя, уверен, она и так победила бы, ведь поет божественно…
— Я знаю. Мой пациент Харченко увлекается ее творчеством.
— Бывший пациент, — поправил Магистр. — Не думаю, что он уцелел…
— Господин Магистр, он жив! — вбежавший человек в белом халате был растерян и растрепан. Впрочем, Магистр не стал сейчас ему пенять за нарушение субординации — было не до того.
— Кто?! — воскликнул он.
— Антонио Виральдини!!
Москва, 2005 год
Как сказал бы Николай Васильевич Гоголь, станция «Манихино-3» Рижской железной дороги немногих могла заманить своим местоположением. Небо было пасмурным, лесозащитная полоса изрядно полысела от времени и экологии. Крепчающий ветер приносил запах чего-то непонятного, что Бурик тут же мысленно окрестил «разлагающимся мамонтом».
— Воняет гадостно… — поморщился он. — Как орел на шкафу в «Понедельнике» у Стругацких.
— Ничего, принюхаемся, — как ни в чем ни бывало ответствовал Добрыня.
От этой фразы Бурик почему-то повеселел.
— Скажите, пожалуйста, откуда доносится столь дивный амбёр? — спросил он у проходящей мимо старухи со старым ржавым ведром, до половины заполненным отборной картошкой.
— Ась? — насторожилась старуха.
— Откуда вонь? — менее изысканно осведомился Добрыня.
— Мальчики, я глухая! — сообщила старуха в ответ и побрела дальше.
— Ишь… Запах птицефабрики им не нравится! — бросила проходящая мимо толстая тетка в синем казенном халате. — Зато куры…
Направо от действующей железнодорожной ветки уходили две ржавых полосы.
— Да вы посмотрите, какие рельсы старые. Кур отсюда лет двадцать как не вывозили, — и, не дожидаясь ответа, Бурик и Добрыня потопали по шпалам.
— Отсюдова яйцы возють! — закричала им вслед неугомонная тетка.
— Дура какая-то… — сказал Добрыня.
Через несколько шагов ребята догнали старуху с картошкой, которая, пройдя еще вдоль шпал, сворачивала на неприметную тропинку. Бурика внезапно осенило:
— Бабуль, а продайте нам немного картошки?
Перспектива неожиданной сделки, очевидно, вернула бабке слух.
— А чего немного-то, берите всю.
— Сань, ты чего! Зачем нам столько картофана?
— Ты ничего не понимаешь, мы ее испечем! Я у папы зажигалку стрельнул…
— Будет тебе от папы… — Добрыня явно колебался. Бурик, однако продолжил «окучивать» старуху.
— А за сколько? Только нам вместе с ведром, а то положить некуда.
Бабка задумалась.
— С ведром, так это ж рублей… сорок будет…
— Гхм! — громко сказал Добрыня.
— У меня есть, — торопливо ответил Бурик. — Бабуля утром дала. Нам на мороженое.
Он вынул из заднего кармана штанов четыре мятые бумажки, разгладил их и протянул старухе. Та перевела взгляд сначала на ведро, потом на деньги, и как будто нехотя взяла.
— Спасибо, сынок. Эх, пропади все пропадом… — она засеменила вниз по тропинке.
Бурик и Добрыня вдвоем взялись за ручку ведра — одному такую тяжесть тащить было неудобно — и пошли вдоль ржавых рельсов.
Шли ребята долго. Молчали или болтали о пустяках.
— Передохнуть бы, — сказал Бурик. — Все идем и идем. Так мы до Киева дойдем…
— До Киева — это надо было с Киевского вокзала ехать.
— Но до Риги я тоже топать не хочу. Давай здесь остановимся. Вон, смотри какой пенек.
— Где пенек, там надо съесть пирожок. А пирожков у нас нет, — ответил Добрыня. — Глянь, там впереди просвет. Полянка, наверное… Видишь?
Но полянки в просвете между деревьями не оказалось — ребята вышли на берег реки.
На противоположном берегу, наверное, когда-то был парк аттракционов — из-за деревьев возвышался остов давно заброшенного колеса обозрения. Голые спицы без кабинок торчали по кругу большого диска, казавшегося черным на фоне заходящего солнца. Ажурный узор спиц отражался в водах реки, в этот час почти неподвижных. Казалось, колесо уходит вниз и слегка проворачивается на дне, увязая в речном иле.
Чуть левее виднелся железнодорожный мост с полукруглыми бетонными опорами. На мосту показалась электричка. Проехав его, она дала протяжный гудок и начала тормозить. Видимо, здесь была станция.
Справа от реки раскинулиськорпуса серых двухэтажных строений. Наверное, это и была пресловутая птицефабрика, характерно благоухающая на всю округу. Со стороны станции к ней вел еще один путь, такой же старый, как тот, по которому они шли. На месте соединения двух заброшенных линий пьяным сторожем возвышалась накренившаяся ручная стрелка. Ребята остановились передохнуть возле нее — ведро картошки ощутимо оттягивало руки.
— Давай подергаем? — предложил Бурик.
— Да ну… Вдруг что-нибудь случится, — Добрыня, однако, вцепился в рукоять противовеса и потянул вверх.
Бурик налег на длинную ручку, но стрелка не шелохнулась.
— Совсем заржавела, — сказал он.
— Подожди… Тут, кажется, должен быть такой замок… — Добрыня отпустил противовес, подошел к рельсам и стал что-то искать на шпалах. — Вот, нашел, — он откинул в сторону длинную пластинку, которая лежала в специальных прорезях у самых шпал и блокировала стрелку. — Давай еще раз.
Заняв исходное положение, ребята вновь навалились на рукоятку и противовес. Обиженно заскрипев, две ржавые полосы шевельнулись и переместились на несколько сантиметров влево.
— Давай еще, — сопя и улыбаясь, сказал Бурик, — соединим пространства…
Он не договорил. Стоящая в двух шагах приземистая, заброшенного вида будка вдруг заскрипела дверью, и на пороге возник заспанный бородатый мужик в замшелом ватнике.
— Здрасьте… — рассеянно произнес Бурик, отпуская рукоятку. Добрыня молчал. Стрелка с грохотом вернулась в исходное положение.
— Чего это вы тут? — осведомился мужик. — Баловство одно на уме!
— Мы это… — попробовал объяснить Бурик, отряхивая ладони.
— А вы? — перебил его Добрыня.
— Я? — мужик слегка растерялся. — Стрелку сторожу.
— А, так вы стрелочник… — догадался Добрыня.
— Тот самый? — добавил Бурик. Он вспомнил, что именно стрелочник почему-то всегда и во всем виноват.
— А стрелку нечего дергать, — проигнорировал вопрос мужик.
— Так она ведь ржавая, да и все равно тут ничего уже не ходит, вон куска нет… — Бурик показал на участок ржавого рельса, который обрывался, чтобы через полтора метра начаться вновь.
— Для кого не ходит, а для кого и… — мужик зашелся застарелым кашлем курильщика.
— Что ходит? — насторожился Добрыня. — Поезд с птицефабрики?
— Да кто их поймет, с какой фабрики… — мужик чихнул, утерся и посмотрел в сторону.
— С яйцами? — выпалил Бурик, припомнив теткино «яйцы возють».
— С яйцами — это конь! — парировал мужик. — А поезд — он с вагонами.
— А вагонов случайно не три? — с усмешкой спросил Бурик, но Добрыня легонько ткнул его локтем в бок. Мужик внимательно посмотрел на Бурика.
— Может, и три… А ты почем знаешь?
Бурик и Добрыня переглянулись. Чтобы скрыть неловкость, Добрыня начал глядеть в сторону сереющей вдали птицефабрики и напевать на мотив какой-то древней песни: «Ах, МПС, МПС, МПС! Твой паровоз зеленый…»
— Так паровоз не зеленый, — медленно промолвил мужик, так же внимательно глядя на Добрыню и почесывая давно не стриженую бороду. — Черный он…
— Старинный? — продолжал спрашивать Бурик.
— Да уж куда старее… Я и сам не молод…
Новый собеседник подошел к стоящей неподалеку ржавой колонке и принялся двигать большой тяжелый рычаг.
— Давайте, я помогу, — предложил Добрыня, и, не дожидаясь ответа, подошел и вцепился в рычаг.
Старая колонка издавала сдавленные горловые звуки, как будто ее душили. Мужик наклонился, подставил ладони под струю воды и принялся основательно умываться.
— Так вы нам толком скажите, есть тут поезд или нет? — не отступал Бурик.
— Немножко есть… — уклончиво ответил мужик, фыркая и отплевываясь. Через некоторое время он выпрямился, последний раз провел ладонью по лицу и, кивнув на ведро, поинтересовался: — А это что у вас? Картошка?
— Нет, — ответил Добрыня, — бананы.
— Сам ты банан! — отрезал Бурик. И обратился к мужику: — А давайте ее испечем? А то есть уже хочется.
— Можно… — мужик явно оживился.
Костер решено было развести прямо между рельсами («Ничего шпалам не сделается…»).
— Ну-ка, молодежь, шуруйте за хворостом.
Хворост ребята собирали молча.
Когда Бурик с Добрыней вернулись, нагруженные охапками веток, между рельсами уже возвышался аккуратный домик из щепок и сухих деревяшек. Мужик достал из кармана даже не пожелтевшую, а почерневшую от старости газету, развернул ее и стал внимательно изучать. Это была «Правда» за 8 ноября 1974 года.
— «Празднуя очередную славную годовщину Великого Октября, мы с особым трепетом вспоминаем те далекие суровые годы…» — торжественно зачитал он. — Вот передовицу-то мы на растопку и пустим.
Бурик лихим ковбойским движением выхватил из заднего кармана зажигалку, подкинул на ладони и тут же уронил.
— Ой… — смущенно сказал он.
— Сюда ее! — скомандовал новый знакомый, хищно косясь на ведро с картошкой.
Расселись. Мальчишки приткнулись друг к другу на одном рельсе, мужик сел напротив.
— Михеич я, — представился он. — Ну а вы-то, мальцы, кто будете?
— Саша, — ответил Бурик.
— Доброслав.
Повисла пауза.
— А что такого? Меня зовут Доброславом.
— Да не, я ничего… — Михеич усмехнулся в бороду и начал разводить костер.
Хворост уютно потрескивал.
— Когда я был маленький, — сказал Бурик, задумчиво глядя в огонь, — мне казалось, что по рельсам можно добраться в любую точку Вселенной. Хоть на Марс, хоть в другую галактику…
— По рельсам все можно… — непонятно отозвался Михеич.
Добрыня внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал.
Бурик потянулся к ведру с картошкой, но Добрыня, легонько ткнув его в бок, сказал:
— Погоди, рано еще. Пусть угли появятся.
Михеич согласно кивнул.
— Да знаю я… — слегка обиженно бросил Бурик.
Солнце обреченно клонилось к закату. Уютно догорал костерок между рельсами. Картошка покоилась в потрескивающих углях, присыпанная золой. Ветер милостиво сменил направление, и вместо запаха птицефабрики воздух наполнился ароматами полыни и зверобоя.
— Еще не готова, — сообщил Михеич, выкатывая палкой из костра закопченный шарик картошки.
— А соли-то у нас нет, — вспомнил Добрыня.
— Ага… — согласился Бурик. — Я как-то не сообразил, когда картошку брали. А у вас нет случайно?
— Эх, молодежь… — вздохнул Михеич, и, закашлявшись, поднялся. — Сейчас вынесу.
С этими словами он направился в свою сторожку.
— Ты чего меня все время пихаешь? — спросил Бурик, когда Михеич удалился на почтительное расстояние.
— А чего ты болтаешь про этот поезд?
— Я? А что тут такого? Тайна, что ли?
— Может, и тайна…
Бурик вдруг почувствовал глухое раздражение.
— Ты со мной, прямо как Михеич разговариваешь, — он передразнил, покашливая. — «Кхе-кхе… Может, и тайна…»
— Да? А ты этого Михеича давно знаешь? — в голосе Добрыни слышались нотки сарказма.
— Не больше твоего.
— Вот и не болтай лишнего! Договорились же…
— Насчет поезда мы с тобой ни о чем не договаривались! — раздражение в душе Бурика начало уступать место непонятной досаде. — О нем вообще разговора не было.
Добрыня непонимающе посмотрел на друга. «Да что с тобой происходит?»
— Сколько можно за солью ходить… — раздраженно сказал Бурик.
— Уже нисколько, — раздался сзади знакомый хриплый голос.
Как Михеич ухитрился подойти незаметно, исколько он уже так стоял за спиной? Михеич шагнул вперед, держа в руках белый сверток.
— А кто тут у нас костровой? Почему жара мало?
Добрыня молча пошевелил палкой тлеющие угли и стал раздувать огонь.
— Погоди, — сказал Михеич. — Может, уже готова.
Он выкатил палкой из костра несколько картофелин, взял в руки одну из них, покидал в ладонях, подул и с аппетитным хрустом разломил.
— Пирожное… — сказал он, осторожно пробуя нежную белую мякоть.
— Не люблю пирожные, — сказал Добрыня из духа противоречия.
Бурик покосился на него и молча последовал примеру Михеича — шумно подул на разломленную картошку, обильно посолил и попробовал. Картошка оказалась на редкость вкусной.
— Неужели в городе такую картошку продают? — изумился Михеич.
Бурик выразительно посмотрел на Добрыню: хоть эту «тайну» огласить можно? Но Добрыня проигнорировал его молчаливую иронию.
— Да нам на станции одна бабка продала, — сказал Бурик. — Глухой прикидывалась.
— А-а… Так это Петровна с птицефабрики, — ответил Михеич. — Вот еще придумали — глухая! У нее абсолютный слух.
— Ну ладно, нам пора, — сказал вдруг Добрыня.
«Нам? — удивленно подумал Бурик. — Чего это он решает за нас обоих?»
Михеич хитро прищурился.
— Куда собрался-то? Посиди еще с нами. Картошки поешь, а то так и не попробовал.
Добрыня молча посмотрел на Бурика — идешь? Но Бурик повел себя совершенно неожиданно.
— Да посиди еще… — пробормотал он, глядя в костер.
— Спасибо, — тихо ответил Добрыня. — Я уже и так С ВАМИ засиделся. Пора и честь знать.
Он развернулся и быстрым шагом пошел в сторону платформы. Бурик продолжал тупо смотреть в костер. Он честно пытался понять, что происходит. Почему все было так хорошо и вдруг стало так плохо? Щуплая фигура Добрыни уже успела скрыться из виду.
— О, да тут еще картошка осталась! — Голос и кашель Михеича вывели Бурика из состояния оцепенения. — Бери, Саш, чего сидишь.
— Нет, спасибо, — ответил Бурик. — Это вам.
Он вскочил на ноги и закричал:
— Добрыня! Доброслав! Славка!
Ответа не последовало. Бурик что есть сил побежал в сторону платформы, спотыкаясь о шпалы. Попрощаться с Михеичем даже не пришло ему в голову. В боку противно закололо.
— Славка, подожди!
Запыхавшись, Бурик подбежал к платформе и увидел, что Добрыня садится в подошедшую электричку. Бурик остановился. «Славка, оглянись!» — хотел крикнуть он, но голос не послушался. Двери закрылись, электричка тронулась. Проехав мост, она стала набирать ход. Бурик смотрел на светящиеся окна, сливающиеся в одну желтую полосу. «Что же мне теперь делать?» — бессильно подумал он.
Поднявшись на платформу, Бурик подошел к окошечку кассы. Рядом висели несвежие листы с расписанием электричек. Некоторое время он ничего не соображал. Строчки цифр плясали у него перед глазами. Хотелось только одного — лечь тут же на платформе и тихо сдохнуть.
Бурик тряхнул головой. Снова, теперь уже внимательно, посмотрел на расписание. «А ведь Добрыня уехал не в Москву, а наоборот, в другую сторону. Может, он выйдет на следующей станции?» Но очередная электричка была только через сорок минут. Бурик посмотрел в сторону ушедшей электрички. Впереди, метров через пятьдесят, виднелись очертания могучего железнодорожного моста, перекинутого через реку. «Пойду через мост пешком», — решил Бурик и двинулся в сторону реки.
Он почти не удивился, когда путь ему перегородил знак «кирпич» и слегка погнутый железный лист, на котором красной краской были написаны крупные трафаретные буквы: «Проход запрещен!». И тут же мельче: «Территория моста охраняется собаками!» Словно в подтверждение этих слов откуда-то сбоку донесся басовитый лай. Судя по всему, принадлежал он существу немалых размеров. «Да… — подумал Бурик. — С такой собачкой лучше не спорить».
Где-то вдалеке, на той стороне реки, прогудела электричка. Гудок ее показался Бурику грустным и каким-то одиноким, брошенным. Вздохнув, он двинулся назад к платформе.
— Что, ребята, потеряли друг друга? — раздался рядом голос глухой бабки с абсолютным слухом. Она бодро ковыляла к платформе.
Бурик ошарашено замер и провожал ее взглядом, пока она не скрылась из виду. Вскоре подошла электричка.
— Это в Москву? — спросил Бурик пожилого дядьку с вонючей папиросой в зубах.
— В Москву, — ворчливо ответил дядька, отбрасывая в сторону окурок и сплевывая. — Разгонять тоску… Опоздала опять, зараза.
Бурик вошел в вагон, отыскал свободное место у окна. Электричка дала печальный гудок и тронулась. За окном проплывали березы, ели, и грустно махали Бурику телеграфные провода.
Двери открылись. Добрыня вышел на платформу. Справа темнел заросший парк, над которым возвышались спицы заброшенного колеса обозрения.
Добрыня шел по растрескавшейся асфальтовой тропинке в глубь парка. «Друг называется… — думал он. — И как они быстро спелись с этим стариканом! Неужели с этим Михеичем ему лучше, чем со мной? Да нет, чушь… А может, так оно и надо?»
«Кому надо? — тут же спросил он сам себя. — Бурику?»
«Может быть, и Бурику. Что ему вообще надо? Зачем я ему нужен? У него и спецшкола, и язык… И отец… А что ему со мной? Какой интерес? Просто попутчик на дороге?»
В сумраке показалась старая цепочная карусель. Краска на ней давно облупилась, и от всех сидений осталось только одно — оно болталось на трех ржавых цепочках из четырех. Добрыня подошел и качнул его. Наверху что-то жалобно скрипнуло. Добрыня забрался с ногами на сиденье, схватился за цепи и немножко покачался. Вся конструкция ухнула и слегка шевельнулась. Добрыня качнулся еще пару раз, потом спрыгнул и побрел дальше.
«Попутчик на Дороге? — продолжал думать он. — А это ведь не так мало… С другими он так не пойдет».
«Почему ты так уверен?»
«Но ведь я же не пойду!»
«Уверен?»
Добрыня остановился. К нему вплотную приблизилось заброшенное колесо обозрения. В сумраке оно казалось неправдоподобно огромным.
«Уверен!» — ответил он сам себе.
Колесо манило, притягивало словно магнитом. Добрыня подошел ближе, обошел кругом мощные станины. Примерившись, подпрыгнул и схватился за железный выступ возле тонкой металлической лесенки, напоминающей пожарную. Подтянувшись, он уцепился за первую ступеньку лесенки, немножко помог себе ногами, и через мгновение уже поднимался по расшатанным перекладинам. Из-под его кроссовок летели вниз лохмотья многолетней ржавчины. Так Добрыня долез до центра колеса. В этом месте лестница заканчивалась небольшим балкончиком. С него можно было перелезть на ось колеса, а оттуда забраться на ближайшую спицу. Вблизи она уже не казалась тонкой — примерно в два обхвата его ладони.
«А что дальше? Что мне дальше делать?»
«А что вообще произошло? Подумаешь, ерунда какая…»
«Нет, тут что-то не так. Он ведь никогда таким не был».
«Каким?»
«Ну…» — Добрыня не знал, как ответить самому себе на этот вопрос.
Он ухватился за спицу у себя над головой. Цепляясь за незаметные выступы, забрался на нее и, балансируя, словно гимнаст Тибул на канате, уцепился за следующую спицу, затем за перекладину… Так Добрыня залез почти на самый верх колеса.
«Странно… Почему оно не поворачивается подо мной? Проржавело, наверное, насквозь…»
Придя домой, Бурик, не раздеваясь, лег на софу и отвернулся к стенке. Бабушка из кухни позвала ужинать. Есть не хотелось, двигаться не хотелось. Жить не хотелось. Но на бабулю такие аргументы не действуют — есть надо всегда, независимо ни от чего, что бы с тобой ни случилось. Бурик через силу проглотил несколько кусков тушеной говядины, поблагодарил и вернулся к себе в комнату.
Темнота за окном уже приобрела оттенок свежезаваренного кофе, когда Бурик наконец решился и набрал телефонный номер.
— Алло! Добрыня! Где ты? — закричал на том конце провода женский голос.
— Добрый вечер… Извините, это Саша звонит.
— Здравствуй, Саша, — сказала добрынина мама упавшим голосом.
— Я думал… Слава уже вернулся.
— Так вы что, разве не вместе?
«Что мне ей сказать?», — в отчаянии подумал Бурик.
— Мы… Я потом уехал. Мне… было надо.
У матери закололо где-то в районе солнечного сплетения. Она подумала: «Наверное, именно там находится душа. Ведь если душа не на месте, то болит почему-то как раз там…» Перед глазами, словно кадры старой кинохроники, стали проноситься фрагменты жизни Добрыни. Родился недоношенным. Еле выходили… Сразу привязалась целая свора младенческих болячек. Насилу отогнали… Отец… Нет, об этом лучше сейчас не думать… Пьяница, бездарность, неудачник! А сама-то я?.. Но вот он, сын. Рос добрым и ответственным. Редкое сочетание. Реликтовое… Когда соседи говорили о нем: «Маленький взрослый», — Татьяна Владимировна улыбалась. С тайной гордостью за сына и за себя. Но сейчас… Она и сама не знала, что «сейчас». За окном густела поздняя июньская ночь. Если Добрыня задерживался, то всегда старался звонить. «Ма-а… Ты только не волнуйся». Она старательно изображала материнский гнев, но сама душою ликовала — все в порядке.
На часах было уже без пяти полночь, но Добрыня так и не позвонил. Разум твердил: «Что-то случилось!» и рисовал картины в стиле Иеронима Босха. Но материнское сердце почему-то повторяло: «Успокойся и не паникуй. Все в порядке… Именно с твоим сыном ничего не может случиться». Татьяна Владимировна потерялась, словно между двух огней — голосом разума и материнским чувством. Она ощущала себя, витязем на распутье. Но тому было легче — он был предупрежден о последствиях выбора. Татьяна Владимировна же терялась в дебрях беспокойства и собственной интуиции.
— Можно я завтра позвоню? — ворвался в мысли голос Бурика.
— Что?.. Да, Сашенька, конечно, звони… — голос матери прозвучал глухо и рассеянно.
— До свидания, — тут его будто что-то кольнуло. — Татьяна Владимировна! С ним все в порядке. Я… чувствую.
Бурик окончательно смутился и положил трубку.
Оказавшись наверху, Добрыня впервые испугался по настоящему. Он был на огромной высоте — выше самых высоких деревьев в парке. Когда-то на эту высоту разноцветные кабинки плавно поднимали беззаботных отдыхающих. Они недолго любовались открывшимся видом, затем колесо так же плавно спускало их вниз. Кабинки были давно сняты, и сейчас здесь хозяйничал сильный ветер. Казалось, он намеренно раскачивал голую спицу с одиноким мальчишкой, сидящим наверху. Добрыня изо всех сил уцепился за перекладину — спица, к которой она крепилась, ходила ходуном. Только сейчас Добрыня осознал, как ему холодно и одиноко.
Горизонт раскачивался в такт колебаниям спицы. Под ним расстилалось лесное море, а впереди — там, где по представлениям Добрыни должна была быть река, — виднелись невысокие дома. Что-то непривычное, странное было в этих домах. Добрыня долго всматривался в низкие черепичные крыши, огромный купол непонятной постройки и странное, похожее на пушку из жюль-верновского романа сооружение, слегка наклоненное вправо.
Бурик нервно расхаживал по комнате.
«Может, еще раз позвонить? Просто спрошу, не пришел ли Добрыня».
Что-то удерживало его от этого шага. Бурик сам не понимал, что именно — боязнь услышать плохие новости? Лишний раз расстроить добрынину маму? Бурик не мог ответить на эти вопросы.
«Что я ей скажу? Что с ним все в порядке? А она спросит: «Откуда ты знаешь?»
Действительно, откуда? Почему он вдруг так уверенно заявил ей, что все хорошо? И все ли с ним хорошо?
«Добрыня, где ты?» — мысленно позвал Бурик. И от этого простого вопроса им овладела отчаянная тоска по самому близкому другу, которого он чудом обрел и по какой-то нелепой глупости потерял. «Добрыня… Добрыня…» Эти мысли, словно позывные SOS летели в пространство. Бурик прикрыл глаза. Перед его мысленным взором стояло огромное колесо обозрения. Кабинок на нем не было, голые спицы пронзали низкое небо и пространство по кругу. На верхней спице, вцепившись в нее руками и ногами, сидел мальчишка, в котором Бурик сразу узнал Добрыню. Губы его были упрямо сжаты, а в глазах стояла безнадежная тоска. Порывы ветра качали спицу.
«Добрыня-а-а!! Что ты делаешь! Держись…»
Но тут видение дернулось и пропало. Бурик открыл глаза и почувствовал, что лицо его залито слезами.
Ожидания, что спускаться будет легче, чем подниматься, не оправдались: кроссовки то и дело скользили по спицам, пальцы соскакивали с перекладин. С трудом добравшись до металлического балкончика, Добрыня остановился передохнуть. Посмотрел вверх, пытаясь оценить высоту, с которой только что слез. Отсюда она казалась весьма внушительной.
Спуск по металлической лесенке не занял много времени — уже через полминуты Добрыня легко спрыгнул на землю. Отряхнув руки от ржавчины (частично — о собственные штаны), он оглянулся по сторонам и только теперь понял, что уже совсем темно. Нужно было выбираться к станции. Вот только где она находится? Добрыня никак не мог вспомнить, с какой стороны подошел к колесу. Опираясь скорее на интуицию, нежели на память, он принялся искать дорогу. Сгустившиеся сумерки не вселяли никакой уверенности, что он идет правильно. Однако вскоре Добрыня оказался на той же разбитой асфальтовой тропинке, по которой пришел в парк. Месяц наконец-то отыскал небо и равнодушно засиял на нем молодым рожком. Ускорив шаг, Добрыня направился к станции.
На платформе не было ни души. Под одинокой лампочкой Добрыня нашел расписание. Пробежав глазами по таблице, он посмотрел на часы над платформой. Они стояли, и, судя по всему, давно — обе стрелки повисли на цифре шесть. Ну что ж, придется побеспокоить кассиршу… Добрыня несмело постучал в окошечко кассы, забранное фанерным щитком. Фанера отъехала в сторону, и в окошке замаячило неприветливое лицо.
— Ну! Чего? — равнодушно поинтересовалось оно.
— Я… — Добрыня растерялся. — А электрички еще будут? В Москву.
— Ишь… В Москву ему! Все, голубчик, на сегодня все электрички вышли.
— Ку… куда вышли? — не понял Добрыня.
— Да уже никуда. Были, да все вышли — полпервого ночи уже.
— Как — полпервого! — опешил Добрыня. — Ведь…
«Ведь я в этом парке не больше часа пробыл!»
— А вот так! Завтра поедешь. — Окошко захлопнулось.
Он боком отошел от кассы и спрыгнул с платформы.
В свете месяца рельсы матово блестели. Впереди возвышалась черная громада железнодорожного моста — в темноте он был похож на скелет бронтозавра, когда-то распластавшего свое могучее тело между берегами. Добрыня вздохнул и пошел по шпалам. Он не понимал, как потерял счет времени — такого за ним отродясь не водилось. Неужели эта глупая размолвка с Буриком так выбила его из колеи? Похоже на то…
Но размолвка размолвкой, а надо что-то делать. Как-то выбираться из этого заколдованного места, где друзья теряются, время бежит как ошпаренное, а с верхотуры видны какие-то незнакомые дали.
«Переберусь через мост, — думал он. — Все-таки ближе к Москве. А там будет видно…» Хотя что «будет видно», Добрыня понятия не имел. Он шел и думал, как завтра позвонит… нет, лучше придет к Бурику и скажет: «Саш, прости меня… Я повел себя как дурак. Пожалуйста, не обижайся на меня никогда…» Добрыня сам не понимал, как получилось, что он вдруг встал и ушел. Обидел его Бурик? Нет, не обидел. Во всяком случае, не хотел, это же ясно. Что же случилось?
«Интересно, простит он меня?»
«А ты бы простил?»
«Я… я не знаю, — думал Добрыня. — Наверное, простил бы. Но я даже не понимаю, за что мы друг на друга так обиделись».
«Это все из-за Михеича! Зачем он сказал: «Посиди С НАМИ»? Как будто я вообще ни при чем».
«Не ври! — отвечал он сам себе. — Если бы не было Михеича, возникла бы какая-нибудь другая причина».
«Но ПОЧЕМУ?! Что с нами случилось?»
Наверное, надо просто поговорить с Буриком. Обо всем спросить самому. Он поймет, что это не просто добрынино любопытство. Обязательно поймет — ведь это же Бурик…
Не может быть, чтобы Бурик не простил его. Разве может из-за одной глупой ссоры кончиться дружба?
Ладно… Он просто придет и скажет: «Саш, не прогоняй меня. Ведь я тебе нужен». Или нет, не так… «Ты мне нужен». Да, наверное, так будет лучше.
Ведь они с Буриком нужны друг другу…
Эти покаянные мысли были неожиданно прерваны громким собачьим лаем и окриком:
— Эй! Чего тебе?
Из-за опоры моста показалась темная фигура с коротким автоматом в руках.
— Да мне… — Добрыня не на шутку перепугался. — Я на электричку опоздал. А меня мама дома ждет.
— Не поздновато ли? — спросилохранник.
Добрыня поднял глаза и посмотрел на него. Молодой, лет двадцати пяти, с открытым добрым лицом, одетый в пятнистые штаны и такого же цвета куртку.
— Я решил на ту сторону перейти. А тут эта собака…
— Конечно, собака, — ответил охранник. — Мост-то охраняется.
— А зачем?
— Стратегическое направление. Мама ждет, говоришь?
— Ага…
— Ладно, пошли. Давай руку.
Сбоку послышалось недовольное рычание.
— А собака?
— Не бойся, со мной не тронет. Фу, Джек!
Добрыня вложил свою руку в широкую ладонь охранника и пошел рядом за ним. От охранника веяло той надежностью, которая обычно свойственна молодым военным. Где-то на середине моста Добрыня осмелел и стал озираться по сторонам. Река в наступившем сумраке матово блестела, изредка поигрывая бликами. «Совсем как на нашем балкончике…» — подумал Добрыня. Воспоминание о балкончике пребольно царапнуло его.
— Как домой добираться-то будешь?
— Что? — за своими печальными мыслями Добрыня не расслышал вопроса.
— Добираться, говорю, как будешь? Сейчас уже ничего не ходит. Метро через полчаса закроют. Так до него еще и доехать надо. Эй, ты чего?
Добрыня остановился, не в силах идти дальше. Он стоял и молча плакал. Слезы текли из глаз двумя ровными ручьями, но Добрыня даже не пытался вытереть их, не говоря уж о том, чтобы успокоиться.
Охранник растерялся. Он ласково взял Добрыню за плечо.
— Да ты не бойся… Мы сейчас что-нибудь придумаем. Доедешь домой, никуда не денешься…
Прозвучало неубедительно. Охранник хотел еще что-то добавить, но тут сзади раздался странный звук. Охранник легко приподнял Добрыню за плечи и перенес на соседний путь. Мимо, завывая и трезвоня, словно перед концом света, промчалось странное сооружение вроде большой дрезины с лебедкой наперевес.
— Разъездились на ночь глядя! Слушай… Может, у тебя что-то случилось? — участливо спросил охранник, когда дрезина скрылась из виду.
Добрыня всхлипнул и наконец взял себя в руки.
— Да нет. То есть да…
Охранник вздохнул.
— Что же мне делать с тобой?.. Погоди. Митяй! — закричал он куда-то вперед. — Митя-ай!!
— Ну, чего «Митяй!» — навстречу им вышел другой охранник, еще более рослый. — Что, поймал кого?
Добрыня напрягся.
— Ты мне пацана не пугай! Заблудился он. Скажи лучше, что делать будем? До города ему не добраться. Да и нам далеко не отойти.
— Дела… — Митяй почесал небритую щеку. — Может, к этому… к попу?
— Слушай, это идея! — и уже Добрыне: — Пойдем, здесь есть где переночевать. Заодно домой позвонишь — мать, небось, с ума уже сходит.
— Где ночевать? — насторожился Добрыня. — Не надо, я дойду.
— Куда ты дойдешь ночью-то? — усмехнулся Митяй. — А если, не дай Бог, случится что? Коль, скажи ему.
— Митяй прав. Неспокойные тут места. Я тебя не пугаю, но… — он развел руками.
Добрыня посмотрел на реку. Одинокими огоньками на ней светились буи. Он глубоко вздохнул.
— Вот и славно, — сказал Коля. — Мить, подмени меня! Я быстро.
— О чем речь, старик. Как зовут-то парня?
— Не знаю… Как тебя зовут?
— Добрыня…
— Ка-ак?! — синхронно вопросили Коля и Митяй.
Добрыня повторил. Потом шмыгнул носом и добавил:
— Нормальное русское имя… Вообще-то, если полностью, тогда Доброслав.
— Ну, Добрыня так Добрыня. — Митяй улыбнулся и протянул мальчишке широкую ладонь. — Бывай, герой былинный.
Добрыня пожал руку, сказал спасибо и пошел вслед за охранником Колей.
Мост кончился.
— Куда мы идем? — спросил Добрыня.
— Тут рядом живет один священник. Ты не бойся, он хороший.
— Я и не боюсь.
— Так вот, он вроде капеллана одной воинской части. Здесь рядом. Я там раньше старлеем служил, пока из армии не уволился.
— А почему уволились?
— Да денег мало… — Коля досадливо сплюнул. — А у меня жена и ребенок маленький.
Добрыня понимающе посопел. Вниз от железнодорожной насыпи убегала чуть заметная в темноте тропинка. Железнодорожные прожекторы ее почти не освещали.
— Нам сюда. Держись за меня.
— Спасибо, я сам, — ответил Добрыня и тут же споткнулся о корень, торчащий из земли. Коля успел подхватить его и поставил на ноги.
— Держись, говорю!
Добрыня не стал спорить и взял Колю за руку. Через двадцать метров тропинка свернула, и Добрыня увидел светящиеся в темноте окошки.
— Мы почти пришли.
Коля отворил калитку.
— А… это удобно? — запоздало поинтересовался Добрыня.
Коля усмехнулся:
— Чудак-человек…
Пройдя небольшой дворик и поднявшись на крыльцо, Коля нащупал кнопку звонка. Несколько долгих секунд из дома доносилось лишь приглушенная деревянными стенами музыка: мужской хор отчетливо выводил: «…та-ай-но-о образу-у-ю-у-ще…» Внезапно дверь со скрипом отворилась, и на пороге возник высокий человек с окладистой бородой и в черном подряснике.
— Отец Леонид, — обратился к нему Коля, как показалось Добрыне, несколько смущенно. — Вот, тут мальчик потерялся. Шел через мост. А сегодня наша с Митяем смена. До города ему не добраться, вот я и… к вам. Можно?
Священник улыбнулся в пышные усы и ответил неожиданно звучным оперным басом:
— Ну, так проходите, что на пороге-то разговаривать.
Комната, куда провел их отец Леонид, была очень уютной. Добрыня огляделся. Посередине стоял стол, накрытый темно-вишневой скатертью. В правом дальнем углу перед большой иконой Богородицы теплилась синяя лампадка. В другом углу светился плоским экраном компьютер. Из колонок небольшого музыкального центра, расцвеченного огоньками всевозможных индикаторов, лилось тягучее звучание мужского хора: «…Ангельскими невидимо дориносима чинми, Аллилуйя-Аллилуйя-Аллилуйя!..»
— Ну вот… — сказал Коля. — Вы уж тут разберитесь, ладно?
— Да уж, не изволь беспокоиться… — отец Леонид продолжал улыбаться.
— Тогда что ж, пойду я…
— Э, нет, погоди. А чаю попить?
— Спасибо, батюшка, я только на секунду — вот его привести, — он кивнул на Добрыню. — Митяй там за двоих остался.
— Тогда конечно, ступай с Богом…
— Благословите? — Коля протянул отцу Леониду характерно сложенные ладони.
— Бог благословит, — ответил священник, перекрестив Николая.
— Ну, счастливо тебе, Доброслав!
— Ага, и вам… — ответил Добрыня. — Спасибо большое.
Коля улыбнулся и вышел из комнаты. Отец Леонид пошел запереть за ним дверь.
Добрыня снова огляделся. На стенах висели репродукции известных картин на библейские сюжеты, на тумбочке стояла медная клетка. В ней сидел огромных размеров зеленый попугай. Он с любопытством поглядывал на Добрыню и лузгал семечки.
Вошел отец Леонид.
— Вот это да! — сказал Добрыня. — Попугай… настоящий…
Священник подошел к клетке.
— Правда, красавец? Его зовут Рикардо, — он просунул в клетку палец. Попугай по-кошачьи заурчал и принялся тереться о палец клювом. Его глаза выражали при этом наивысшее блаженство.
— Это какаду?
— Нет, эта порода называется «Альба-Мария». Мой друг, отец Димитрий, уехал в командировку в Новосибирск, вот и попросил меня посмотреть за этой тварью Божией. Да, Рикардо?
— Батюшка, благословите! — раздалось из клетки.
Добрыня вытаращил глаза.
— Бог благословит, — улыбнулся отец Леонид.
— Так он говорящий?
— Еще какой… Ишь, богослов пернатый! Ну, что же, давай чай пить. Только сначала надо родителям твоим позвонить — наверное, с ума сходят.
— Да… — вздохнул Добрыня. — Мама всегда волнуется, когда меня поздно нет. Только… я не знаю, что ей сказать.
— Давай сначала я с ней поговорю.
Добрыня недоверчиво посмотрел на отца Леонида.
— Вы? Что вы ей скажете?
— Объясню ситуацию щадящим образом. Вот только познакомиться бы нам, а? Как тебя зовут?
— Добрыня. Точнее, Доброслав. Но… лучше Добрыня.
— Прекрасное имя.
— А как мне вас называть? Святой отец?
— Ни в коем случае! Просто отец Леонид. Договорились?
— Ага… — ответил Добрыня и почесал коленку с уже успевшими затянуться ссадинами.
Отец Леонид взял со стола пульт дистанционного управления и приглушил мужской хор. Затем выдвинул из-под стола два стула. Один пододвинул Добрыне, на другой сел сам.
— Ну, отроча младо, рассказывай. Как занесло тебя сюда в столь поздний час?
Добрыня опустил глаза.
— Мы играли… То есть не совсем.
— С кем? — осторожно поинтересовался батюшка.
— С другом… — Добрыня вздохнул. — Мы поехали посмотреть, что тут… в этом Манихино. Ну, интересно стало. А потом…
Он хотел сказать «поссорились», но язык не повернулся. А подходящие слова что-то не находились.
— Потом… В общем, я ушел. Так получилось…
Отец Леонид понимающе кивнул.
— Я сел на электричку, проехал одну остановку. Увидел парк. Ну, там когда-то карусели были, а теперь нет. Почти все сломали. Только колесо осталось. Оно над деревьями торчит. Мне стало интересно, и я пошел посмотреть.
Батюшка покачал головой.
— Не хвалят это место… И что же дальше?
— Да ничего… Залез наверх.
— На колесо?!
— А что такого? — сказал Добрыня с легким вызовом. — Мне это раз плюнуть.
Отец Леонид от души рассмеялся.
— Ну, раз ты такой альпинист… А потом?
— Да сам не понимаю… По парку еще походил. Старые карусели посмотрел. Качели… А когда на платформу вышел, оказалось, что последняя электричка уже ушла.
Батюшка вздохнул и перекрестился.
— В первом часу ночи, в заброшенном парке… Слава Богу, ничего с тобой не случилось.
— Ага…
Отец Леонид включил радиотелефон, протянул Добрыне и тот набрал номер. Затем взял у него трубку.
— Как маму зовут?
— Татьяна Владимировна.
— Алло! Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Точнее, уже доброй ночи. Вас беспокоит священник Леонид Романов, настоятель храма войсковой части… Что? Я как раз по этому поводу и звоню. С Доброславом все в порядке. Просто они с другом заехали на электричке в Манихино, заигрались и не заметили, что уже поздно. Да. Сейчас ведь поздно темнеет. Его привели ко мне охранники с моста. Как вы сказали? Простите, но ведь мальчику надо где-то переночевать! Да, конечно… — он протянул трубку Добрыне, — побеседуй с мамой.
— Ма… Это я. Ты не волнуйся, ладно? Ма, ну прости… так получилось. Я сам не знаю. Случайно… Не, ну правда случайно. Хорошо. Да хоть ремнем… Ну, мам… Я больше не буду. Честно… Честно-честно… Хорошо. Сейчас. — Добрыня передал трубку отцу Леониду.
— Да? Да, конечно. Ро-ма-нов. Да, как царя. Пожалуйста, запишите мой номер телефона — вы можете в любой момент перезвонить сюда и убедиться, что с вашим сыном ничего не случилось. А завтра утром я лично отвезу его на машине в город. Телефон… Записали? Конечно, не волнуйтесь. Ложитесь спать. Завтра утром он сам вам позвонит перед выездом. До свидания. Спокойной ночи.
Отец Леонид нажал кнопку отключения и положил трубку на стол.
— Ну вот и все. Кажется, одну проблему мы решили.
— Аминь! — донеслось из клетки.
Добрыня хихикнул. Отец Леонид улыбнулся в усы:
— Вот что значит вырасти в среде просвещенного русского духовенства. Спи, пересмешник!
Он встал, подошел к клетке и стал накрывать ее темным покрывалом с золотистыми парчовыми узорами.
— Почто затворяша? — поинтересовался Рикардо.
— Поелику ночь наступиша! — ответил отец Леонид, расправляя складки покрывала. — И нечего изображать из себя попугая Ивана Грозного.
Рикардо пробормотал в ответ что-то неразборчивое.
— Вот так-то лучше!
Вскоре на столе весело гремел блестящий электрический самовар и красовались стаканы в мельхиоровых подстаканниках. Тут же стояла банка сгущенки и тарелка с ломтями свежего белого хлеба.
— Значит, гуляли…
— Ага…
— По старым шпалам?
— Да… как вы догадались?..
— И поссорились?
— Нет… То есть да. Это я виноват, — вздохнул Добрыня.
— Виноват? — строго переспросил отец Леонид.
— Мне так кажется… да. Виноват. Хотя я вообще не понимаю, зачем я ему… Читал мало. По-итальянски не шпрехаю. Отца нет…
Добрыня отвернулся.
Отец Леонид помолчал, погладил бороду.
— Все-таки, если я правильно тебя понял, дело здесь не только, точнее, не столько в языковом барьере имени Патриса Лумумбы. И не в том, что у него есть папа. Ведь люди дружат и любят не «за…», а «несмотря на…» Ведь так? — он внимательно смотрел на Добрыню.
— Несмотря на что?
— Да на что угодно! Ведь не в недостатках дело, если люди привязаны друг к другу. Вот только обиды воспринимаются больнее, от этого уж никуда не деться.
Добрыня вздохнул.
— Я обиделся из-за ерунды и бросил его. А нам сейчас нельзя расставаться.
— Почему?
— За нами охотятся.
— Да Бог с тобой… — не поверил отец Леонид. — Кому ж вы нужны?..
— Ну вот… и вы не верите…
— Согласись, сын мой, трудно поверить, что кто-то охотится за двумя ребятами, — спокойно ответил отец Леонид, — к тому же если они вдвоем разгуливают по заброшенным рельсам. Сам посуди, ничего не стоит вас изловить… Ты сам поверил бы такому рассказу?
— Им нужен этот… койво… Но они не знают, кто из нас… и следят, следят…
— Койво? — насторожился отец Леонид.
— Да… и следят. Вы понимаете, за каждым шагом следят! — Добрыня сорвался на крик. Он сам не понимал, как это вырвалось у него и почему он выложил свое сокровенное первому встречному незнакомому священнику. Правда, надо признать, встречались они ему не так часто. Если уж быть совсем честным, то до сих пор не встречались вовсе.
— Я слышал слово «койво»… дай Бог памяти… году этак в шестьдесят восьмом. Отец Пафнутий, Царствие ему Небесное, говорил что-то о… Так, кажется, называли детей с необычными способностями…
— Экстрасенсорными? — спросил Добрыня. Сказать, что он был удивлен, значило не сказать ничего. Он и не думал, что отец Леонид воспримет его слова серьезно, а уж тем более даст объяснение непонятному слову «койво».
— Я не люблю слово «экстрасенс». В нем есть что-то от колдовства. А мы ведь с тобой образованные люди и в колдовство не верим? — Отец Леонид улыбнулся и потрепал Добрыню по плечу.
— Это вы-то не верите в колдовство? — Добрыня еле удержался, чтобы не присвистнуть.
— Хорошего же ты мнения о русском православном духовенстве, — пробасил отец Леонид.
— А во что вы верите?
— Я верю в Бога. В Господа нашего Иисуса Христа.
— Тогда скажите, почему Бог делает нашу жизнь такой… — Добрыня на мгновение задумался, — невыносимой?
— Бог дает нам жизнь. А невыносимой ее делают люди.
— Так для чего тогда такая жизнь?!
— Для чего дается жизнь? Я правильно понял твой вопрос?
Добрыня промолчал.
— Вопрос этот сложный, прости за банальность, — отец Леонид вздохнул. — Я думаю, она дается нам прежде всего для того, чтобы найти близких людей. И постараться, чтобы они стали счастливыми. А вот тут уж придется потрудиться… — он опять вздохнул и почему-то посмотрел на иконы в углу.
Добрыня невольно подумал о Бурике. И словно почувствовал его рядом.
«Саш… Ты не сердишься на меня?»
«Нет… Ты только не плачь больше. Как на мосту. Хорошо?»
«Тебе легко говорить. Ты бы не плакал на моем месте?»
«Я тоже плакал. Только на своем месте».
«Саш, ты слышал, что сказал отец Леонид? Нужно найти близких людей и постараться, чтобы они стали счастливыми. Я… я очень постараюсь, чтобы ты был счастливым… Ты мне веришь?»
— Отрок, да ты спишь уже… — голос отца Леонида раздался как будто из небытия. — Пойдем, положу тебя в горнице. Там хорошо спится.
Храм был огромен и светел. Фрески на куполе сливались в единое Око, вопрошающее: «Как же сие произошло?»
«Да я давно понял, что был не прав, — сказал Добрыня. — Прости меня? Ну, пожалуйста…»
Хотелось добавить: «Я больше не буду», — но именно здесь и сейчас это показалось Добрыне лишним.
«…и остави нам долги наша-а…» — раздалось под куполом стройное пение.
«Ты же знаешь, что я не хотел его обидеть…»
«…и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
«Если все еще можно изменить, то я…»
— Отрок мой, если что-то еще и можно изменить, то только после того, как ты встанешь и умоешься, — прозвучал откуда-то со стороны голос отца Леонида.
Добрыня открыл глаза.
— А-а-ми-инь, — протяжно прозвучало из-за стены.
Весь прошедший день пролетел перед Добрыней, как одно мгновение. Он сел на кровати, мотнул головой, потер глаза и пробормотал:
— Доброе утро…
— Так ведь уже день, — ответил отец Леонид с ласковой улыбкой. — Половина второго.
Добрыня пошарил глазами вокруг. Одежда его была аккуратно сложена на стуле. Обнаружив на тумбочке престарелый будильник «Витязь», он понял, что отец Леонид не шутит. Взгляд ненадолго задержался на большой иконе Николая Угодника в углу.
— Я что… говорил во сне? — смущенно спросил Добрыня.
Отец Леонид улыбнулся и погладил бороду.
— Признаться, ты произнес целый монолог. Я, правда, не стал вслушиваться, а предпочел разбудить тебя. Кстати, умывальник на улице.
— Ну, отрок, давай откушаем, чем Бог послал.
— А что Он послал? — спросил Добрыня.
— Как видишь, — ответил отец Леонид, выставляя на стол литровую банку козьего молока, белый хлеб и сыр.
Добрыня вонзал зубы в ломти белого хлеба с сыром и жмурился от удовольствия. Отец Леонид серьезно смотрел на него.
— Отрок, — начал он.
— А? — жуя, ответил Добрыня.
— Надеюсь, ты понимаешь, что вам надо быть очень осторожными?
— Кому?
— Тебе и твоему другу.
— А почему?
— А по кочану! Ты же сам все прекрасно понимаешь. Особенно опасайся людей, которые вдруг захотят завести с тобой знакомство. А главное… — отец Леонид замолчал.
— Что?
— Мальчишки… милые… берегите друг друга… не растеряйте того, что у вас есть. И все у вас наладится.
— Вы думаете?
Отец Леонид улыбнулся:
— Считай, что я тебе это предрекаю.
Над лобовым стеклом служебного «газика» болтался веселый желтый львенок. И настроение у Добрыни было такое же хорошее, как у львенка. Глядя на задорную улыбку игрушки, Добрыня сам улыбался.
Митяй умело держал руль.
— Видишь, как получилось, — словно извиняясь, говорил он. — Отца Леонида вызвали по какому-то срочному делу. Он бы сам тебя отвез.
— Да ладно, — сказал Добрыня.
— Черт! Волоколамку перекрыли. — Митяй начал притормаживать, увидев пробку впереди. — Какую-то «шишку», наверное, везут. А мне надо тебя домой закинуть, да еще до четырех в центр успеть — документы отвезти.
— Митяй, а давай я с тобой съезжу?
— А мама как?
— Я ей позвонил, когда проснулся, она не будет волноваться.
— Ну хорошо. Тогда я по МКАДу… — согласился Митяй, лихо выезжая на газон и разворачиваясь.
Дождь пошел, когда подъезжали к Лубянке. Митяй включил дворники.
Проехали мимо магазина «Карты и атласы» на Кузнецком мосту. Добрыня проводил взглядом удаляющуюся вывеску и спросил:
— Митяй, как ты думаешь, там есть железнодорожный атлас?
— Не знаю, — рассеянно ответил тот. — Наверное, есть. А тебе зачем?
Добрыня смутился.
— Да просто интересно…
Подъехали к какому-то учреждению.
— Ну вот, ты посиди в машине, а я скоро вернусь.
Как только Митяй скрылся в подъезде, Добрыня аккуратно выбрался из машины, опустил вниз кнопку на дверце и захлопнул ее. Теперь снаружи открыть ее было нельзя. «Я ведь ненадолго, — решил он. — Посмотрю только, сколько он стоит, и сразу вернусь». С этими мыслями он направился к магазину.
Народу на улице было немного, а машин так почти совсем не было в тот славный субботний денек, когда Стас и Вовка вышли из нотного магазина на Неглинной. Тяжелая дубовая дверь неожиданно мягко закрылась за ними. Недавно прошел дождик, на асфальте блестели лужи, а воздух был чистый и свежий, какой редко бывает в Москве. Дорога вела друзей по Кузнецкому мосту чуть в горку, и навстречу им бежали маленькие ручейки.
— И зачем ты накупил этих нот? — на всю улицу вопрошал Стас. — Может, ты у нас музыкант? А? Ты на чем, Вов, играешь?
— На нервах! — огрызался Вовка.
— Да что ты говоришь! Может, еще и музыку пишешь?
— Конечно пишу! Позавчера закончил концерт для бубна и симфонического оркестра! Напеть тебе самое начало?
— Спасибо-спасибо. Не надо… В твоей гениальности я не сомневаюсь ни на йоту.
— Ни на фиту… — грустно добавил Вовка.
Он уже и сам не понимал, что на него нашло и зачем он потратил кровные четыреста пятьдесят рублей на порядком потертый клавир «Четырех эпох» Виральдини.
Во-первых, деньги эти были совсем не лишние, а во-вторых, «Эпохи» — это все-таки не «Руфь», никаких-то тайных знаний в них не зашифровано. «Эпохи», в конце концов, это просто «Эпохи» — изрядно заезженная кантата для детского хора, оркестра и солирующей виолы d’amore. Вот ведь как бывает: приглянется какая-нибудь ненужная вещь, и муки неразделенной любви просто невозможно стерпеть. А тут еще продавец, чтоб ему пусто было: «Раритет! Не достать!.. Со скидкой, специально для вас». Тьфу!
Вовка вспомнил, как с какой-то сострадательной улыбкой продавец протянул ему свою визитную карточку. «Юргенсон», — прочитал на ней Вовка. Подняв глаза на рязанского вида физиономию, возвышающуюся над прилавком, он шутливо спросил:
— Тот самый?
— По жене… — в том же тоне ответил продавец.
— Познакомьте с женой, — неделикатно встрял Стас и сгреб вовкины покупки с прилавка.
— Ладно, Вов, не парься, — смилостивился наконец Стас. — Ведь и в самом деле раритет. А деньги… в жизни, Вовка, самое дешевое — это заплатить деньгами.
— Да кто парится? Все равно ведь пропили бы все до копейки, я ж тебя знаю — взяли б «мускатного игристого»… эдак благородно… парочку… или троечку… а попариться, кстати, я бы и тут смог, если б захотел. — И Вовка махнул рукой куда-то в сторону.
— Только не в Сандунах! Там знаешь как взвинтили цены!
— Заплатить деньгами, Стасик, самое дешевое, — засмеялся Вовка.
Стас тоже улыбнулся.
— А вон, гляди, еще та хохма — «Водитель, будь осторожен, пешеходы тоже люди». Вот что теперь пишут на стенах…
— Стас, в сторону! — заорал Вовка и едва успел отпихнуть Стаса, как мимо них на полном газу промчался бежевый мерседес.
— Из Сандунов, наверное… Напарился, гад.
— Ага, гормоны взыграли… Пешеходов за людей он явно не считает. Смотри, машина, что гроб!
Тишину прорезал визг тормозов и сразу вслед за ним раздался детский вскрик. Но все, что успели увидеть Стас с Вовкой, — это только как маленькая фигурка отлетела куда-то в сторону, а «мерс» резко вильнул при выезде на Рождественку и умчался. Подбежав к месту происшествия, они увидели мальчишку в рваных коротких джинсах и ободранной на животе и локтях рубашке. Паренек сидел на тротуаре, неловко подвернув под себя ногу.
Прошли те времена, когда такие события собирали на улицах толпы народа. Вокруг мальчишки никого не было — люди, напротив, обходили его стороной. Мальчик поднял голову и встретил сочувственные глаза Вовки со Стасом. Пробормотал, немножко даже смутившись:
— Рубашку из-за него, блин, порвал… Совсем новую надел вчера… жалко…
— А джинсы? — глупо спросил Вовка. — А, понятно, мода такая…
— Что у тебя с ногой? Ну-ка попробуй встать, — сказал Стас.
Поддерживая мальчишку за руку, он помог ему подняться, но тот, сделав первый шаг, согнулся от боли и снова сел на асфальт. Из глаз его брызнули слезы, но он не плакал.
— Ну-ка, — сказал Вовка, присев на корточки перед мальчишкой и ощупывая поврежденную ногу. — Перелома нет. Кажется, растяжение. Вот сволочь! Да не дергайся, это я не тебе, а «мерсу». Ты номер случайно не запомнил? Нет? Вот и мы тоже…
Пока Вовка деловито колдовал, Стас глядел на мальчишку и не мог отделаться от ощущения, что где-то его уже видел. «Но вот где?..» — Стас перебрал в голове знакомые лица, но так и не смог вспомнить, где встречал этого тощего, нескладного паренька с умным, пронзительным взглядом и беззащитной улыбкой. Это мучительное чувство провала в памяти никак не давало ему успокоиться.
— Что вы так смотрите? — спросил вдруг мальчишка.
— Как? — Стас смутился и отвел взгляд.
— Ходить ему нельзя, — резюмировал Вовка. — Надо отвезти в травмопункт.
— Я никуда не поеду!
— Тише, прохожие оглядываются — еще решат, что мы тебя грабим. И вообще, мы расселись посреди улицы…
— Я никуда не поеду, — твердо повторил мальчишка и посмотрел прямо в глаза Стасу. Ох, и недоверчивым же был этот взгляд…
— Ну не бросать же тебя на дороге. Как ты домой с такой ногой доберешься?..
— Очень даже доберусь…
Вовка в растерянности смотрел то на Стаса, то на мальчишку…
— Стоп! — его вдруг озарило. Есть тут рядом поликлиника. Ведомственная, правда, но несовершеннолетнему должны помочь.
Не слушая воплей мальчишки, он подхватил его на руки и решительно зашагал в направлении поликлиники. Стас поплелся следом. Мальчишка вдруг затих, но всю дорогу смотрел через вовкино плечо на Стаса, и тому делалось не по себе от этого колючего взгляда.
По счастью, идти в самом деле было недалеко. В поликлинике тоже задержек не возникло — пострадавшего тут же увезли на рентген, а у Вовки со Стасом сестра записала паспортные данные и расспросила, как все было. Вместе пожалели, что не запомнили номер («заявить надо бы… но теперь что уж… может, оно так и к лучшему, ну их, этих новых русских, лучше и не связываться, больные на голову они все какие-то… Вот у меня раз свекор на машине…»). Стас задумчиво слушал, привычно кивая, а Вовка отошел в сторонку и присел на банкетку. Через минуту к нему присоединился Стас.
— Ну что? — спросил Вовка.
— Да ничего. Мы свободны. «Вы кем мальцу-то приходитесь? — тонким голосом передразнил Стас медсестру. — Ах, случайные прохожие? Ну спасибо вам, а то народ-то сейчас, сами знаете…»
— Нет, ты мне скажи, чем ты его так напугал-то?
— Да ничем…
— Рассказывай! А то я не видел, как он на тебя уставился…
— Слушай, сам не знаю, веришь? Нервный какой-то… Знаешь, Вов… ощущение меня не покидает, что я где-то его видел, а где — никак не могу вспомнить. Дежа вю просто…
— Бывает. А с годами прогрессирует! Тургенев мало того, что от природы был робок, его еще Пушкин с Гоголем совсем затюкали: проснется, бывало, ночью и кричит: «Ма-ма!» Особенно под старость.
— Да ну тебя в пень! — отмахнулся Стас. — Вов… Что будем делать? Пойдем?..
Они посмотрели друг на друга и остались сидеть. Потом Вовка встал и направился к окошку регистратуры.
— Простите, вы не скажете, куда направили нашего малолетнего пострадавшего?
— Он сейчас на рентгене, это четвертый этаж. С ним, наверное, наш дежурный рентгенолог, Виктор Васильевич.
— Спасибо. Стас, нам на четвертый.
В рентгеновском кабинете на громко протестующего мальчишку цыкнули, наорали, и через несколько минут мокрый снимок уже красовался в руках у врача.
— Ну, что же… криминала нет, — сказал бородатый рентгенолог. — Если, конечно, не считать криминалом наезд на ребенка средь бела дня.
— Я уже не ребенок! Мне уже двенадцать.
— Пожилой человек, — констатировал доктор. — Как тебя зовут?
— Добр… Слава.
— Так вот, Слава. Ноге сейчас нужен щадящий режим. Наступать минимально. Компрессы охлаждающие ставить… И через неделю будешь бегать, как молодой олень в тенистой чаще леса.
— Но я не могу ждать неделю! — возразил «не ребенок», кольнув доктора взглядом.
— А я не могу привинтить тебе новую ступню, — Виктор Васильевич взъерошил пациенту и без того лохматую макушку. — Надеюсь, что твои э-э… спасители доставят тебя родителям в целости и сохранности.
Слава поморщился, но возражать не стал.
— Как мы его повезем? — спросил у Стаса Вовка. — Может, на такси? Но у меня вся наличность ушла на эти ноты…
— Ох уж эта твоя тяга к искусству, — проворчал Стас. — У меня денег тоже кот наплакал. Что будем делать?
— Ой! — мальчишка звонко хлопнул себя по коленке. — Митяй! Я совсем забыл. Он, наверное, меня у машины ждет — возле какого-то министерства.
— Какого еще министерства? — спросил Стас.
— Я не помню… Да, наверное, уехал уже. Он, кажется, торопился. А я без спросу ушел…
— Я попробую организовать машину, — вдруг сказал доктор. — Все-таки, случай… экстраординарный, длинно выражаясь.
Он принялся тыкать в кнопки вмонтированного в стол селектора и зычно орать: «Алло! Гараж!» Мальчишка вздрогнул. Этот бородатый эскулап был похож отнюдь не на служителя «рюмки со змеей», а на капитана средних размеров судна, дающего нагоняй машинному отделению. Через несколько минут ведомственная карета «скорой помощи» уже мчалась по Москве. Водитель даже включил маячки и утробно завывающий на все лады спецсигнал: «Так веселее!»
— Молодчина врач, правда? — сказал Вовка.
— Настоящий профи, — ответил Стас. — Люблю таких… Ну что, пострадавший, — обратился он к мальчику, — жить будем?
— А то… — ответил новый знакомый и взглянул на Стаса уже без тревоги. Потом смущенно добавил. — Это… Спасибо вам большое.
— Да перестань ты, не за что… — Стас, казалось, смутился. — Давай лучше подумаем, что родителям сказать. Не описывать же ДТП — с ума сойдут.
Пацаненок заметно прихмурел.
— Мама точно сойдет… Ругаться будет.
— А папа? — спросил Вовка. — Неужели не заступится?
— А папа с нами не живет… — мальчишка опустил глаза.
Стас зыркнул на Вовку. Тот развел руками, мол, откуда я знал. Потом мягко произнес:
— Славик, прости Бога ради. Я не знал. Хотя мог бы и сдержаться. На всякий случай.
Мальчишка внимательно посмотрел на него.
— Ничего… Мы с мамой привыкли.
— Что случилось?! — выдохнула еще молодая усталая женщина, увидев на пороге своей квартиры двух мужчин, один из которых держал на руках ее сына.
Она была страшно удивлена и порядком напугана одновременно. Тем более что на дежурное «кто там?» Славка ответил из-за двери привычное: «Ма-а, это я». Не ведая печали, она открыла дверь, а тут такая картина.
— Кто вы?
— Мы… из Федеральной службы безопасности, — неожиданно для себя сообщил Стас. Вовка вытаращил глаза, а женщина чуть не упала в обморок.
— Удостоверение у меня в кармане рубашки… Вов, достань, будь другом, а то у меня руки ребенком заняты.
— Я не ребе… — мальчишка пытался затянуть уже известную песню.
— Что случилось? — перебила его мама, то бледнея, то краснея.
— Ма, да ничего… Я ногу подвернул, а они меня привезли.
— Что у него с ногой? — она начала ощупывать плотно забинтованную ступню.
— Вы только не волнуйтесь… — сказал Вовка.
— Всего лишь растяжение, — продолжил Стас. — Перелома нет.
— Да проходите же наконец! — она отстранилась от дверного проема.
Стас вошел, осмотрелся, решительно шагнул в большую комнату и усадил мальчишку на софу. Следом вошли мама и Вовка.
— Господи, вот наказание-то… А ну рассказывай, где ногу подвернул! И что это за ночные прогулки?
— Ну, я это… шел. Поскользнулся…
— Упал, очнулся — гипс? Я тебе покажу, как матери врать! — она всхлипнула.
— Да вы не волнуйтесь, — повторил Вовка, незаметно показав мальчишке кулак. — Действительно, поскользнулся на Кузнецком мосту. А тут мы проходили мимо и загнали в поликлинику. Там рентген сделали, сказали, что все в порядке, просто надо немного подождать. Не бросать же его было…
Через некоторое время все сидели на кухне, пили чай, намазывая на хлеб масло и вкуснейшее клубничное варенье: «Сама варила!» Познакомились. Маму Славки звали Татьяна Владимировна. Сам герой дня прискакал из комнаты на одной ноге и плюхнулся на табуретку.
— Уж и не знаю, как вас благодарить… Волнуюсь за него страшно. Без отца ведь растет, сами понимаете… И дома не удержишь — тринадцатый год парню. И чего тебя, скажи на милость, за город потащило! А?
— Он у вас молодец, — сказал Стас. — Геройски все вытерпел.
И подмигнул мальчику. Тот подмигнул в ответ и потянулся за седьмым по счету куском хлеба, чтобы обильно сдобрить его маслом и вареньем. При этом он опасливо покосился на маму — а ну как не разрешит! Она покачала головой.
— Добрыня, ты меня в могилу вгонишь.
— Добрыня? Ну и имечко… — Стас повернулся к мальчишке. — А ведь Славкой назвался, прохиндей!
— Слава — это от Доброслава. Так его зовут. Ну, а я этого оболтуса называю Добрыней.
Она ласково погладила сына по голове.
— Как учится? — зачем-то спросил Стас.
— Да ни шатко, ни валко, — сказала Татьяна Владимировна. — У него в классе отличников совсем мало.
— Бедность — не порок, — жуя сказал Вовка.
— Беда мне с ним… У Добрыни столько троек за год — по истории, по географии. А мог бы все на твердую четверку сдать.
— Троечники тоже люди! — подал голос Добрыня.
— Вот я тебя сейчас тапкой! — Татьяна Владимировна сделала вид, что снимает стоптанную тапочку.
— Меня нельзя бить, я раненый! — шумно возразил сын. — Подумаешь, география. Это наука для извозчиков!
Стас и Вовка обалдело переглянулись, а Татьяна Владимировна, похоже, впала в легкий шок.
— Кто тебе это сказал? — тихо спросила она.
— Фонвизин! — с видом матерого литературоведа ответил Добрыня, хватая со стола очередной кусок хлеба с маслом и вареньем.
— Так он это лично тебе сказал? — с улыбкой поинтересовался Вовка.
— Нет, нашей училке по литературе. В какой-то повести, что ли. Называется вроде как «Отморозок». Или еще как-то… Там парень такой… недоделанный.
— Недоросль! — с досадой уронила Татьяна Владимировна. Было непонятно, к кому это слово больше относилось — к бессмертному творению Фонвизина или к непутевому чаду. — Постыдился бы! Вспомни, что ты в сочинении написал, горе мое!
— А чё! — насупился Добрыня. — Ну перепутал маленько…
— Маленько?! — Татьяна Владимировна всплеснула руками, посмотрела на Стаса с Вовкой и процитировала: «На выпускном экзамене в Царскосельском лицее молодой Пушкин очень понравился старику Ширвиндту»! Как вам это нравится?
Гости захохотали. Вовка при этом поперхнулся чаем и заткнул рот ладонью, от чего смех его напоминал повизгивание вперемежку с похрюкиванием. Стас, напротив, хохотал громко, со вкусом и перегнувшись пополам.
— Очень нравится! — сказал Вовка, все еще сотрясаясь от смеха.
— По-моему, просто великолепно! — не отставал от него Стас. — Ребенок… ох, прости, я хотел сказать, человек… мыслит творчески и неординарно. Это же дорогого стоит!..
Добрыня сиял.
Мама качала головой, глядя то на сына, то на гостей.
— Ты и по истории такой же… остроумный? — спросил Вовка, наконец, отсмеявшись.
— Ага, — без тени сомнения ответил Добрыня и пошевелил поврежденной ногой. — Я по всем предметам…
— Да уж! — огорченно проговорила мать. — По истории — особенно. Никакой памяти на даты! Вот когда была война 1812 года, а?
— Откуда я знаю! Не я ее устроил, меня тогда еще на свете не было… И вообще, у меня каникулы!
— Да чего там история… — вмешался в разговор Стас. — Размытая дисциплина — всего лишь «что было, то было». А, Вов?
Вовка важно кивнул.
— Ну, как же так… размытая… — растерялась Татьяна Владимировна.
— А вот так! Сами посудите. Ну, например, где, по-вашему, проходит времяраздел между новой и новейшей историей? — Стас, похоже, сел на любимого конька. — По Первой мировой войне? По Октябрьской революции? Где?
Татьяна Владимировна оторопело мигнула, а Добрыня перестал жевать.
— Не напрягайтесь так, все равно не ответите — это Вопрос Вопросов… А про более ранний период истории мы что знаем? — Стас начинал заводиться. — Пару-тройку фактов по Ивану Грозному и чуть дальше? Да половина этих сведений за уши притянута! Типа, слабоумный Федор Иванович добровольно передал власть своему шурину Борису Годунову, после чего «волей Божию помре»! Другой вопрос, что образованному человеку их тоже надо знать. Иначе это будет уже необразованный человек. Так-то вот, Добрыня…
Мать снова погладила сына по лохматой голове, расправляя непослушные пряди.
Добрыня сощурился, как котенок. Улыбнулся, обнажив крупные верхние зубы с большой щелью между ними, какие только и бывают у детей. «Славный мальчишка», — ласково подумал Вовка. Стас вдруг побледнел. Вовка уловил: что-то не так. И теперь поглядывал на друга с немым вопросом.
— Ну что же, Татьяна Владимировна, спасибо за чай… — Стас поднялся. Вовка встал вслед за ним.
— Да что вы, это вам спасибо! Заходите, мало ли что.
— Да уж, если что, то конечно. — Стас внимательно посмотрел на Добрыню. — Давай пять, герой. Береги себя. И друга своего береги…
Добрыня резко вскинул голову. Его глаза сцепились с глазами Стаса. Мама, похоже, ничего не поняла. Она проводила гостей и закрыла дверь.
В лифте Вовка спросил:
— Ну?
— Баранки гну! От этого твоего «ну» мне хочется закусить удила и заржать призывно.
— Стас, не томи. Что случилось? На тебе лица не было.
Стас вздохнул и неохотно ответил:
— Этот мальчишка был на тех фотографиях. Помнишь, я рассказывал? Сначала я его не узнал, но знаешь, как бывает — небольшой поворот головы и образ отчетливо проявляется.
— Но ты уверен?
— Абсолютно!
Двери лифта открылись. Спустившись по небольшой лестнице и прегромко хлопнув дверью подъезда («Пропади они пропадом, эти пружины!»), друзья вышли на улицу.
— Смотри, маленький ведь еще, а как держался! — сказал Стас. — Не пикнул даже. Такие борются за жизнь до конца.
— Знаешь, — скептически возразил Вовка, — если кота спустить с крыши в водосточную трубу, он упрется лапами, и будет ползти и вопить около десяти минут. То есть тоже бороться до конца.
— Так ты, батенька, еще и живодер… Это ты на примере своего кота Маркелыча усвоил?
— Не… — ответил Вовка. — Это я где-то прочитал. У других живодеров. Возможно, с Лубянки… А Маркелыч так и не вернулся. Кстати, у тебя правда появилось удостоверение ФСБ?
— Да сделали… временную ксиву. «Документ прикрытия» называется. — Стас откровенно смутился.
— Когда срок истечет — не возвращай. Скажи потерял. Пригодится…
— Вовка! — Стас с досадой хлопнул себя по карманам. — Хватит толкать меня на должностные преступления!
— Тебя, пожалуй, толкнешь.
За поворотом показалась большая светящаяся кумачом буква «М» станции «Щукинская».
— Где будем ужинать? — спросил Вовка, когда они вошли в метро.
— Не знаю. Кафе сегодня вряд ли потянем.
— Значит, опять дома.
— Да ладно, Вов! Домашний ужин куда полезнее для здоровья, чем вся эта общепитовская бутафория. Поехали ко мне?
— Поехали.
— Приготовишь что-нибудь? Из кулинарного репертуара Россини? — Стас ухмыльнулся. — Ты ведь эту тему в совершенстве изучил, а?
— Пожалуй… — вяло ответил Вовка. — Хочешь куриное филе, приготовленное в шампанском?
— Ого… А давай! Слабó?
Вовка подумал.
— Нет, не слабó… Только тогда лучше у меня — в холодильнике есть все, что нужно.
Дорога до вовкиного дома заняла не более получаса.
— Знаешь, Стас, — сказал Вовка, открывая ключом входную дверь, — если честно, у меня после всех этих дорожно-транспортных событий только одно желание — напиться вдрызг и лечь спать.
— Понимаю… Говорят, что если трезво смотреть на некоторые вещи, то невольно хочется выпить. Только ты забыл, что у нас завтра возможна встреча с моим… «новым начальством».
— Стасик, — язвительно ответил Вовка, проходя на кухню, — на память я никогда не жаловался.
— Да что ты говоришь! — Стас не отставал. — Тогда не напомнишь ли мне, скажем, девичью фамилию твоей бабушки по отцовской линии?
— Э-э… — Вовка поднял глаза к потолку. — Это, ну…
Стас выжидающе молчал. Вовка нахмурился и почесал возникшую над переносицей вертикальную складку.
— Совершенно точно, ее звали не Марлен Дитрих. Увы, за все остальное я ручаться не могу.
— Тогда иди и готовь обещанное филе! — Стас повелительно ткнул пальцем в сторону холодильника и уселся на табурет.
Вовка покорно и хмуро открыл дверцу.
— Сколько готовить-то? Много?
— Ну, не знаю… — усмехнулся Стас. — Я не лошадь, больше ведра не съем.
Порезав филе кубиками, посолив его и хорошенько сдобрив пряно пахнущими приправами, Вовка вывалил то, что получилось, на сердито шкворчащую сковородку. Вдруг на кухне раздался выстрел. Вовка вздрогнул — он не сразу понял, что это Стас открыл бутылку шампанского.
— Это ты хорошо сделал… Давай сюда!
Не дожидаясь ответа, он взял бутылку из рук Стаса, сделал щедрый глоток из горлышка, после чего залил шампанским полуготовое филе. Шипение усилилось и плавно перетекло в бульканье.
— Вовка, ай-ай-ай… — Стас осуждающе качал головой. — Шампанское из ствола кушать.
— Я чуть-чуть. Для куража, — невозмутимо ответил Вовка, перемешивая содержимое сковородки.
— Пьяница…
Вовка закрыл сковородку крышкой.
— Ну вот, еще немного, и пища богов будет готова.
Через несколько минут Вовка открыл крышку сковородки, и кухня наполнилась ароматами версальской гостиной, накрытой как минимум на дюжину персон. Друзья воссели за стол.
— Вовка, ты просто гений! Обыкновенный гений… — говорил Стас, жуя нежнейшее куриное мясо. — Ты всегда так питаешься?
— Нет… — рассеянно отвечал Вовка. — Для себя одного так стараться не будешь. Скучно.
Филе быстро убывало.
— Так вот, Стас, — продолжил Вовка ранее начатую мысль. — Я думаю, что надеяться на твое «Кэй-Джи-Би» просто глупо.
— Ладно тебе, Вов! Они все-таки у меня сейчас этот… основной работодатель. Деньги-то нам с тобой понадобятся…
— Да! Но вряд ли этот твой «работодятел» вступится за мальчишек.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что они действуют только тогда, когда НАДО. Но на это самое «надо» у них свой взгляд — как только станет «не надо», они в одночасье вычеркнут из своего благотворительного списка и мальчишек, и тебя. Понятия «надо» и «не надо» в этой организации выше человеческой морали, ты это не хуже меня знаешь.
— Мне импонируют твои «отцовские чувства», но не собираешься же ты наняться к пацанам в охранники?
Вовка вздохнул, затем сощурился и изрек:
— До чего ж погано в мире чистогана!
Стас так и застыл с поднятой вилкой в руке.
— Рифможуй несчастный! С твоей графоманской фантазией только устав гарнизонной и караульной службы редактировать!
— Спасибо, дружище! Пошли тебе Господь за это чего пожелаешь. Твое стихохульство просто безгранично!
— Не без… Зато, Вовка, блюдо ты приготовил феноменальное, — сказал Стас, накладывая себе щедрую порцию добавки. — Вот женюсь, заставлю жену пройти у тебя курс нетрадиционной кулинарии.
— Тогда моя кулинария станет традиционной. А это уже неинтересно.
— Как знать! Хотя ясно же сказано, что лучшие повара — это мужчины.
— Да, — согласился Вовка. — Но лучшие поварихи — все-таки женщины.
— Точно. Так что считай, что моя будущая жена будет твоей ученицей.
— Не вопрос!
Вовка немного помолчал и осторожно спросил:
— А с Ликой-то чего расстались? Если, конечно, хочешь поговорить на эту тему.
Стас долго подбирал слова.
— Володь… я всегда старался избегать «минусовых» людей и «минусовых» настроений. Не помню, кто это сказал, но я с ним совершенно согласен. Порой мне нужен… карантин души. То есть хотя бы временная защита от очередной эмоциональной хвори — иначе невозможно становится жить дальше.
Стас смотрел куда-то поверх вовкиного взгляда. Тяжело вздохнул, всколыхнувшись всем телом.
— А Лика — она излучала какой-то лошадиный пессимизм. И потом, чуть что не по ней, сразу начинала кидаться предметами.
— Какими? — спросил Вовка.
— Да всякими! Что ближе окажется. На таком фоне очень трудно жить, не преодолевая его. Женщины-художницы вообще сложные существа — муки творчества, постоянные поиски себя… Искала она себя, искала! и что же она там находила, я тебя спрашиваю?
Он перевел взгляд на Вовку.
— Могу себе представить, — буркнул тот.
— Ошибаешься! Этого даже я представить не могу. Знаешь, как называлась ее последняя работа в стиле иррационального экспрессионизма? Нет? — Стас поднял вилку и провозгласил как на торжественном заседании, акцентируя каждое слово: — «Железный оргазм на оранжевом фоне»!
— Гм-гм… — только и сказал Вовка. — Действительно, даже представить себе не могу. По-моему, это еще страшнее, чем «квадратный трехчлен».
— Она писала его под «Болеро» Равеля — с тех пор мне от этой музыки чесаться хочется. И этот ее оранжевый, с позволения сказать, опус получил гран-при! Куда мы катимся, ума не приложу… К тому же, она курила, как сволочь! В какой-то момент я понял, что моя перспектива равна нулю. Кто-то сказал, что семья — величина постоянная. Как ни крути. А любовь — величина очень даже переменная. Как выяснилось… Ты хоть немножко понимаешь меня?
Вовка помолчал. Тоже подбирал слова?
— Я бы хотел, чтобы ты назвал хоть одного человека, который понимал бы тебя лучше, чем я.
Стас посмотрел на Вовку. Глаза в глаза.
— Стас, а тебе не мешает… твое одиночество? — спросил Вовка. — То, что у тебя нет семьи. Ведь после того, как Лика ушла… — он замялся.
— Мешает. Оно не может не мешать. Через полгода, как мы с Ликой расстались, мне пришлось научиться превращать одиночество в свободу.
Вовка молчал.
— Пока получается, — добавил Стас.
— А как же любовь?
Стас пожал плечами.
— Никак… Есть одна женщина, она мне нравится. Я вроде тоже стихийного отвращения у нее не вызываю. Встречаемся… Но я стараюсь не путать любовь и состояние влюбленности.
— Мне кажется, — ответил Вовка, — и то, и другое — не роскошь, а норма.
— Полностью согласен. Без обоих нельзя жить, иначе душа умрет…
— Одна моя… близкая знакомая… скажем так… Так вот, она говорила, что Любовь — это, безусловно, слабость.
— Да, Вов, любовь — это слабость. Но, заметь, позволить ее себе может только очень сильный человек.
Помолчали немного. Каждый думал о своем.
— Вот так и живу. Никакого развития образа:
— А… — хотел спросить Вовка.
— Стас!! Откуда ты этого набрался? Господи, прости!..
— Известно откуда, — грустно ответил Стас.
— От академика, что ли? — сощурился Вовка. — Колись, Щербаков написал? Андрюха пиит знатный.
— Да кто ж его знает. Может, и Андрей, а может, и нет. Поди теперь разбери. Уж точно не Некрасов. Фольклор! — Стас ковырнул вилкой в тарелке.
— Главное — написано актуально…
— Ладно, Вовик! Как ни скучна моя жизнь, но эта жизнь — моя. И я стараюсь прожить ее с удовольствием. И не жаловаться — говорят, пока мы жалуемся на жизнь, она проходит.
— Да, жизнь надо уважать. Всякую. Она этого заслуживает…
Кухню огласил истошный свист, переходящий в жалобный вой.
— Вот и чайник вскипел, — обрадовался Вовка и заторопился к плите.
Бурик еле дождался двадцатого июля, когда бабуля получала пенсию. И, конечно же, бабуля напрочь забыла, что обещала внуку сто пятьдесят рублей на закупку литературы. Но внук был упорен и не успокоился до тех пор, пока бабуля, вздохнув глубоко и сказав «охохонюшки…», не открыла кошелек и не выдала ему необходимую сумму.
— Спасибо, бабуль! Ты лучшая в мире у меня! — с этими словами Бурик убежал к Добрыне, а бабуля принялась готовить обед, но уже не вздыхая, а напевая что-то. Робкая улыбка появилась на ее маленьком морщинистом лице.
Менее чем через час после этого разговора мальчишки выходили из вестибюля станции «Менделеевская».
— Вы не скажете, где здесь Командорская лавка? — обратился Добрыня к мужчине в очках и с бородой в пол-лица.
— Что? — не понял тот.
— Он имеет в виду книжную лавку, — вмешался в разговор Бурик, выразительно посмотрев на Добрыню.
— Какую?
— Ну… где книгами торгуют!
— Какими?
— Да всякими. Приключения, фантастика…
— Крапивин, — добавил Добрыня.
— Ах, Крапивин… так он не в Москве живет.
— Да? А где?
— В Орске… или нет, в Орске — это Филиппов… Значит, в этом… в Челябинске! Да… помнится, точно, в Челябинске.
— Вы его знаете?
— Нет. Не в Челябинске. В Оренбурге![16] А вам он зачем?
— Пишет классно… — ответил Добрыня, удивляясь. — Почитать хотим.
— Помнится, и я его когда-то читал — ребята из хора давали… Я ведь артист хора, — с гордостью пояснил собеседник, роняя в лужу черную папку, из которой белым веером высыпались ноты. «Русская народная песня «Волга-матушка», — успел прочитать Бурик на одном из быстро набирающих влагу листов.
— Хора мальчиков? — язвительно осведомился Добрыня.
— Нет, — серьезно ответил собеседник, собирая рассыпавшиеся ноты. — Отчего же, девочки у нас тоже есть. Альты и сопрано.
— Странный он какой-то, — шепнул Добрыне Бурик. — Пошли…
— А чего? Вроде нормальный дядька.
— Этот? Да ну его… Может, он из этих!
— У нас обширный репертуар, — продолжал артист хора, поднимая из лужи последний лист с расплывшимися нотными знаками. — Кстати, есть произведение на стихи Крапивина. Так что обратились вы как раз по адресу.
— На какие стихи? «Пашка-какашка — рваная бумажка»? — не утерпел Бурик.
Артист хора набычился, видимо, приняв эти слова на свой счет.
— Нет у Крапивина таких стихов, — веско заявил он.
— А вот и есть! — авторитетно ответил Бурик. — Правда, это из раннего… Самые первые его стихи.
«Ты что, собираешься спорить с ним о поэзии? — шепнул Добрыня. — Может, все-таки, пойдем?» А громко сказал:
— Спасибо за помощь. Нам пора, а то еще крапивинская лавка закроется.
— Успеете, — сказал артист, взглянув на часы. — У нас репетиция начинается в полседьмого, а лавка работает до семи. Сейчас я уточню.
Достав из кармана сотовый телефон доисторической конструкции, он с противным писком начал нажимать на кнопки. Телефонное рукоблудие продолжалось минуты три.
— Сообщение ушло, — довольным голосом сказал новый знакомый. — Сейчас ответ придет…
Телефон запищал раненой крысой.
— Ну вот, — удовлетворенно сказал новый собеседник. — Я же говорил. Слушайте: «Там на двери все написано», — вслух прочел он. По мере того, как он читал, глаза за очками делались все круглее…
— Так как туда пройти? — уже без всякой надежды спросил Добрыня.
— От Храма Девяти Щитов, как я его называю, налево…
— Откуда?! — одновременно спросили мальчишки.
— От Театра российской армии. Это я сам придумал!
— Понятно. Мы найдем. Спасибо…
— Там налево такая улица… Ноябрьская… или Декабрьская…
— Спасибо.
— Нет, не Декабрьская… погодите! — закричал он вслед удирающим мальчишкам.
— Не хватало нам только сказки «Двенадцать месяцев», — проворчал Добрыня, увлекая Бурика в неприметный переулок. — «Хорист ора»…
И тут мальчишки остановились, как вкопанные, потому что метрах в пяти перед ними стоял Михеич. В костюме-тройке, с аккуратно подстриженной бородкой, в окружении шкафов-охранников. Он что-то говорил по сотовому.
Первым опомнился Добрыня.
— Михеич!
— Михе-еич! — подхватил Бурик и замахал руками.
Михеич оторвал от уха сотовый телефон, нашел глазами источник звука и… никак не отреагировал.
— Ну ни фига себе! — громко возмутился Добрыня. — Как халявный картофан на рельсах жрать, так он свой в доску, а как…
— А ну пошли отсюда! — один из охранников пребольно ткнул Добрыню в бок короткой антенной портативной рации.
Добрыня отскочил, едва не взвизгнув от боли.
— Ты! Дегароб Иваныч!! — выдал он охраннику. — Ума не нажил, да? Михеич, скажи ему!
Последнее адресовалось человеку с сотовым телефоном. Тот, не прекращая разговора, скользнул взглядом поверх мальчишеских голов и направился ко входу в особняк с позолоченной вывеской «МосСемБанк». Охрана торопливо засеменила следом.
— Козел! — со знанием дела бросил им вслед Добрыня. Было непонятно, к кому это больше относилось — к дуболому-охраннику или человеку, похожему на Михеича. — А может, это и не Михеич?
Бурик ошарашенно почесал в затылке.
— Не знаю… Вроде похож.
— По морде лица, так один к одному, только голову ему помыли и бороду подстригли. В телогрейке он как-то симпатичней смотрелся, а?
Бурик не ответил.
— Пойдем отсюда, — сказал Добрыня.
— Ага, пойдем. Нехорошее место, — ответил Бурик, однако не сдвинулся с места, к чему-то прислушиваясь.
— Ну, чего ты?
— Послушай. Слышишь?
— Что? Я ничего не слышу…
— И я… Ни звука, будто мы и не в центре города.
Место и в самом деле было жутковатое. Казалось бы, что тут такого? Роскошный трехэтажный особняк, кремлевские елки под окнами, ухоженные газоны… Но чувствовался тут странный неуют и какая-то наэлектролизованность, что ли… И гнетущая, невозможная, сводящая с ума тишина. Особняк темнел на фоне серого неба, как скала посреди моря, как риф, опасный для кораблей.
Подняв головы, мальчишки увидели, что из окон особняка на них глядят бледные лица, сплющенные о стекло.
— Бежим!
Мальчишки помчались, не разбирая дороги. За ними никто не гнался.
На пути показался небольшой сквер. Ребята сбавили скорость. В середине сквера темнела странная бронзовая скульптура — грустный невысокий человек стоял, опершись на прямоугольник окна электропоезда… Человеку было плохо — ноги его подкашивались, а куцый портфельчик грозил вот-вот выпасть из рук. Вверху висел железный указатель «Москва», а внизу, на гранитном постаменте, было написано: «Нельзя доверять мнению человека, который не успел похмелиться». Ребята уселись на скамейке перед памятником, тяжело дыша. Привычные звуки — шум машин, птичий гомон, доносящаяся откуда-то музыка — вновь окружали их. Это успокаивало.
Добрыня больную ногу. Она уже прошла, но после таких забегов все же давала о себе знать. Немного погодя он сказал, указывая скульптуру:
— Мне нравится. На отца малость похож. Вот уж не думал, что в Москве есть памятник алкоголику.
— Ну, это не просто алкаш… Ты читал «Москва-Петушки»? — спросил Бурик.
— Не-а, — честно ответил Добрыня.
— А я прочел… Правда, потом от мамы попало: зачем мне такие книжки читать. А папа сказал, что ничего страшного — все равно половину пока не пойму.
— А ты понял? Расскажи?
— Да я не знаю… В общем, он все время пьяный. В электричке едет с Курского вокзала. В Петушки…
— И что?
— Да, в общем, ничего — думает в пути о всяких разных вещах, разговаривает с кем-то, ну, пьет, разумеется… а в Петушки так и не попадает.
— Почему?
— Это знаешь… вроде мечты… Итака. А Итака — она всегда недоступна. Как горизонт… Ты знаешь, что такое Итака?
— Обижаешь! — Добрыня слегка нахмурился. — Нам в классе почти всю Одиссею вслух прочитали, когда мы легенды и мифы древней Греции проходили.
— В подлиннике? — шутливо поинтересовался Бурик.
Добрыня махнул рукой.
— А что там в этих Петушках?
— Там его ждет любимая девушка — рыжая и с косой до попы…
— Эй, а ты откуда знаешь?!
— Посмотри — это она? — Добрыня показал на другую скульптуру, стоящую чуть поодаль, которую Бурик не заметил. Это была бронзовая девушка округлых форм, с косой именно такой длины, как сказал Бурик, правда, перекинутой через плечо. Над ней был указатель «Петушки», а на гранитном постаменте надпись, которую прочел Добрыня.
— Наверное… Я ее, правда, не такой представлял.
— А как ее зовут?
— Не знаю… А еще там есть ребенок, который знает букву «Ю».
— А его как зовут?
— Ребенка? Тоже не знаю… какая разница?
— Да нет! Его! — Добрыня указал на первую скульптуру.
— Его? Какое-то смешное имя… А, вспомнил — Веничка. Веничка Ерофеев.
— Очень хорошая скульптура! — Добрыня встал со скамейки и ходил теперь вокруг памятника, осматривая его со всех сторон. — Знаешь, мне Веничка гораздо больше нравится, чем она. — Добрыня махнул головой в сторону Девушки из Петушков.
— А моя любимая скульптура — «Павшим и живым» у нас в парке, — признался Бурик. — Ангел с поднятым крылом. Помнишь, как мы под дождем перед ней стояли?
— Ага… А потом ты в бабушкиной стиралке белье промокшее отжимал…
Мальчишки расхохотались.
— Слушай, мы же за книгами собирались, — вспомнил вдруг Бурик.
— Точно! Нам, кажется, туда… А сколько времени?
Бурик взглянул на часы.
— Без двадцати семь…
— Бежим? Может, еще успеем…
— Ох… Ну, давай, — нехотя согласился Бурик.
Когда запыхавшиеся мальчишки оказались перед вожделенной дверью, они обнаружили на ней увесистый амбарный замок и табличку, в лаконичной форме сообщающую, что в летний период магазин работает до 18:00.
— Итака… — философски изрек Добрыня.
— Что будем делать?
— Поехали в Петушки.
— А там что делать?
— Не знаю… Все лучше, чем Манихино.
При воспоминании о ссоре в Манихине Бурик помрачнел.
— Добрыня…
— А?
— Давай больше никогда не ссориться.
— Давай! Никогда-никогда… Обещаем?
Бурик подумал.
— Нет, надо так, чтобы наверняка. А то мы сейчас пообещаем, а сами… — и вдруг предложил: — Нам надо на Перекресток Миров. И там загадать!
— Что загадать? — Добрыня уставился на Бурика, словно впервые его увидел. — То есть, где это?
— Около трамвайного моста.
— Это игра такая? — оживился Добрыня.
— Нет, не игра… — Бурик задумался на секунду. — Только ты не смейся…
— Когда это я над тобой смеялся? — возмутился Добрыня.
— Никогда… — Бурик смущенно опустил глаза, но тут же снова нетерпеливо их вскинул. — Это не игра. Понимаешь, есть одно такое место в Италии — это известный факт. В Милане, в галерее «Витторио Эммануэлле», на полу есть мозаика древняя, там такой бык. И если встать ему на…
Он запнулся.
— Куда?
— Ну… На это место…
— На какое-какое место? — не унимался Добрыня. В глазах его мелькали лукавые искорки.
Бурик вздохнул и решительно назвал «это место» открытым текстом.
— Так бы сразу и сказал, — хихикнул Добрыня.
— Я думал, ты догадаешься… Так вот, это место у быка совсем затерли — каждый норовит встать на него и провернуться на пятке, — серьезно продолжал Бурик. — И тогда желание исполняется.
— Любое? — глаза у Добрыни горели.
Бурик задумался.
— Не знаю. Нет, наверное… Такое, для которого нужна удача. Вот, например, когда я перед контрольной по математике…
— Перед контрольной? В Милане?! У быка на…
— Нет, не на… — Бурик запнулся. — Я нашел такое же место у нас на Войковской. Даже, по-моему, еще более сильное.
— Ну, ты даешь! Вправду нашел?
— Да, — тихо сказал Бурик. — Ты веришь?
— Ага… — выдохнул Добрыня.
— Тогда поехали!
Мальчишки зашагали в сторону метро.
— …Это рельсовая развязка, где трамвайные пути пересекаются… — быстро, словно боясь, что Добрыня его перебьет, говорил Бурик.
Через полчаса они вынырнули из подземелья на станции «Войковская».
— А почему «Перекресток Миров»?
— Там есть такая точка… я ее сам нашел — если на ней стоишь, два пути пересекаются и уходят в разные стороны, как будто в разные миры. И если крутнешься на правой ноге и желание загадаешь — исполнится.
— А если я загадаю — чтобы мне стать взрослым?
— Взрослым? — спросил Бурик. — Исполнится, конечно. Вырастешь и станешь.
— Нет, я хотел сказать — чтобы мне немедленно вырасти.
— Ты что, дурак — такие вещи загадывать?!! Зачем тебе?
— Да надоело быть маленьким. Все тобой помыкают, командуют, в школе там…
Бурик остановился.
— А как же… как же мы?! — проговорил он, растерянно глядя в лицо друга.
— Ты что, Бурик! Ну я же пошутил… — Добрыня глядел под ноги и пинал какой-то камушек, не зная, как поднять глаза.
— Ты больше не шути. Фигово у тебя получается. — Бурик повернулся, и, шмыгнув носом, пошел дальше по улице Космодемьянских.
— Помнишь, я тебе сон рассказывал? — спросил он, не поворачиваясь.
— Помню, — просопел Добрыня где-то сбоку. — Про мальчишку, которого ты…
— Он состарился на моих глазах. Сначала быстро вырос, а потом состарился. А я… я только смотрел… Если б такое случилось не во сне, а на самом деле, я не знаю… я, наверное, тут же умер бы.
— Ну ладно тебе… Это ведь только сон. Что ты так мучаешься?
— Я и сам не знаю.
Два направления рельсов, идущих с трамвайного моста, упирались в улицу Космодемьянских и сплетались в замысловатый перекрестный узор, чтобы через несколько метров разбежаться по стрелкам в разные стороны. В центре этого переплетения Бурик остановился.
— Вот, смотри!
Очертания рельсов в этом месте образовывали правильный ромб. В его середине, на одном из выпуклых булыжников, которыми была вымощена трамвайная линия, виднелся полустертый крест, сделанный белой масляной краской.
— Это ты пометил? — спросил Добрыня.
— Ага. Давно уже. Я сюда поздно вечером с линейкой пришел и замерил расстояния от рельсов. Чтобы уж наверняка по центру…
— Голова! — оценил Добрыня.
— Да ну… На меня тут какие-то пьяные как на идиота посмотрели.
— На то они и пьяные. Куда вставать?
— Да вот прямо сюда. Пяткой.
— На крестик?
— Ага… Только правой ногой.
Добрыня переступил на другую ногу и лихо крутанулся.
— Получилось? — спросил он.
— Кажется, да…
— Теперь ты.
Бурик послушно встал на крестик и неуклюже повторил процедуру.
— Чё, парни, офигели, что ли? — раздался рядом нетрезвый голос.
— Не ваше свинячье дело! — вежливым тоном парировал Добрыня. — Пошли, Саш.
Не обращая внимания на несущуюся следом матерную ругань, мальчишки пошли по трамвайной линии в сторону моста.
— Ты загадал? — спросил Бурик.
— Ага, — отозвался Добрыня. — А ты?
— Я тоже успел. Значит, все сбудется.
Поднявшись на трамвайный мост, они остановились примерно на середине, любуясь открывшимся видом. Внизу причудливо извивались рельсовые развязки, расцвеченные синими и красными огнями маленьких светофоров, таящихся у самых рельсов.
— Красиво, да? — спросил Бурик, облокотившись на чугунные перила моста.
Добрыня встал рядом, коснулся плечом.
— Ага. Здорово! Как созвездия.
— Ты знаешь, — смущенно начал Бурик, — когда я был совсем маленьким… ну, лет шесть-семь мне было, мы с папой часто ходили сюда гулять вечером. И когда я видел трамвай, который забирается на мост, мне казалось, что он обязательно взлетит и полетит куда-нибудь на другую планету. Я даже название придумал — Межпланетный Трамвай.
Добрыня молчал, готовый слушать дальше.
— Ну и вот… А на мосту трамвай сразу сворачивает направо. И действительно, кажется, будто он пропал. Или улетел…
— А папа не смеялся?
Бурик удивленно посмотрел на друга.
— Нет, конечно. Он у меня все понимает. Даже сказал, что, скорее всего, трамвай не улетает на другую планету… ну зачем связываться с этой невесомостью, безвоздушным пространством… Папа сказал, что это не-тех-но-ло-гично. Гораздо интереснее придумать, что трамвай на этом мосту как бы чиркает по грани соседнего пространства и может перейти туда. А уж там может быть что угодно — и другая планета, и вообще Счастливая Страна…
Мимо загрохотал трамвайный вагон. Проехав мимо мальчишек, он лихо завернул в сторону в конце моста — там был устроен спуск — и сразу пропал из поля зрения.
— А что, похоже, будто и правда того… улетел, — сказал Добрыня.
Мальчишки не спеша пошли вслед уехавшему трамваю. Спустившись с противоположной стороны моста, они, не сговариваясь, свернули на железную дорогу, ведущую на их любимый балкончик.
На балкончике сидели два странных типа. В руках они держали пластиковые стаканы. Рядом стояла початая бутылка шампанского, а на расстеленном пакете было разложено что-то нетривиальное и жутко аппетитное.
Мальчишки, заболтавшись, не заметили незнакомцев, и теперь, подойдя вплотную, удивленно уставились на это чудное пиршество. Один из типов, с трехдневной щетиной, пафосно вещал другому, зачем-то размахивая в воздухе правой рукой:
— …когда пишешь в соавторстве, важно уметь слушать друг друга! Надо вести диалог и все время подавать друг другу идеи. А у нас с тобой… — увидев подошедших мальчишек, он замолчал на полуслове. — Ну вот… Нас уже навещают собственные герои. Допились!
— Нечего было так реально их описывать! — спокойно отозвался второй, несколько более худощавый. Он внимательно посмотрел на мальчишек и вдруг сказал: — Знаешь, пошли… Пошли-пошли. Это место им сейчас нужнее, чем нам.
Первый молча согласился и принялся собирать закуску и закупоривать бутылку.
— Слушай, я так не могу, — вдруг сказал он, бросая пакет. — Не соавторы получаются, а какие-то жлобы! — Он повернулся к мальчишкам. — Ребят, голодные?
— Не… — ответил Добрыня несколько неопределенно. — Только что ели.
На этих словах Бурик шумно сглотнул.
— Да что вы там ели! — вступил второй. — Небось, чипсы какие-нибудь.
— Да мы не голодные, спасибо.
— Ну, смотрите…
Уходя с балкончика, они обернулись. Тощий помахал мальчишкам рукой.
— Только осторожней, — сказал небритый.
— Ага… Мы осторожно, — ответил Добрыня, привычно располагаясь на балкончике и просовывая длинные ноги сквозь нижнюю планку ограждения.
— Что-то вкусное тут ели… — сказал Бурик, располагаясь рядом и принюхиваясь. — Жаль, унесли. Чего ты отказался-то?
— Да ну… — ответил Добрыня. — Незнакомые дядьки. И вообще, неудобно. А поесть было бы неплохо…
Он потянул носом и закатил глаза то ли от удовольствия, то ли от голода.
— Пойдем ко мне — бабуля нас покормит. Только давай еще немного посидим.
— Конечно, — ответил Добрыня, ковыряя пальцем криво нацарапанную надпись на досках: «Антон», и чуть ниже: «Борис». Затем достал из кармана длинный ключ и начал выцарапывать бородкой: «Бурик. Добрыня».
Бурик молча следил за его действиями. Когда надпись была готова, он вытащил из кармана ручку и принялся обводить буквы. Потом подумал и зачем-то обвел имена неизвестных Антона и Бориса.
— Зачем их-то? — спросил Добрыня.
— Сам не знаю. Почему-то захотелось… Как ты думаешь, это ничего, что мы написали здесь свои имена? Мне кажется, что ничего…
— Конечно! Мы же не просто так. И не на живом дереве пишем.
— Мне почему-то кажется — они тоже не просто так… — рассеяно сказал Бурик, ковыряя ногтем букву «Т» в слове «Антон».
Вечернее солнце ласково согревало мальчишек, сидящих на балкончике, болтающих ногами и никуда не спешащих. Сзади изредка проносились электрички, ветер ерошил давно не стриженные мальчишечьи лохмы.
Медленно опускалась вода в шлюзе, оголяя черные блестящие стены. Было тихо и спокойно, ребята знали, что здесь ничего плохого с ними не может случиться. Даже легкое чувство голода не омрачало опустившегося на них счастья. Наверное, оно было одним из его составляющих.
Слева зашуршал гравий — кто-то взрослый торопливо шел по мосту. Приглядевшись, Бурик и Добрыня увидели, что к ним спешит один из тех двоих, кого они, сами того не желая, «выжили» с балкончика. В руках он держал пластиковый пакет.
— Так… — сказал незнакомец, отдышавшись и почесав правый ус. — Хоть вы и не голодные, а поесть вам надо. Вот!
Он протянул пакет.
— Да мы не голо… — снова затяну было Добрыня.
— Спасибо вам, — перебил его Бурик. — Мы и правда немножко проголодались.
Добрыня только крякнул и взял пакет.
Подошедший, казалось, сам был смущен до крайности.
— В общем, тут… нарезки. Шейка в черносливе… И балык с бастурмой. В «Алых парусах» брали…
— Ого… — Добрыня заглянул в пакет. — Спасибо!
— Да, еще колбаса итальянская. Правда, она с перцем, островатая. Вы уж не обессудьте, если не понравится. Только вот, жаль, запить нечем, — он развел руками. — Не шампанским же поить вас…
Бурик прыснул.
— Не… Мы не пьем!
— Вот и не начинайте.
Собеседник улыбнулся.
— Удачи вам, ребята!
— Ага, и вам! Спасибо! — закричали мальчишки в быстро удаляющуюся спину.
Нарезки уплетали, растягивая удовольствие: разрывали каждый ломтик пополам, смотрели на свет (тонкие, они словно светились изнутри), нюхали и отправляли в рот.
Разговаривать не хотелось. Хотелось просто сидеть вот так, есть маленькими кусочками вкусную вкусность, душой понимая, что Чудо в этот раз неожиданно обрело вкус и аромат балыка, острой итальянской колбасы и шейки с черносливом.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |