"Лесной отшельник ядерного века" - читать интересную книгу автора (Оэ Кэндзабуро)
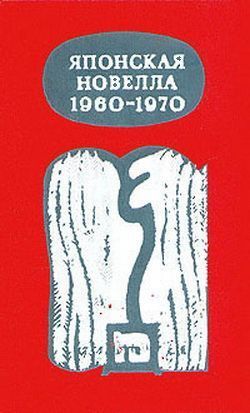 |
Кэндзабуро Оэ Лесной отшельник ядерного века
В поисках «свободы» ты бежал из лесной глуши, скитался по городам, провинциальным и столичным, а потом очутился в Африке. Ну и что? Нашел ты ее – «свободу»? Я ведь тоже ищу «свободу», хотя и не путешествую – куда уж мне в Африку, – а живу на одном месте, в забытой всеми лесной долине. И все-таки, если поразмыслить, чего я искал всю жизнь, оказывается – «свободы». Понял я это совсем недавно и теперь с каждым днем все больше и больше в этом убеждаюсь. Небось тебе странно, почему я вдруг заговорил о «свободе». Возможно, ты еще не осознал до конца, что ищешь именно ее. «Свобода» ведь не конкретный материальный предмет, руками ее не ухватишь, и ты будешь искать ее и испытывать постоянное чувство голода, пока не угаснет твое сознание. И все же именно ты, несчастный, безмолвный, мелькнувший в нескольких кадрах телевизионного фильма, заставил меня убедиться, что погоня за «свободой» стала делом всей моей жизни, что все мое «я» – бесконечное чередование мелочной удовлетворенности, большого недовольства, надежд, гнева и страха, приведшие вжонечном счете к прочно укоренившемуся во мне чувству унижения, – не что иное, как постоянно ищущее «свободу» сознание.
Ты, наверное, не видел этого фильма, возможно даже не знал, что являешься одним из персонажей, и не заметил нацеленного на тебя кинообъектива, но я-то видел – по цветному (!) телевидению, в доме владельца лесных угодий нашей долины, – видел фильм и тебя, промелькнувшего на экране, и отчетливо понял, в каком ты тупике после всех твоих отчаянных бегств. Между прочим, это была специальная информационная передача, озаглавленная: «Японцы, активно действующие в Африке». Ха-ха, японцы, активно действующие в Африке! Ваш лагерь был разбит в сухой, изрезанной трещинами низине. В сезон дождей она, наверное, превращается в русло реки. По словам комментатора, это было где-то на границе Кении и Уганды. На экране телевизора появился страус, детеныш, которого запихивали в ящик. Неподалеку возвышался термитник. Аборигены и японцы стояли двумя отдельными группами. Видно, и те и другие недавно пообедали и впали в уныние от того, что после короткого послеобеденного отдыха их ждет тяжкий труд. И вдруг появился ты. Молниеносно возник из тени, отбрасываемой термитником, метнулся к зарослям кустарника, размахивая большущим сачком, и вдруг присел, откинув в сторону сачок и закрыв лицо ладонями. Бабочка улетела, а тебя, должно быть, хлестнули гибкие ветви, прямо по глазам, вернее, по здоровому глазу. Другой глаз ведь у тебя почти не видит, и, естественно, ты бережешь здоровый, как драгоценность. Наверно, ты скрыл этот свой изъян, иначе бы тебя могли не взять в отряд, командированный в Африку для отлова представителей местной фауны. Бедняга! Ты лезешь из кожи вон, рвешься работать даже тогда, когда другие наслаждаются коротким послеобеденным отдыхом, лишь бы не заметили, что ты полуслепой, а то еще, чего доброго, выгонят… Потом был такой кадр: ваш отряд плывет на пароходике вниз по Нилу, к Средиземному морю. Из воды торчат головы бегемотов, кругом плавает нильская капуста. Кинообъектив, скользнув по лицам участников экспедиции, сиявшим от наигранного, показного восторга, на несколько секунд остановился на тебе. Ты устроился на корме: сидишь на ящике, одинокий, погруженный в собственные мысли. Солнце палит вовсю, а голова у тебя не покрыта, может быть потому, что мешают бинты – все твое лицо и лоб забинтованы. Видны лишь глаза – словно черные следы пуль на белой марле. И до чего же ты истощенный, высохший, темный! Темный и сухой, как вяленая рыба. И ничего в тебе нет, кроме глубочайшего уныния и усталости. Это бросается в глаза даже по телевизору. Скажу честно, не очень-то приятно было на тебя смотреть. И я спросил себя – что с ним произошло? Почему он, по доброй воле отправившись в африканскую даль, дошел до такой крайности, до полного изнеможения, до полного упадка, физического и морального, почему с покорностью переносит телесные недуги, отягощающие и без того тяжелое душевное состояние? И я ответил – он искал «свободу». А потом подумал о себе и с предельной ясностью понял самого себя – почему я, некогда молодой и уважаемый настоятель буддийского храма, согласился исполнять роль комедийного персонажа, который принял изменившую ему и сбежавшую с любовником жену, принял после того, как она, далеко уже не юная, утратившая былую привлекательность женщина, вернулась с двумя девочками, дочерьми любовника, принял и из-за этой скандальной истории был изгнан из храм-a, но не ушел из долины, а поселился в жалкой лачуге, построенной на месте бывшей птицефермы. Да, я понял, почему все случилось именно так, а не иначе – я тоже «искал „свободу“. Вот я теперь и решил поделиться с тобой моими мыслями и рассказать тебе, что я испытал за эти годы, именно тебе, хотя я не знаю, жив ли ты, вернулся ли благополучно из Африки, вырвался ли из тупика крайнего недовольства всем на свете, и в первую очередь самим собой. Именно тебе, потому что, если ты все же выжил и находишься на родине, если ты победил все свои физические недуги и даже вновь посветлел, отмывшись от тропического загара, и покрылся даже жирком, ты все равно – отныне и до конца дней твоих – не чужд того, что я называю „свободой“. Уж поверь мне, это именно так. Я ведь был священнослужителем и выработал в себе профессиональное чутье, помогающее мне находить слабое место у ближнего моего и прилипать к этому слабому месту прочнее, чем мокнущий лишай, с той лишь разницей, что лишай докучает, а я даю человеку временное утешение, иллюзию спасения, вытаскиваю его на поверхность, когда он вот-вот пойдет ко дну, и помогаю сделать несколько глотков свежего воздуха (впрочем, после такой помощи он может погрузиться еще глубже).
Я такой. Правда, что касается твоего больного места, ты сам помог мне его обнаружить, когда на несколько секунд мелькнул в светотени кинескопа, среди всей этой экзотической бутафории – нильской капусты, термитников и бегемотов, – расцвеченной немыслимо чудовищными красками.
Итак, о «свободе». Еще год назад, до моего внезапного нового обращения, я бы не произнес этого слова – «свобода» ни перед тобой, ни тем более перед жителями нашей долины.
Некогда мне говорили, что лицо у меня как яичко. Я стригся под машинку, поначалу, чтобы скрыть раннюю седину, позже – рассчитывая на эффект седого ежика. В тот период моей жизни я весь сиял от собственной добропорядочности – сияла вечная улыбка на лице-яичке, сияла седая, остриженная под машинку голова. Теперь, когда я думаю об этом, мне неясно, хотел ли я в ту пору казаться таким или действительно был таким от рождения. Откровенно говоря, не знаю. В конечном счете это, наверно, одно и то же. Я, с моей постоянной улыбкой, придававшей лицу некоторый оттенок печали, должно быть, производил впечатление человека мягкого, постоянно готового принести себя в жертву. И действительно, вся моя жизнь была сплошной жертвой, постоянной, никогда не кончающейся заботой о судьбах нашей долины и ее обитателей. Если у кого-либо из моих прихожан возникала необходимость сделать то или иное дело, я бывал тут как тут, полный готовности помочь. Иными словами, я жил только для нашей долины, совершенно не считаясь с собой, с собственными интересами, забывал даже о самых элементарных бытовых мелочах. Каждый мог помыкать мной, как ему заблагорассудится. И я не только терпел и безоговорочно принимал все это, но и совершенно искренне ежедневно и еженощно пекся о благе продувных хитрецов п глупцов нашей долины.
Играл ли я такого человека, или то была моя сверхсущность, унаследованная мною от предков? Теперь я прихожу к выводу, что, несмотря на полную зависимость от произвола жителей долины, а может быть, именно благодаря ей, я совершенно отказался от себя самого и уже в те годы стремился к «свободе» и наполовину достиг ее. Я не хотел ничего, абсолютно ничего для себя лично, я, так сказать, снес частокол, окружавший мою личную жизнь, и стал относиться с пренебрежением к собственным желаниям, словно они были не мои. Очевидно, именно поэтому, обобранный до последнего медяка, загнанный и униженный, я не чувствовал себя ущемленным и считал такое состояние вполне естественным. Отсюда и моя улыбка – тихая, ясная, отнюдь не вымученная. Это ли не «свобода»?!. Помню, однажды пристал ко мне наш сельский учитель, человек раздражительный и очень раздраженный в тот момент, и настойчиво потребовал, чтобы я раскрыл перед ним мою истинную сущность – не верил он в мое самоотречение, подозревал, но бурлят ли под этой маской низменные страсти: обида, жгучая злоба, черная ненависть. Я, по своему обыкновению, молча улыбался в ответ и не чувствовал абсолютно ничего, кроме пустоты, насквозь продутой ветром «свободы». Правда, в то время конкретных мыслей о свободе у меня еще не было. Учитель изводил меня своими приставаниями как раз в ту пору, когда моя жена после громкой, как набатный звон, связи со своим и его, этого сельского учителя, коллегой вернулась ко мне, – то есть очень давно. Возможно, учитель завидовал своему коллеге, отбившему у меня жену, потому с такой яростью нападал на меня. Как бы там ни было, но в то время я сделался всеобщим посмешищем, мишенью для нападок и издевок всех обитателей долины. Еще бы – от человека сбежала жена, открыто ушла к любовнику, а потом вернулась, и муж ее принял! Впрочем, эта скандальная история вызвала и сочувствие ко мпе, за мной окончательно утвердилась репутация человека жалкого, абсолютно безвредного, безропотно подчиняющегося любым обстоятельствам. Кроме того, теперь, задним числом, мне кажется, что нельзя считать пострадавшей стороной только меня. В настоящее время, когда жена снова живет со мной, я ежедневно подвергаюсь ее нападкам именно из-за этого, она, кипя ненавистью, не устает упрекать меня в коварстве, равнодушии и лицемерии, прикрытых вечной улыбкой, – короче говоря, утверждает, что я в погоне за своей пресловутой «свободой» толкнул ее в бездну порока и довел до отвратительной, жалкой жизни. Здесь есть доля правды, хотя на самом деле все обстояло гораздо проще: я не хотел вмешиваться в «свободу» жены, равно как и не хотел допустить вмешательства в мою «свободу». Жена никогда не говорит о своей измене, она называет это «наша измена» (подразумевая себя и меня) и, очевидно, на пятьдесят процентов права. Впрочем, я не уверен, что все зло коренится в измене, скорее уж, если в чем-то и было зло, так это в нашей супружеской жизни, а измена стала лишь ее естественным завершением. Наша история – и супружеская жизнь, и последовавшая на каком-то ее этапе измена – довольно простая, так что прошу ее выслушать. Мне хочется, чтобы ты узнал, как я жил раньше, до измены, и как живу теперь с вернувшейся ко мне – развратной! – женой, узнал и понял особенности теперешнего нашего существования, ибо оно оказывает определенное влияние на мое мышление.
Известно ли тебе, что представляла собой моя жена, когда мы только-только познакомились и она еще не была моей женой? Представь себе преподавательницу физкультуры начальной школы, девицу исключительно крепкую и крупную, превосходившую меня в весе на пятнадцать килограммов и в росте – на двадцать сантиметров, настолько мощную, что один человек, вернувшийся из русского плена, из Сибири, прозвал ее «солдат-сибирячка»! И эта самая девица, пышущая силой и здоровьем, ухитрилась сохранить до момента нашей встречи, то есть до полных двадцати восьми лет, свою девственность, которую мы и начали разрушать с пылом, достойным зеленой юности, начали разрушать, охваченные бешеной страстью друг к другу, избрав для наших любовных упражнений место не слишком-то подходящее – жалкую дежурку начальной школы. Вот тут-то и выяснилось, хотя это и без того было ясно, что моя жена обладает крайне странными взглядами на вопросы секса, неколебимо укоренившимися в ее перевернутом сознании без каких бы то ни было религиозных или медицинских оснований. Не знаю, может быть, секрет этих ненормальных взглядов на половую жизнь крылся в ее годами подавляемой чувственности, принявшей в конечном итоге уродливые формы – этакая смесь извращенности и самозащиты.
Ее секс-комплекс состоял из двух основных пунктов: 1) всякие ласки, поцелуи, объятия – короче говоря, все, что предшествует близости и дополняет близость, не что иное, как постыдное извращение, 2) сама близость женщине никакого наслаждения не доставляет, являясь постоянным источником болезненных ощущений. Пожалуй, если бы она придерживалась таких взглядов только в первые дни и месяцы замужества, это еще можно было бы понять – действительно, откуда знать великовозрастной, созревшей и перезревшей девственнице, что такое настоящая близость с мужчиной? Да, поначалу и волнение и страхи – все объяснимо. Но если бы только поначалу! Шли месяцы нашей супружеской жизни – я бы сказал, напряженной жизни, ибо она, как бывшая учительница физкультуры, почитала режим, требовала от меня регулярного выполнения супружеского долга и, постоянно погруженная в чувственные размышления, вовсе не собиралась отступать от своих правил. В конце концов ее сексуальный вывих превратился в настоящую проблему: с одной стороны – полное отрицание нежности, ласк, любовной игры, с другой – и это вполне естественно для женщины, ни разу не испытавшей мужской ласки, – минимум удовольствия от близости с мужчиной, вернее, даже не минимум удовольствия, а максимум неудовольствия. И все же она требовала от меня близости, и я не смел пропустить ни одной ночи, когда по ее расписанию была запланирована «супружеская близость». Я казался себе почти палачом, истязающим добровольно отдавшуюся в мои руки жертву, и в то же время я сам был жертвой, не смевшей удрать в другой угол комнаты от моей грозной властительницы.
А потом, в одну из таких кошмарных ночей, я, палач и жертва, восстал против нее – палача и жертвы. Поначалу все шло, как обычно: она, нагая и гневная, поносила меня, обливала потоком злобной брани и упреков. И я, робкий священнослужитель, человек, замкнувшийся внутри своей «свободы», отгороженный от внешнего мира неизменной покорной улыбкой, вдруг взорвался, не знаю уж почему – то ли тирания жены в ту ночь достигла апогея, то ли лопнуло мое терпение. Я вскочил, тоже голый, – безобразная должно быть, была сцена! – и заорал:
– Если ты до двадцати восьми лет ни с кем не спала, и не умеешь этого делать, и не желаешь научиться, то не лезь к мужчине! Или поищи какого-нибудь идиота, который сумеет расшевелить тебя!
На следующий день жена отправилась на свою бывшую работу и соблазнила бывшего своего сослуживца, парня, на несколько лет моложе ее. Она изменяла мне совершенно открыто, а через некоторое время уехала с любовником в провинциальный городок. Таким образом, я, защищая свою «свободу», натолкнул жену на мысль о ее «свободе», и она воспользовалась этой «свободой» на практике.
Почему же она вернулась ко мне? Я думаю, у этого мужчины тоже в конце концов иссякло терпение – хотя он терпел ее настолько долго, что они произвели на свет двух детей, – иссякло под непрекращающимся потоком ее недовольства, под тяжестью ее сексуальной тирании, и он сбежал в поисках своей собственной «свободы». Посуди сам, могу ли я его упрекнуть за это? Тебя, наверно, удивляет другое – почему я принял мою бывшую жену? Может быть, я, как всегда, принял обрушившуюся на меня действительность с неизменной улыбкой, с присущей мне покорностью, полный все того же самоотречения, привыкший бросать мою личную жизнь под ноги любому из жителей долины?
По правде говоря, в тот момент, когда я увидел жену – она с двумя девочками вышла из автобуса, курсировавшего между провинциальным городком и нашим селением, и под взглядами высыпавших из домов жителей, мгновенно узнавших о ее приезде и сгоравших от любопытства, спокойно, с таким видом, будто это само собой разумеется, направилась вверх по склону по тропинке, ведущей к храму, – я совершенно не представлял, что буду делать, и даже представить не пытался, какую реакцию вызовет ее приезд среди односельчан. Она, эта средних лет женщина, вместе с двумя маленькими девочками подошла к дощатой двери главного здания храма, но передумала, завернула за угол и направилась к сумрачному жилому отсеку, подталкивая и ругая упиравшихся девочек, исчезла внутри помещения, потом вышла снова и, громкими криками – что-что, а уж кричать-то она умела, привыкла подавать команды под открытом небом, когда была учительницей физкультуры, – разогнав толпу зевак, к этому времени запрудивших весь храмовый двор, встала, уперла руки в крутые бока, широко расставила ноги на каменных плитах двора и застыла как изваяние на сквозном ветру, в наступающих сумерках раннего лета. А я за всем этим безучастно наблюдал, сидя на первой ступеньке лестницы, ведущей на колокольню.
Так она и стояла, огромная, крепкая, со вздымающейся, как гора, грудью, с низко опущенной головой, погруженная в какие-то свои мысли. Тут ее позвали девочки – им, видно, было не по себе в мрачной передней с земляным полом. «Маман» – пропищали они тоненькими голосами, и это слово, никогда ранее не звучавшее под небом нашей Долины, буквально потрясло зевак, затаившихся в тени ограды: толпа разразилась громким хохотом, завыла, заулюлюкала, словно услышала величайшую на свете непристойность. Мало того, впоследствии это слово стало самым популярным анекдотом и самым унизительным в Устах местных жителей оскорблением для вернувшейся ко мне жены и для меня, ее принявшего. Услышав зов девочек «маман!» и не обращая внимания на вой толпы, она встрепенулась, вскинула голову, словно приняла какое-то решение, и устремилась ко мне, заприметив должно быть, еще раньше, где я сижу, решительная, огромная, со вставшими на ветру торчком жидкими и от природы вьющимися волосами. Эти развевающиеся на ветру космы, хлеставшая по ногам длинная, до щиколоток, ужасно старомодная юбка, ее лицо, покрытое сетью мелких морщин, пожелтевшее и окаменевшее от напряжения или, вернее, как я потом понял, от ярости, воистину являли жуткое зрелище. Я испугался еще до того, как получил первую пощечину. Но еще страшнее, чем эта лицо-маска, были ее слова, которые она извергала из своей могучей глотки, потрясая пальцем перед самым моим носом, когда я так и продолжал сидеть и, ужасаясь, размышлял, почему я сижу и не пытаюсь обратиться в бегство.
– Ты разбил мою жизнь! Разбил вдребезги! Будешь расплачиваться, проклятый?
Я, краснея, поднялся и кивком пригласил ее пройти в жилое помещение. И тут разгневанная великанша вдруг всхлипнула, совсем по-женски заплакала и стала несчастной и слабой. Мы вошли в мрачную переднюю. Фигуры девочек были едва различимы в темноте, светились только их испуганные глаза, как у зверьков, прячущихся в гуще ветвей. Мы вошли в дом об руку, и это обстоятельство сейчас же стало новым поводом для насмешек, но, не поддержи я ее в тот миг, эта убитая горем женщина, наверно, рухнула бы на каменные плиты двора, калеча свое тяжелое, как мешок с песком, тело.
Таким образом, жена вернулась ко мне с чужими для меня детьми, и в том же месяце явились ко мне представители прихожан и передали мне волю общины: я должен покинуть храм. Находившийся среди представителей один из боссов молодежной организации, который ранее полагал меня своим лучшим советчиком, заявил, что они не могут считать своим пастырем человека, решившего жить с распутной женщиной, ибо это явится дурным примером для молодежи, но, жалея меня, внезапно очутившегося под открытым небом, молодежная организация берется построить для моей семьи временное жилье на месте бывшей птицефермы, где сейчас не осталось ни одной курицы.
Вот ведь как все повернулось! Оказывается, я и моя жена будем дурно влиять на воспитание подростков. Не знаю уж, в чем могло сказаться это дурное влияние. Во всяком случае, во всей нашей долине не было второй женщины, которая отстаивала бы свои идеи, пусть бредовые, с таким поистине достойным подражания педагогическим педантизмом и стоицизмом. Разве не этот самый сексуальный стоицизм заставил мою жену покинуть меня, а потом ко мне вернуться? И все это происходило в нашей деревне, где – несмотря на распущенность нравов – одержимой сексуальным психозом женщине не остается ничего иного, как прикидываться сумасшедшей.
Итак, меня изгнали из храма. Это не явилось для меня катастрофой, потому что я не бедняк, у меня есть деньги – оставшееся от отца наследство. И все же я никуда не уехал, поселился во времянке, или, попросту говоря, лачуге, построенной для меня молодежной организацией на месте, где некогда жили сотни пригнанных на принудительные работы корейцев, а позже устроили птицеферму, насчитывавшую несколько тысяч кур-несушек, которые ежегодно давали десятки тысяч яиц, не имевших никакого сбыта, отчего птицеферма в конце концов прогорела, а оставшиеся без присмотра куры все до единой подохли от голода и холода. Я помню, какая стояла вонь, когда сжигали их трупы. Лачуга, ставшая отныне домом для меня, моей жены и двух маленьких девочек, была самой жалкой постройкой, которую мне когда-либо приходилось видеть. Она, естественно, состояла из одной комнаты, без всяких внутренних перегородок, а от внешнего мира нас отделяли грубо сколоченные и кое-как оштукатуренные дощатые стены. Штукатурка не закрывала Щелей между досками, и я очень скоро понял, что эти щели соответствовали замыслу строителей: каждую ночь под покровом темноты к лачуге прокрадывались молодые парни и девушки, горевшие желанием понаблюдать за нашей семейной жизнью.
Скитаясь по Африке, ты, наверно, не раз слышал по ночам шорохи и осторожные шаги вокруг твоей палатки, разбитой где-нибудь посреди саванны или в джунглях, на небольшой, очищенной от растительности площадке. Кажется, в детстве я читал о чем-то подобном у Йоитиро Минами. Теперь такой шум стал постоянным фоном наших ночей. Я, жена и девочки спали, а вокруг дома слышались осторожные шаги. Сначала я думал, что это бродит отшельник Гий, тот самый старик, что жил один в лесной глуши. Порой он выходил из лесу и блуждал по долине в поисках съестного. Старик безошибочно знал, где и чем можно поживиться. А у меня съестным и не пахло, зачем же ему тогда попусту тратить время и кружить по ночам около нашей лачуги? И вскоре я понял, чьи шаги бесцеремонно врывались в наш сон: те самые люди, которые изгнали меня из храма, утверждая, что я дурно повлияю на воспитание молодежи, приходили ночью подглядывать за моей семьей. Поэтому они и лачугу так построили – оставили щели в стенах. Их снедало любопытство: еще бы! – в одной комнате жили бывший священнослужитель, сошедший с пути истинного ради похоти, его жена, ужасно распутная женщина, и две девочки, дочери распутницы, не имевшие никакого отношения к бывшему священнослужителю. Жители долины надеялись увидеть скандальные сцены, картины разврата и разгула, далеко превосходящие их скудное воображение. Бедняги! Как жестоко они разочаровались! Хоть мы и жили с женой под одной крышей, но супружеские отношения у нас не восстановились. И все же наиболее упорным рецидивистам подглядывания порой удавалось видеть довольно любопытные сцены: моя жена, подозревавшая, что я только п жду случая изнасиловать или принудить к разврату совсем еще маленьких девочек, внезапно вскакивала среди ночи, включала свет, откидывала наше одеяло – спали мы все вместе, вповалку – и проверяла, в каких позах мы лежим. Очевидно, эта дикая фантазия была следствием ее постоянной неудовлетворенности. Впрочем, мне не хотелось углубляться в психологический анализ поведения моей жены и заводить с ней разговор на подобные темы, потому что она сразу бы затеяла спор о страсти вообще и обо мне в частности – почему я не пытаюсь удовлетворить мучающую меня страсть.
Скажу только одно – в день своего возвращения жена сразу же попыталась внести ясность в наши будущие отношения. Когда измученные девочки уже спали крепким сном и нам ничего другого не оставалось, как тоже лечь спать, жена, задремавшая у очага, где еще дотлевали угольки и посвистывал чайник, вдруг встрепенулась, широко открыла покрасневшие, полные ненависти глаза и произнесла:
– Запомни раз и навсегда: не смей ко мне прикасаться! Я сделала себе операцию – специально, чтобы никогда больше не заниматься этими гадостями.
Не знаю, правду ли она сказала или ей просто очень хотелось представить все в таком свете, будто я до сих пор пылаю к ней безумной страстью, будто она не по собственной воле, а уступая моим бесконечным _мольбам, вернулась в деревню. Как бы то ни было, у меня не возникло и не возникало впоследствии ни малейшего желания проверить, действительно ли она с помощью хирургии вновь обрела утерянную девственность. Пока мы оставались в храме, она все время возвращалась к этому разговору и, словно издеваясь надо мной, хвалилась своим поясом целомудрия, но потом, когда нас изгнали, она замолчала: очевидно, потеря храма угнетала ее. Постепенно чисто бытовая сторона взяла верх над всеми прочими вопросами, и наша жизнь ничем бы не отличалась от жизни прочих семей, если бы не эти ее внезапные ночные проверки. Однажды жена совершенно вышла из себя: ей показалось, что на ногах старшей дочери кровь. В следующую секунду выяснилось, что это не кровь, а всего лишь красные шерстяные нитки, прилипшие к ногам девочки. Но я пережил жуткие мгновения, с предельной ясностью, с яркостью лубочной картинки представив бывшего настоятеля, занимающегося по ночам растлением своей малолетней приемной дочери.
Итак, мы с женой и девочками поселились на месте погибшего царства кур. Для всех мы умерли, мои бывшие прихожане полностью нас игнорировали. Очевидно, так бы продолжалось до конца наших дней, если бы не один случай, о котором я расскажу несколько позже. А пока что мы жили в абсолютном вакууме. Когда я встречал кого-нибудь на дороге, человек смотрел сквозь меня, будто перед ним был воздух. Мне пришлось купить подержанный велосипед и обучиться на нем ездить на тот случай, если кто-нибудь из домашних заболеет и придется ехать в соседний городок, расположенный в низовьях реки. Я знал, что, заболей кто-нибудь из нас, даже ни в чем не повинные девочки, местный врач и не подумает оказать нам помощь. В одном только нам повезло: в деревне был супермаркет, принадлежавший корейцу, где мы могли приобретать продукты питания и предметы первой необходимости, иначе мы умерли бы голодной смертью или были бы вынуждены в конце концов перебраться в другое место. Таким был в общих чертах первый этап моей новой жизни.
Так прошло около полугода. И вот однажды ночью, в разгар зимы или, точнее, во второй половине пронзительно-холодной зимней ночи, наметились едва уловимые признаки перемен. Я проснулся, разбуженный легким шумом, доносившимся снаружи, и с раздражением стал прислушиваться: ну, конечно, за стенами нашей лачуги вновь слышались шаги, хотя в последнее время ряды любопытных значительно поредели и нас почти не беспокоили по ночам. Широко открыв глаза, я вглядывался в леденящий мрак, вслушивался в шорохи за стеной, дрожа от страха, что жена, спавшая у меня под боком – якобы для того, чтобы помешать моим непристойным заигрываниям с девочками, – вот-вот проснется и разразится бранью. Но она спала – если бы она проснулась и даже не сразу бы вскочила, а несколько минут лежала бы неподвижно, я бы мгновенно это почувствовал, – спала, то глубоко и мерно дыша, то по-собачьи вздрагивая и всхрапывая во сне, – словом, спала с тем же беспокойством, с той же нервозностью, какие были присущи ей в состоянии бодрствования, и на фоне этого беспокойства я вдруг явственно услышал шаги за стенами нашей лачуги, уловив в них нечто новое, какую-то особую осторожность, отнюдь не похожую на ту назойливость, которой они отличались ранее. Мои губы дрогнули и растянулись в улыбке, раздвигая окаменевшие от стужи мускулы щек. Конечно, это не была моя прежняя – небезызвестная и тебе – улыбка, озарявшая некогда мое лицо радостным и спокойным благополучием, но все же я улыбнулся, и, улыбаясь, глянул на самого себя как бы изнутри, и дал определение этой моей улыбке – она была из тех, которые обычно называют «жестокими». Вот тут-то я и почувствовал «свободу», явно ощутил вкус «свободы», как злостный преступник, бежавший из заключения до отбытия срока наказания и вдруг получивший официальное прощение – за истечением срока давности (если только срок давности учитывается при самовольном освобождении). Это я говорю о своих ощущениях, но человек, посмотревший в этот момент на меня со стороны и увидевший улыбку на моем заросшем щетиной, обрамленном нестрижеными, с сильной проседью космами, хотя все еще овальном, как яичко, лице, – вполне бы мог назвать ее счастливой. Я почувствовал: произошла какая-то перемена, что-то изменилось в окружавшей меня действительности, пусть мне пока еще не понятно, что именно, но что-то изменилось.
Проспав утром дольше обычного, очевидно из-за предрассветного бдения, я услышал громкий крик жены, но в ее голосе не было характерных гневных ноток. Я вышел наружу и увидел мешки с рисом, овощи, моти и даже скороварящуюся лапшу и порошковый суп. Все эти сокровища достались мне словно по волшебству – как герою народной сказки, спасшему мышонка. Я разглядывал моти и вспоминал былые времена, когда мои прихожане только-только начинали покупать продукты в супермаркете и каждая семья старалась по-своему оформить стандартно упакованные моти, чтобы я знал, от кого приношение. То же было и сейчас – все мои бывшие прихожане, словно сговорившись, принесли мне дары, и я понимал, что это не простое возобновление традиции, а нечто большее, вызванное внутренней потребностью. Да, о возобновлении традиции не могло быть и речи: ведь я с позором был изгнан из храма, а люди у нас – ты же их знаешь! – отнюдь не отличаются добросердечием и совестливостью, чувство раскаяния им неведомо, следовательно, они не стали бы просто так, из сострадания к несправедливо обиженному, делать мне подношение. Очевидно, произошло нечто нарушившее их привычное существование, и они, почувствовали острую нужду в утешении и утешителе, потянулись ко мне не ради меня самого, а из чисто эгоистических побуждений. Что же все-таки случилось?
Мне не пришлось долго ломать голову. В тот же день, еще до обеда, меня посетил новый настоятель храма (совсем еще зеленый священник, только что окончивший буддийский университет и поставленный прихожанами на мое место), который ранее полностью меня игнорировал и сейчас, придя ко мне, чуть ли не до слез страдал из-за принесенного в жертву самолюбия. Он рассказал, что Дзин, чудовищная толстуха, всю жизнь страдавшая обжорством, умерла. Дошла ли до тебя эта весть? Если тебя печалит смерть этой женщины, с которой ты провел свое Детство, мне бы следовало выразить тебе соболезнование, но я – пусть изгнанный из храма – все же считаю себя независимым священником секты Дзёдо, а основной догмат этой секты гласит, что смерть не является несчастьем, поэтому я и не буду выражать тебе соболезнования. Итак, молодого настоятеля, недавнего студента, беспокоило, как он должен реагировать на это событие и как себя вести во время погребального обряда, с его точки зрения необычного и странного, но освещенного вековыми традициями нашей долины. Я приободрил его. Сказав, что он, облачившись в одежды, соответствующие его сану, должен прийти в дом Дзин, где соберутся жители, и ни ко что не вмешиваться, а просто молча сидеть среди них, тогда все будет в порядке и он не уронит своего авторитета. Беседуя с молодым настоятелем, я думал не о нем, а о себе самом: теперь, поскольку умерла толстуха Дзин, долгое время бывшая козлом отпущения для всей нашей долины, кто-то должен занять освободившуюся вакансию, ибо местным жителям такой козел был необходим как воздух – иначе очень уж трудно жить в условиях постепенно, но неуклонно приходящего в упадок хозяйства. И если уж говорить прямо, я был взволнован, даже очень взволнован: по всем данным, на роль козла отпущения намечали меня. Действительно, с точки зрения людей темных, задавленных нуждой, озлобленных, больных своего рода психологической чумой, кто должен стать символом всех их несчастий? Разумеется, человек самый несчастный, самый жалкий, самый ничтожный во всей долине. Отшельник Гий для этой роли не подходил: во-первых, он давным-давно оставил долину и перебрался в глухие леса, во-вторых, отнюдь не считал себя несчастным. Бодрому независимому старику и в голову бы не пришло, что он жертва, задавленная глыбой самого огромного невезения, что жители деревни могут сделать его общественной помойкой, где будут скапливаться все отбросы и нечистоты. Я – другое дело. Я был прямым наследником престола страдалицы Дзин, всю жизнь преследуемой свирепым, неутолимым голодом. Поэтому они и пришли ко мне ночью, мои бесстыжие бывшие прихожане, пришли и сделали первое приношение, задали первый корм новому козлу отпущения, правда не без некоторых угрызений совести – свидетельством тому были их тихие, осторожные шаги у стен моей лачуги.
После обеда я сбрил многодневную щетину, покрывавшую мои щеки, и попросил жену подстричь мне волосы. Жена, вместе с девочками разбиравшая продукты, была в прекрасном настроении и охотно согласилась оказать мне эту маленькую услугу. Я вышел из дому с поднятой головой – впервые после изгнания из храма, – перешел через мост, ведущий в деревню, и по мощенной камнем дороге зашагал в глубь охваченной тревогой территории. Если бы я вчера осмелился вот так прогуливаться по дороге, дети – как это не грустно признать – закидали бы меня камнями, выполняя волю взрослых, и не успокоились бы до тех пор, пока я бы не свалился, обливаясь кровью, – словом, со мной произошло бы то же самое, что некогда произошло с твоим старшим братом в поселке корейцев. Мне не раз приходилось наблюдать, как дети нашей деревни всей ватагой нападали на бездомную собаку. Если она поджимала хвост и скулила от страха, ей все равно здорово доставалось, но уж если им попадалась смелая собака, отвечавшая рычанием на преследования своих мучителей, ярость маленьких дикарей не знала границ: они – то ли со страха, то ли взбешенные непокорством их жертвы – начинали швырять камни с таким ожесточением, словно собака первая на них напала, и швыряли до тех пор, пока несчастное животное не издыхало у них на глазах. Со мной, человеком, который был хуже собаки, поступили бы точно так же. Взрослые не только не стараются обуздать жестокость детей, а, наоборот, поощряют ее, потому что дети для них все равно что армия наемников-карателей, время от времени нападающая на владения экономического тирана долины, или, попросту говоря, на супермаркет. Конечно, большего ущерба дети причинить не могут, но тем не менее они как бы олицетворяют идею бунта, жившую в сознании взрослых. Как видишь, бунтари у нас становятся все моложе.
Итак, дети меня не тронули. В этот послеполуденный час они уже знали обо всем – и о смерти толстухи Дзин, бывшего козла отпущения, и о кандидате на это место. Повторяю, они меня не тронули, но лица у них были мрачные, хмурые, очевидно, им передалась тревога взрослых, сомневающихся, соглашусь ли я заменить ее. Действительно, хоть я и был изгнан из храма, хоть и влачил жалкое существование вместе с женой-изменницей и живыми плодами ее измены, но все же не шел ни в какое сравнение с покойной Дзин, ибо груз ее несчастья – совершенно реальный вес десятков килограммов жира – был неизмеримо тяжелее всех обрушившихся на меня бед. И взрослые поглядывали на меня с еще большей тревогой, чем дети, потому что не знали, возьмусь ли я, несмотря на принятый ночной задаток, за исполнение этой самой неблагодарной роли.
Раздумывая надо всем этим, я поднялся на холм, где находилась усадьба твоего рода. Готовясь к предназначавшейся мне роли, шагая под перекрестным огнем взглядов, я, однако, не испытывал ни малейшего недовольства самим собой, улыбка, как всегда, озаряла мое лицо, и мне было сладко сознавать, что из этой улыбки – как бабочка из кокона – вылупляется «свобода». Усадьбу снесли, но дом, где ты и твои братья провели детство, стоит до сих пор – это здание крайне необходимо обитателям долины.
В глубине кухни с земляным полом ярко горел огонь, у очага сновали женщины, занятые стряпней, в соседней комнате, так называемой гостиной, собралось много народу. Я подумал, что там идет бесконечное обсуждение порядка похорон (а как же иначе? – ведь в нашей долине, когда кто-нибудь умирает, все жители принимаются горячо обсуждать, что и как надо делать, будто у нас не существует веками установленной традиции похорон, будто это первый на свете покойник, над которым предстоит совершить погребальный обряд), но оказалось, в гостиной договаривались о проведении этой весной праздника духов. На галерее сидел отшельник Гий, сквозь раздвинутые сёдзи поминутно заглядывал в гостиную и громко требовал, чтобы его тоже пустили на обсуждение праздника духов и похорон Дзин. На него никто не обращал внимания, но он продолжал настаивать на своем. Тебя, наверно, удивит, как это Гий, десятилетиями скрывавшийся в глуши лесов и спускавшийся в долину только под покровом ночи, вдруг появился днем, хоть уже и в сумерках, но все же до наступления ночной темноты. Конечно, нам, выросшим в долине и хорошо знающим Гия, это может показаться странным, но дело в том, что старик с некоторых пор изменил своим привычкам, а именно с того времени, когда у нас в долине были волнения, возглавляемые твоим младшим братом и окончившиеся для их участников бесславно, а для твоего брата трагически – он ведь покончил самоубийством. И вот в то тревожное время отшельник Гий стал вдруг героем дня, личностью, особенно популярной среди лентяев и бездельников, обожающих посплетничать, посудачить и в тысячный раз пережевать жвачку минувших событий. Гий, по его утверждению, был единственным свидетелем убийства, совершенного твоим младшим братом, и со смаком рассказывал подробности – как убийца прикончил свою жертву, девушку из нашего поселка, размозжив ей камнем голову. Возможно, он и привирал немного, но вообще-то ему верили: он, привыкший к лесному сумраку, отлично видит в темноте и, находясь на месте происшествия, действительно мог разглядеть все подробности этой трагедии. В ту пору Гий спускался в долину каждое утро, спозаранку (а может быть, и не уходил в лес, а ночевал в амбаре вашего ставшего необитаемым дома), и вновь и вновь пересказывал виденную им сцену ужасного убийства. Возобновив таким образом контакт с жителями долины, Гий, кажется, хотел вернуться к дневной жизни, то есть вновь стать членом местной общины. Спекулируя на впечатлении, производимом его рассказом, он требовал, чтобы ему отвели одну из самых высоких должностей в общине, поскольку он был человеком не только самым популярным в то время, но и самым образованным в нашей долине. Однако слава его продержалась недолго: как только улеглись волнения и сенсационная суета вокруг трагического убийства, люди сначала перестали слушать Гия, а потом и вовсе перестали замечать, стараясь как можно скорее предать забвению постыдные, как они теперь считали, беспорядки и все, что с ними было связано. Конечно, Гий мог появиться в поселке, когда ему вздумается, хоть днем, хоть ночью, но на него никто уже не обращал внимания – чведь он был всего-навсего выжившей из ума старой развалиной. Во мне он вызывал сочувствие, кто знает, может быть, с годами ему становилось все труднее, все невыносимее жить в лесных дебрях. И вот теперь, несмотря на то, что с ним никто уже не считался, Гий сидел на галерее и требовал, чтобы его допустили принять участие в обсуждении похорон Дзин.
В облицованном камнем подвале, оставшемся от снесенной усадьбы, играла детвора. Тон задавали дети покойной Дзин, а остальные на все лады выражали им свое почтение. Этот обычай не изменился со времен нашего детства: малолетние сыновья и дочери покойного на некоторое время занимают особое положение среди своих сверстников. Я остановился на краю бывшего подвала, окинул взглядом простиравшуюся внизу тускло-белую в свете зимних сумерек долину и, почувствовав легкое головокружение, с предельной отчетливостью понял, как долго я жил такой жизнью, когда и в прямом и в переносном смысле не приходится смотреть на мир с высоты. Потом я вошел во флигель вашего дома, где жила Дзин. Там, перед самодельным алтарем, закрытая ватным одеялом, лежала маленькая-маленькая Дзин. Я не видел ее лица – оно было прикрыто белой тканью – и, пожалуй, усомнился бы, она ли это (ведь под ватным одеялом тело Дзин, «самой толстой женщины Японии», должно было бы выглядеть по крайней мере в три раза больше своих обычный размеров), если бы не знал, что умерла она не сразу, а после долгой, мучительной болезни печени, умерла голодной смертью, на протяжении многих недель поддерживая угасающий организм лишь водой да собственным подкожным жиром, постепенно таявшим и отдававшим калории этому телу, некогда непомерно раздобревшему и являвшемуся символом позора всей ее жизни. А теперь Дзин истаяла, и, если бы можно было предположить, что живой человек на девять десятых состоит из души и только на одну десятую из плоти, а после смерти эта душа отлетает, оставляя в одиночестве крохотное тело, тогда бы любая смерть человеческая была наглядным доказательством отличия нас от животных. Но все было гораздо проще, во всяком случае с Дзин: не душа ее улетела, а жир исчез, растаял, испарился.
Около маленького тела Дзин сидели ее муж, один из распорядителей похорон и облачившийся по моему совету в торжественное одеяние молоденький настоятель, а также сопровождавшие его монахи-прислужники, очевидно срочно вызванные из ближайшего городка. Настоятель что-то многозначительно говорил распорядителю похорон. Я смотрел на них, прислонившись к открытой двери. Разве раньше, до изгнания из храма, я бы осмелился держаться так непринужденно на людях?! А теперь я получил право вести себя как хочу, держаться, как простой человек, и это, безусловно, было проявлением «свободы» в конкретной форме. Распорядитель, словно замечая и не замечая меня, слушал настоятеля с отсутствующим, характерным для людей нашей долины видом, дававшим ему возможность для тысячи уверток, коль скоро они будут необходимы, а новоиспеченный настоятель откровенно тяготился моим присутствием, напоминавшим ему, что он совсем недавно приходил ко мне за советом. Молокосос! – мысленно сказал я ему. – Не приходится сознаваться, что скоро не только ты, но и твои прихожане будут обращаться ко мне со всеми своими горестями и я, помимо роли козла отпущения, буду играть также роль бога-покровителя долины.
Как бы в подтверждение моих слов муж Дзин обернулся ко мне и, наверно, заговорил бы, если бы его не сдерживало присутствие распорядителя и настоятеля. Он молчал и только неотрывно смотрел на меня, и я, прекрасно знавший удивительную способность жителей нашей долины проявлять чувства, прямо противоположные тем, которые они испытывают, понял и расшифровал взгляд этих тусклых и унылых, как у больной лихорадкой собаки, глаз, взгляд робкий, стыдливый, но настойчивый, почти наглый, делавший еще более непривлекательным его и без того некрасивое, испитое лицо: муж Дзин тяжко переживал смерть своей жены, этой неимоверно разжиревшей женщины, отравлявшей ему жизнь своим обжорством. Я понял еще и другое – очень скоро все жители долины потянутся ко мне за утешением и будут смотреть на меня такими же глазами, выражающими смесь мольбы, стыда и наглости. И все же мне стало очень жалко мужа Дзин, жалко почти до слез, и я поспешил уйти – хотя собирался взглянуть на лицо покойной, – нельзя же мне было плакать на виду у этих людей, мне, осознавшему собственную «свободу»!
Когда я начал спускаться с холма по мощенной камнем, углублявшейся в середине, как каноэ, дороге, меня нагнал отшельник Гий. Он шагал преувеличенно быстро, пытаясь скрыть за этой быстротой старческую немощь, и, поравнявшись со мной, завертелся, запрыгал и что-то забормотал. Но я – «свободный» – и не подумал остановиться, чтобы его выслушать. Конечно, в дальнейшем я буду останавливаться и выслушивать всех и каждого, если возьму на себя роль козла отпущения, но сейчас – нет!
Пусть они потерпят еще немного и не лезут своими грязными лапами ко мне в душу.
Что сказал мне отшельник Гий? Если попытаться записать то, что он выкрикивал и бормотал, вертясь и прыгая вокруг меня, пока я шагал вниз по дороге, и впоследствии стал повторять всем и каждому, приободренный тем, что я хоть и на ходу, но все-таки выслушал его, получится нечто похожее на стихи. В то же время он оперировал современными понятиями и, как выяснилось, был хорошо осведомлен об атомной энергии, ядерном оружии и прочем. Нет, он не произносил таких слов, как «атомная эпоха», но говорил о гибели человечества, о пепле смерти. Может быть, живя долгие годы в лесной глуши, Гий регулярно читал газеты, в которые ему заворачивали остатки еды местные жители? Не знаю, может быть, итак. Во всяком случае, отшельник Гий до того, как сошел с ума или притворился сумасшедшим, уклоняясь от военной службы, получил отличное образование и наверняка был самым просвещенным человеком в нашей долине. Если я переведу для тебя на нормальный язык его речь, получится примерно следующее:
Весть о том, что нынешней весной у нас будет грандиозный праздник духов, мне принесли крестьянки, жившие по соседству со мной. Жители деревни, очевидно, не хотели говорить мне заранее об этом вызванном экстренной необходимостью празднике – слишком много чести для козла отпущения, вышвырнутого деревенской общиной на пограничную черту ее владений! А крестьянки с окраины деревни, по праву ближайших соседей более других издевавшиеся надо мной и моей женой-изменницей, теперь первыми пришли ко мне – и не с пустыми руками – под предлогом сообщить новость. На самом деле причина их посещения была другая: они собирались сменить верование предков на вероучение другой, тоже буддийской, секты, имевшей многочисленных последователей. Новый наш настоятель, естественно, противился этому, а миссионеры секты ратовали за новую религию, и крестьянки предместья, охваченные беспокойством, не знали, на что решиться. И дело было не только в религиозных чувствах, корни беспокойства уходили глубже: задавленные нуждой люди искали путей к новой жизни, и предместье бурлило, переживая в миниатюре период религиозной Реформации. Вот они и пришли за советом ко мне – пусть изгнанному, но все же оставшемуся для них духовным пастырем. Кроме того, зная меня много лет, они заранее предвидели мой ответ. И я отвечал именно так, как им хотелось: «Это в вашей воле, вы свободны в своих поступках!»
Говорят, влиятельные лица нашей долины во главе с лесовладельцем сначала категорически воспротивились проведению праздника духов: как-никак праздник являлся признанием их беспомощности, наглядным доказательством обращения за поддержкой к высшей силе. А кому охота признавать себя несостоятельным и выставлять напоказ скрытую в глубине души тревогу? Но теперь обстоятельства изменились, и главы общины сами настаивали на устройстве праздника в начале весны. По словам женщин, рассказывавших об этом совершенно спокойно и Даже весело – ибо они были на крайней ступени нищеты и ничто уже не могло ухудшить их положения, – наши заправилы понесли огромные убытки в результате спекуляции на бирже. Как ни странно, они по совету корейца, владельца супермаркета, некоронованного короля нашей долины, играли на самых неустойчивых акциях, связываясь по телефону с Осакой. Сначала некоторые из них неплохо заработали, но, чем больше они заработали, тем глубже оказались раны, полученные ими после резкого падения цен на бирже прошлой зимой. Сам «король» не понес никаких потерь, прекратив игру за день до начала паники, и кое-кто усматривал в этом месть корейцев, насильственно пригнанных во время войны в наши края и принужденных работать в страшных условиях. К счастью, никто из пострадавших не покончил самоубийством, но, как сказали женщины, «кое-кто из старичков ума решился». Впрочем, этим словам нельзя полностью доверять, поскольку ненависть крестьян к влиятельным и богатым людям до того велика, что стоит кому-нибудь из богачей прослезиться, как его тут же запишут в сумасшедшие. Короче говоря, наши заправилы, претерпев жестокий удар судьбы, решили как можно скорее, в самом начале весны, устроить праздник духов и очиститься от всех напастей.
Праздник состоялся, и во время этого праздника произошли трагические события… Но прежде чем приступить к их описанию, необходимо сказать о странном поведении отшельника Гия, начиная с похорон Дзин и вплоть до самого праздника. Каждый день он появлялся в поселке и оглашал долину своими воплями – поистине то был глас вопиющего в пустыне! – о гибели городов и возрождении леса. Очевидно, эти фантастические проповеди были выражением его взглядов на современную цивилизацию, которые он впервые высказал мне на дороге, но злые языки утверждали, что Гий просто-напросто озлобился и теперь решил докучать жителям долины всеми доступными ему средствами. Старик действительно был обижен: его не допустили к общему столу на поминках по несчастной толстухе Дзин, а, как было заведено, угостили объедками, но, Гий, очевидно уже тогда решивший стать новым пророком, гордо отказался, и для него начались тяжелые дни – дни самого настоящего голода. И теперь, голодный, пылавший ненавистью ко всему человечеству, он жутким голосом вещал свои проповеди, походя не на пророка, призванного спасти род людской от атомной чумы, а, скорее, на самого демона атомного века.
Не стану подробно распространяться о празднике духов, этом торжественном, освященном традицией действе, когда души тех, кто некогда навлек на долину беду или был при жизни отъявленным бунтарем и злодеем, выходят под звуки барабана из леса, – ты его прекрасно знаешь, – остановлюсь лишь на некоторых особенностях последнего праздника. Вереницу духов, хорошо знакомых обитателям долины, дополняли две новые фигуры: дух в красной маске, густо утыканной на месте глаз гвоздями, – дух твоего младшего брата, разрядившего себе в лицо дробовик, и еще один – дух леса, в ярости гнавшийся за процессией, но не смевший примкнуть к торжественному шествию, потому что его все время отгоняли. Духом леса был отшельник Гий.
Именно отшельник Гий, представлявший дух леса, хоть он и не был официальным участником праздника, являлся самым любопытным персонажем в этот день. Дети вовсю таращили глаза и не отставали от него ни на шаг. Отшельник Гий вырядился чрезвычайно причудливо и комично, да еще, выкрикивая свою сумасшедшую проповедь, ни секунды не стоял на месте, а носился с бешеной скоростью, желая, очевидно, наглядно продемонстрировать вселившуюся в него силу атома, «источаемую возрожденным лесом».
Изображая духа леса, он, естественно, хотел украситься ветвями и листьями, но ранней весной еще не было свежих зеленых побегов, а ветви хвойных деревьев, наверно, оказались слишком тяжелыми для старика, и Гий покрыл себя сухими ветками кустарников и остатками почерневшей прошлогодней листвы. В этом облачении он походил на большого грязного ежа или на шар сухой травы, наподобие тех, которые скатывают некоторые жуки, только огромных размеров. Из шара торчали лишь тонкие жилистые ноги и одна рука, державшая заостренную бамбуковую палку. Если бы не голос, доносившийся откуда-то из самой глубины этого вороха и в тысячный раз произносивший всем известную проповедь, никому бы и не догадаться, кто изображает лесного духа.
Праздничная процессия, продолжая отвергать этого безумного духа, направилась к вашей усадьбе. В былые времена все бы вошли в бревенчатый дом и начали бы его славить, но дом давно сломали и ничего от него не осталось, кроме каменного подвала, поэтому духи спустились в подвал, разожгли там костер и закружились вокруг него в пляске. И огонь и пляска были как нельзя более кстати – весна еще не вступила в свои права, с бледного неба рушился колючий ветер и пронизывал насквозь. Потом участники праздника прошли во флигель и начали нить и есть. Бедняга Гий не был допущен ни к ритуальному танцу, ни к праздничной трапезе – правда, я сомневаюсь, пролез бы он в своем громоздком облачении сквозь раздвинутые сёдзи, – и теперь, разгневанный, обиженный, жующий на ходу моти, завернутую в бамбуковый лист, заметался по галерее. Прочие зрители спокойно наблюдали за всем происходящим, и лишь один Гий не находил себе места. Он заглядывал в гостиную, выкрикивал реплики по поводу выступлений других духов, а потом направился к каменному подвалу и вместе с детьми и взрослыми, ожидавшими второй половины празднества, стал подбрасывать ветки в ярко пылавший костер.
В доме меж тем продолжалось торжественное питие из большой чаши. Так уж у нас заведено: если праздник, надо потчевать друг друга, потчевать, несмотря на сильно отощавшие кошельки, несмотря на всеобщее оскудение. Большая чаша ходит по кругу, и люди, угощая друг друга, самозабвенно отдаются празднику, наслаждаются праздником, мучаются праздником, истязают себя праздником до тех пор, пока не упьются вдрызг. Они ведут себя так, словно праздник – самое важное событие в их жизни, словно еще недавно они не вздыхали и не жаловались: «Ах, опять праздник!» На этот раз все шло, как обычно: задолго до праздника начались охи и вздохи, нараставшие по мере приближения торжественного дня и перешедшие во всеобщий стон накануне – казалось, люди просто в отчаянии, оттого что кому-то пришло в голову устроить этот экстренный, внеочередной праздник. Но торжественный день настал, и все очертя голову бросились в праздничный водоворот и начали без конца потчевать друг друга, яростно разрушая остатки своего материального благополучия. Может быть, это не что иное, как взрыв огромного недовольства, принявший форму массового психоза? Может быть, в этот день жители долины, веселые, отчаянные и отчаявшиеся, забираются в большую чашу, как в ракету, и совершают массовый побег, оторвавшись от мрачного притяжения повседневной жизни и устремляясь в еще более мрачное «куда-то»?…
И вот, когда за праздничным столом ходила по кругу большая чаша, во дворе произошло страшное событие. Отшельник Гий, которому не разрешили принять участия в ритуальном танце, теперь, приблизившись к костру, ярко пылавшему на дне каменного подвала, почувствовал себя хозяином положения. «Официальные духи», занятые трапезой, ему не мешали, и он, одинокий лесной дух, начал свой собственный дикий танец. Дети и зеваки из предместья всячески его подзадоривали, и он кружился все быстрее, подпрыгивая, как огромный, облепленный листьями мяч, и размахивая бамбуковой пикой. Чувствуя себя в центре внимания, возбуждаясь все больше и больше, Гий начал выкрикивать громким, хриплым, не совсем еще свободным от гневных ноток голосом слова своей фантастической проповеди:
И вдруг отшельник Гий (есть слухи, что его подзадорили мальчишки, этот сгусток ничем не сдерживаемой разрушительной силы, сочетающейся с изощренной хитростью, далеко превосходящей все способности взрослых: «Отшельник Гий, если лес дал тебе силу атома, можешь летать по небу, как супермен в телепередаче?… Можешь пробить железную стену?… Можешь выдержать жар в миллиард градусов?…») споткнулся и то ли упал, то ли прыгнул в самую середину костра. По-моему, Гий вовсе не собирался прыгать в огонь, то была чистейшая случайность, но он, наверно, так растерялся, что сразу перестал различать окружающее и соображать, что происходит. Мгновенно задымилось его импровизированное облачение лесного духа, да и каменный пол, раскаленный костром, жег, как огромная сковорода, и несчастный старик завертелся и запрыгал с таким безумием, словно в нем действительно бушевала атомная энергия.
А потом он, должно быть, окончательно потерял рассудок: когда, привлеченные криками зрителей, из дому выскочили пировавшие там участники праздника и члены молодежной организации, входившие в состав добровольной пожарной команды, хотели прыгнуть в подвал и вытащить старика – скорее из чувства пьяного героизма, а не по велению долга – и все уже думали, что отшельник Гий спасен, он вдруг стал отгонять заостренной бамбуковой палкой своих спасителей. Его нелепый наряд уже тлел и дымился, по сухим ветвям пробегали крохотные желтые язычки пламени, перебираясь все выше и выше, а безумный старик продолжал подпрыгивать и неистово размахивать своей пикой. В тот момент, когда огонь и дым совсем было поглотили отшельника Гия, в пламени вдруг мелькнули его старая форменная фуражка почтальона, желтая борода и лицо, древнее, высохшее, но сиявшее ослепительным багровым блеском. Что придало этому лицу такое сияние? Очевидно, все вместе взятое – и жар пламени, и внутренний огонь, паливший старого безумца, и сакэ, украденное и выпитое им незадолго до этого. Во всяком случае, крайнее возбуждение не покидало отшельника Гия до самой последней минуты: он продолжал громко выкрикивать слова своей проповеди, превратившейся, очевидно, в навязчивую идею, и размахивать страшной, заостренной, уже обуглившейся палкой. Все мы, застыв от изумления и ужаса, смотрели на его багровый, непомерно большой на маленьком багровом лице рот и слушали одни и те же бесконечно повторяемые слова:
Потом все поглотило пламя – и фигуру старика, и его голос. И вдруг с ужасающим треском, заставившим всех нас содрогнуться, лопнула бамбуковая пика. Отшельник Гий лишился своего грозного оружия, но это не имело значения: мы понимали, что спасти его уже невозможно…
Когда огромный костер залили водой – а воды для этого потребовалось много и доставать ее было не так-то легко из глубокого колодца во дворе твоего дома, – мы увидели тело, черное, как обгорелая резиновая кукла. Не знаю, что больше потрясло всех нас – само происшествие или вид этого обуглившегося до черноты тела. Скажу только одно: мертвый отшельник Гий был удивительно похож на одного из «духов» праздника, изображавшего нашего земляка, погибшего в Хиросиме от атомной бомбы, и все мы содрогнулись, словно впервые почувствовали глубину отчаяния, стоявшего за бессвязными словами фантастической проповеди:
Прошел год. Снова наступила весна. За эти двенадцать месяцев у нас произошли большие перемены: много людей покинуло долину. Уходят не только молодые – на заработки, по и зрелые мужчины, и пожилые, и женщины с детьми – короче говоря, уходят целыми семьями. По их словам, они перебираются на жительство в Осаку или в Токио, и у оставшихся в долине, казалось бы, нет оснований не верить им. Но нет-нет да и пройдет слух, что кое-кого из отправившихся искать счастья в больших городах видели в лесах, в тех самых, где отшельник Гий прожил не один десяток лет. Может быть, эти люди, покидая свою деревню, действительно намеревались отправиться в Токио или Осаку, но вдруг останавливались посреди дороги, сворачивали в сторону и шли в глубь окружающих долину лесов. Если так, значит, они стали первыми последователями «нового учения», учения странного и непонятного, но связанного с чудовищным мраком атомного века, учения, которое год назад с такой настойчивостью проповедовал отшельник Гий.
Конечно, кое-кто в долине не согласится с моим мнением, заведи я разговор о «новом вероучении» и его последователях. Кое-кто, очевидно, считает, что не покойный отшельник Гий, а я имею прямое отношение к бегству местных жителей из долины, куда бы они ни уходили – в город или в леса. Что ж, в этом есть крупица истины. Я, человек теперь независимый, полностью обретший «свободу», не склоняюсь ни перед какими авторитетами, хожу куда вздумается, общаюсь с кем захочется, и все в долине прекрасно знают, что я не побегу доносить, если случайно проведаю, что кое-кто надумал скрыться от своих кредиторов. Поэтому под покровом ночи ко мне часто приходят молодые парни, мужчины средних лет, женщины и даже старики и спрашивают:
– Скажи… Я хочу уйти отсюда… Попытать счастья где-нибудь в другом месте… Это неправильно?…
И я отвечаю вопросом на вопрос:
– А почему же это нельзя уйти куда-нибудь в другое место?…
На этом разговор кончается. Я ничего не советую этим людям, ничего о них не знаю, ни о чем не спрашиваю – куда они собираются уйти, чем хотят заняться на новом месте. Сам я по-прежнему живу в долине, все в той же жалкой лачуге, ежедневно выслушиваю колкости жены, обладательницы несокрушимого пояса целомудрия, которая, очевидно, до конца дней своих так и останется неудовлетворенной, и постоянно вижу настороженные лица девочек, считающих меня каким-то чудовищем, только и ждущим случая совершить над ними насилие. Так я и живу. Как бы ни складывалась моя жизнь, я останусь здесь до конца и буду свидетелем гибели долины, если настанет такой день, когда последний житель покинет ее навсегда.
Долина уже агонизирует. Говорят, вскоре закроется наш супермаркет – знаменитый наш магазин, потому что многие дома опустели и число покупателей резко уменьшилось. Когда, казалось, наш некоронованный король уже полностью покорил долину, хитрые обитатели надули короля и удрали из его владений, точно так же как в былые времена их предки, выражая пассивный протест против жестокого помещика, удирали к другому помещику.
Я и моя семья живем теперь исключительно за счет совершенно открытых подношений обитателей долины, так что, если в конце концов деревня опустеет, нам тоже придется перебраться в другое место. Но повторяю: я останусь в своей лачуге, пока в долине останется хотя бы один человек, и буду учить постигать «свободу» тех, кто на протяжении поколений томился в оковах. Во всяком случае, мне хочется, чтобы они почувствовали хотя бы дух «свободы». Я думаю, ты, покинувший долину даже не юношей, а почти ребенком, все же поймешь, как трудно им сбросить груз цепей, приковавших их к месту. Для этих людей, хмуро шагавших по булыжным дорогам нашей окруженной лесами долины и ежесекундно ощущающих тяжесть оков, я, который живу, как мне хочется, являюсь символом «свободы», символом освобождения их душ. Что ж, спасение душ – дело для меня привычное, ибо и я и мои предки с незапамятных времен были духовными пастырями местных жителей.
Итак, когда все покинут долину, пробьет и мой час. Не знаю, куда я отправлюсь с вечно гневной женой и вечно настороженными девочками. Может быть, я сяду в ночной поезд, и моей конечной остановкой будут трущобы Токио или Осаки. Может быть, выйдя на дорогу, я сверну в сторону и углублюсь в лесные дебри. Бесспорно лишь одно – я отыщу, догоню тех, кто ушел из долины и начал новую жизнь, догоню, чтобы жить их жизнью и вновь стать для них жрецом и шаманом. Я уйду из долины не гонимый страхом, как они, а в погоне за ними – беглецами, уйду с гордо поднятой головой, как и подобает жрецу. Когда я думаю о предстоящем своем уходе, мне хочется, чтобы слухи относительно бегства в лес оправдались – жрецу и шаману самое место в лесной первобытной коммуне.
И вот тебе мой совет: ищи «свободу», а если веришь, что уже обрел ее, иди дальше – в поисках вечного обновления чувства «свободы». Давай договоримся о пароле, чтобы мы могли узнать друг друга даже во тьме кромешной, если нам суждено с тобой встретиться. Быть может, и ты, выходец из нашей долины, живешь сейчас в лесу, среди членов первобытной лесной коммуны, о которой идет слух!
Итак, пароль – «свобода».
(support [a t] reallib.org)