"Веселый мудрец. Юмористические повести" - читать интересную книгу автора (Привалов Борис Авксентьевич)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ЧЕРНАЯ БОРОДА
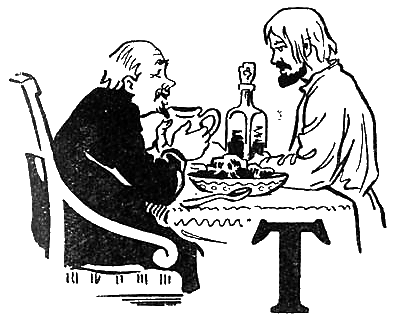 |
Теперь Нестерко думал лишь об одном: как быстрее встретиться с цыганом и получить у него коней. Удручаны лежали далеко в стороне от главного тракта, и пробираться приходилось по малоезжим дорогам, на которых за день если встретишь одну телегу, так это, считай, еще повезло.
Поэтому Нестерко решил сделать небольшой крюк и попасть в село Заголье, расположенное недалеко от имения пана Кишковского. В Заголье приезжих всегда хватало и легче было найти попутчиков. Кроме того, там проживала бабка Акулина, в случае чего она поможет.
До Заголья Нестерко добирался почти сутки. По дороге услышал, что Римша побывал в гостях в имении Кишковского, высек помещика в третий раз, а тот от розог взял да помер.
— Нас порют, порют, и никто с трех порок не помирал, — усмехались мужики. — А барина лозой вытянули разок-другой, он уж и душу богу отдал. Известно дело: панская шкура не то что наша, она больше к перине привыкла.
Одни говорили, что Римша притворился лекарем и пробрался к Кишковскому в дом, другие повторяли старый рассказ о продаже леса — когда Римша привязал барина к сосне. Третьи утверждали, что Римша открыто приехал в усадьбу на тройке лошадей и крикнул:
— А жив ли еще тот барин, который покупал у меня вола за козла?
Гайдуки и стражники вместе со всей дворней помчались Римшу ловить. А Римша хитер — сам-то незаметно на повороте соскочил, а лошади дальше порожняком помчали. Все за пустой тройкой погнались, а Римша в дом, к пану. Ну и выстегал его, как положено. Дворня вернулась, а пан уже еле-еле глазами хлопает.
«Если это правда, что Кишковский умер, — думал Нестерко, — то в Дикуличах все сейчас дыбом. Печенка переедет в имение дяди, а Трясун начнет хозяйничать у нас… Нужно спешить домой…»
В Заголье Нестерко сразу же, не теряя времени, направился к ворожее — бабке Акулине. Среди серых кособоких построек ее новенькую хату было видно издалека. Вялая, словно сонная, лошаденка, тащившая воз, на котором ехал Нестерко, свернула к корчме. Нестерко поблагодарил за подвоз речистого мужика, всю дорогу на разные лады восхищавшегося Римшей, и пошел к Акулине.
Бабка Акулина многим была обязана Нестерку. Да что там многим, — почти всем. Жила она плохо, на ладан дышала. Хате, почитай, лет сто, в землю вросла, ну — конура песья, и только. Ела бабка корешки всякие, да иногда перепадало ей кое-что от проезжих. Хоть и бедна хата и неказиста, но внутри всегда все вымыто, вычищено, подметено. Бабка никому в ночлеге не отказывала, а ей за то еду давали. Однажды Нестерко заночевал. Видит — плохо бабке. И родных никого нет, и хвороба ее одолевает, и помочь-то некому: соседи сами с кваса на воду перебиваются. У Нестерка ничего съедобного с собой не было. Вот и сидели вечером с Акулиной вдвоем в темной хате, голодные. Печка уже остыла совсем, а дров и в помине нет, последние остатки плетня бабка сожгла. И такое зло взяло Нестерка: совсем рядом пан Кишковский обжирается, корчмарь не вино, а кровь мужиков пьет, хоромы строит, а люди в голоде-холоде сидят!
— Хочешь, Акулина, — спросил Нестерко, — я тебя богатой сделаю?
— Да не шуткуй ты со старухой, — говорит бабка.
— Научу я тебя шептать-ворожить, — рассмеялся Нестерко. — Хочешь?
— А сам-то умеешь?
— Никогда не ворожил. Да это дело легкое, панское. Была бы охота.
— Научи, голубь, научи, — закряхтела бабка Акулина, — есть хочется, голубь.
— Жить будешь, как пани, — сказал Нестерко. — Только помни: шепчи-ворожи лишь панам да подпанкам, барыням да купцам, корчмарям да попам с попадьями. Бедному мужику не шепчи. А если уж очень попросят, то поворожи, но ничего с него не бери. Поклянись мужика своей ворожбой не морочить, на его горе не наживаться!
Что там бабка наговорила — неизвестно, только Нестерко ей поверил.
— Шептать да ворожить любой сможет. Только никому секрета нашего не открывать. Как тебя позовут к больному, — объяснил Нестерко, — ты подуй на него немного и шепчи: «Сигала жил, сигала нет. Сигала здесь, сигала в дверь». Пошепчи так, пока самой не надоест, дай болящему из бутылочки водицы испить. Скажи — святая водица та. Можешь в нее для святости огуречного рассола капнуть. Или на укропе настоять. Или на чем хочешь. Все равно поможет. А не поможет, так сигала его забери. Одним паном меньше. Поняла?
Заснул Нестерко кое-как — с голода-то сон короткий. Утром, чуть свет, проснулся и дальше пошел. И с ним вместе молва пошла, что объявилась, мол, бабка-шептуха, панов лечит очень хорошо. А мужиков не лечит, потому у них кровь другая, не панская.
Первым загольевский корчмарь прибежал — у него е похмелья голова лопалась. Бабка пошептала, дала ему рассола испить — полегчало. С той поры привадились к бабке паны и купцы, попы и подпанки. Бабка новую хату построила, тут сразу и родственники нашлись, племянница приехала из соседней деревни хозяйством заниматься, коровой да курами.
И уже у бабки даже с невесть откуда взявшимися родичами ссоры происходить стали: Акулина беднякам загольевским нет-нет, да и поможет чем: полтиной, куренком, хлебом, а родственники на нее кричат, добро жалеют. Думают, после бабкиной смерти им больше останется.
Подходя к бабкиной хате, Нестерко увидел возле нее красивую бричку, запряженную бурым конем. Кузов у брички был плетеный, верх кожаный, колеса в красный цвет покрашены. Дюжий хлопец в синей свитке, играя кнутовищем, сидел на завалинке.
— Доброго добра! — пожелал Нестерко. — Куда бабку повезешь?
— К пани Кузьмовской, — охотно ответил хлопец. — После поминок по пану Кишковскому занедужила. Съела чего или опилась. У нее это часто. Бабку привезу — барыня и встанет. Только нынче что-то бабка долго собирается. Жду, жду…
В хате Акулины просяному зерну упасть негде было — столько мужиков да баб набилось. Когда Нестерко попытался протолкнуться вперед, то раздались недовольные голоса:
— Обожди, тут не до тебя!
— Чужак какой-то пихается!
— Пусть на дворе постоит!
— Кто это? — слабым, привыкшим к шепоту голосом спросила Акулина, которая сидела в красном углу под лампадой.
— Сигала пришел! — громко произнес Нестерко.
— Господи! — ахнула Акулина. — Гость дорогой! Посторонитесь, люди добрые, то ж сам Нестерко. Теперь все будет хорошо!
— Наворожила! — восхищенно произнес кто-то. Хотя Нестерку и пришлось потолкаться, чтобы протиснуться к лавке, но уже никто не кричал на «чужака».
Только тут он заметил печальные лица людей, плачущих женщин.
Бабка Акулина поведала про горе:
— Была сила, да беда подкосила. Все из-за того, что пан Кишковский помер.
— Потому вы и слезы льете? — удивленно огляделся Нестерко. — Пана жалко? Дюже хороший был?
— Постой, сигала, не торопись, — сказала Акулина. — Ну помер — и царствие ему небесное. Пусть там теперь свои панские порядки заводит. А слезы вот почему…
Оказалось, что дня через два после смерти пана (а умер пан от страха: разговаривал со стражником и доказывал, что Римши не боится; в это время кто-то из дворни крикнул: «Римарь едет, римарь!» Пан вытаращился, тут его удар и хватил. Вот ведь какой недогадливый слуга попался: вместо того, чтобы просто сказать «шорник», «шорных дел мастер», он орал «Римарь!»
В имение приехал новый управляющий, от наследника, от пана Печенки.
Он спросил загольевских крестьян, не хотят ли они обратиться к новому пану с челобитной. Ну, хотя бы насчет того, чтобы уменьшил панщину и подати. У какого же мужика нет такой просьбы? Управляющий намекнул, что если мужики не поскупятся, то тут же составит такую бумагу для нового барина и сам все уладит к общей радости.
Собрали со всей деревни денег, кур, яиц, меду, муки — что у кого было, последнее принесли.
Управляющий развернул бумагу из мешка, что на поясе висел, вынул перышки, чернила тут же при нем оказались, начал писать. Каждого мужика по прозванию прописал и что тот мужик от барина хочет. Кто позволения просит в бору сосен для сруба свалить, кто — хоть на день в неделю от панщины освободиться, кто — недоимку простить, кто — о сене, кто — о грядках, кто — о животине… А управляющий, что писарь — строчит, да так мелко, словно просо сеет. Потом заставил каждого мужика против своего прозвания и просьбы подписи поставить. Накрестили мужики — целое кладбище. Управляющий забрал подношения, бумагу сложил и укатил в имение.
На следующий день корчмарь говорит мужикам:
— Мне долги не отдаете, а сами потихоньку богатеете. Все теперь о вас знаю!
Удивились крестьяне, начали расспрашивать корчмаря, как да что. Он и рассказал: написали, дескать, загольевские мужики прошение к новому барину, чтобы тот на каждый двор подати увеличил.
Мужики только рты пораскрыли: что такое?
Корчмарь смеется:
— Хватит прикидываться! Сам видел: каждый двор что-нибудь барину дает сверх обычной подати. Один вола, другой осьмину овса, третий яиц и кур, четвертый весь урожай с огорода… И расписки стоят.
Поняли тут крестьяне, что управляющий их вокруг пальца обвел: заставил самим себе муку вечную подписать.
Вот теперь и не знают, как быть.
— Пустит она нас по миру, бумага эта, — сказал седой, как голубь, мужик.
— Я на ильин день с Римшей самим в лесу встретилась, — всхлипнула старушка в черном платке. — Внучонок у меня за плечами сидел, а в каждой руке — по курице. Последнее за них отдала, чтоб яйца детям были. Римша-то и говорит: «Давай кур!» Я ему говорю: «Совести у тебя нет, отбирать у меня последнее добро. Ведь это же куры, это и моя земля, и моя корова. Они моих внучат прокормят!» — «Раз так, — Римша сказал, — тогда иди своей дорогой». И еще денежку дал. А управляющий этот обеих кур взял и денежку, да еще мне написал, что я пять кур должна…
— Знаю я этого писаря, — проговорил Нестерко. — Нет у мужика большего ворога, чем ваш новый управляющий. Трясун его прозвище. Он в наших Дикуличах пятый год мужицкую кровь пьет.
Десятки глаз доверчиво смотрели на Нестерка. Может, этот ничем не приметный мужик с белесой бороденкой и голубыми глазами в самом деле спасет их от лиха?
— Давай-ка, Акулина, поговорим одни, — подмигнул шептухе-ворожухе Нестерко.
Хата начала пустеть. Когда последним вышел седой мужик, бабка запричитала:
— Что хочешь придумай, Нестерко! Вся надежда на тебя! Вызволить ту бумагу нужно, иначе крест на село ставь, оголодают люди, сгинут.
— Был бы лес, будет и леший, — сказал Нестерко. — Римша как, говорят, к Кишковскому прошел? Как лекарь?.
— Да не был у пана Римша… В лесу он…
— Я не о том, я про молву. Людская молва просто слова не выдумает. Если мне в имение как лекарю-ворожею приехать? А?
— Шептуном? «Сигала здесь, сигала в дверь»? — удивилась Акулина. — Кого ж там лечить? Новый управляющий третьи сутки горилку тянет. Как зверь стал, на всех бросается.
— Вот я его излечу! Дай только мне бричку пани Кузьмовской. Пусть меня отвезут. Скажем так: еду, мол, к пану Кузьмовскому, а к вам завернул по обычаю — при покойном барине всегда заезжал. Да мне бы только в дом попасть, а уж там-то я знаю, что делать.
— А личность? — озабоченно спросила Акулина. — Личность твою писарь признать может?
— Да, — Нестерко оглядел себя, — может, конечно. Бороду вычернить надобно. И волосы. А свитка у меня и шапка — новые. Поп их дал, когда я к владыке ездил. Да отобрать не успел.
— Господи святый! Ты и у самого владыки побывал? — всплеснула руками бабка. — Бороду-то сажей, что ли, красить? Или дубовыми орешками? Орешками крепче — до коляд ходить будешь смоляным.
Акулина дала новый пояс для свитки, увешанный мешочками с различными зельями. Привязала к посоху Нестерка нитку с собачьими зубами.
— Так-то хитрее, — молвила она, щурясь и отходя к порогу, чтобы лучше рассмотреть нового ворожея.
…Кучер пани Кузьмовской стоял у своей брички, окруженный мужиками. Ему только что рассказали про «бумажное горе», и сердце крестьянского хлопца было полно сострадания к землякам и гнева к вору-писарю.
Когда к бричке подошел чернобородый, голубоглазый мужик, обвешанный мешочками и ладанками, то кучер не узнал путника, недавно пожелавшего ему «доброго добра». И, только услышав Нестеркин голос: «Поехали, мил человек!» — хлопец начал присматриваться к чернобородому.
— Помолодел ты вроде, — улыбнулся наконец он. Долго уговаривать кучера не пришлось — он сейчас не только Нестерка, даже самого Римшу и то бы с великим удовольствием отвез в имение для расправы с подлым писарчуком.
Мягко качнувшись, бричка приняла необыкновенного ездока-лапотника. Застоявшийся конек рванул с места, и через несколько мгновений новенькая хатка Акулины уже исчезла из глаз Нестерка.
— А пани как же? — поинтересовался Нестерко. — Смотри, под розги попадешь.
— Пани наказала без шептухи не возвращаться, — ухмыльнулся парень. — А моя вина, что бабка своих костей никак с лавки не поднимет?
«Признает или не признает? — теребила Нестерка беспокойная мысль. — Трясун не лыком шит. Хорошо, ежели пьян».
— Сколько мне годов? — сняв шапку, спросил лекарь-ворожей кучера.
Хлопец попридержал конька, оглянулся, внимательно оцепил черноголового, чернобородого седока;
— Кто ж знает… Моему брату в солдаты идти на будущий год, так ты вроде чуток его постарше.
Нестерко сказал обрадованно:
— Ловок ты лета угадывать! У меня, мил человек, четыре сына, да дочь. Вот как…
«Если Трясун сильно пьяный — не признает! — решил Нестерко, и на сердце стало легче.
— Пан Кишковский с перепугу помер, — сказал кучер, — от кондрашки. Потому сала в них, панах, скопилось много. Кабы лекарь с пана жир согнал, так, может, Кишковский и посейчас лютовал бы еще.
Нестерко не удержался, вспомнил историю о том, как трех панов лечили от жира.
— Не знаешь? Так слушай! До того паны разъелись — ходить стали еле-еле. Чего только ни делали, жиреют с каждым днем! А бабка-шептуха сказала им:
«Живет в дальней деревне винокур, по имени Адась, он ворожит, на себя чужие грехи берет. Раз грехи, то и ваше сало и жир тоже на себя взять может».
Собрались к нему паны, приехали. Адась брички назад отправил, говорит:
«Поживете у меня, Панове, сколько дней — не ведаю, но худыми уедете».
Паны обрадовались, сели за стол к винокуру, пировать начали. Напились к вечеру и повалились спать. Адась позвал рабочих с винокурни, говорит;
«Вот, надо вылечить панов, помогите».
Рабочие согласились. Переодели спящих панов в одежду мужицкую и перенесли их на винокурню.
Утром паны продрали очи и диву даются: вместо панской одежды на них рваные свитки, на ногах старые лапти! Что такое?
К ним приказчик подходит;
«Кто из вас, хлопы, работать будет? А ну, марш мешки носить!».
Паны начали кричать, а он их плеткой. Паны пуще прежнего орут;
«Мы паны, а не мужики!».
А приказчик думает, что они над ним смеются, и еще сильнее хлещет. Пришлось панам на работу идти. Целый день мешки носили, дрова пилили, едва вечера дождались, поели, да заснули как мертвые. На другое утро — то же самое, только приказчик уже их не стегал, потому паны сами чуть свет вскочили.
Работают они так неделю, другую, им уже кажется, что они панами никогда и не были — вместе с мужиками пьют, едят, спят. Худыми стали, как пугало огородное: свитки мешками висят, лапти и те чуть держатся.
«Хватит, — сказал Адась, — им худеть, а то скоро помрут!».
Тем же вечером панов снова напоили до бесчувствия и перенесли в Адасьеву хату.
Утром паны просыпаются, видят — рядом с ними их панская одежда лежит, никакого приказчика нет, никто их на работу не гонит. А сам Адась с поклоном:
«Пожалуйте, Панове, к столу, закусить чем бог послал!».
Сели паны за стол, едят, помалкивают: сон это или не сон?
«Долго спали, — говорит Адась, — пока я ваш жир на себя брал…».
И показывает им бочку сала — дескать, панское.
Отблагодарили Адася паны, денег ему дали и скорее по домам — как бы снова не заснуть!..
— Вот так бы и нашего пана! — весело сказал кучер. — Может, он бы и к мужикам-то помягчел!.. Эх, с ветерком, милый!
Он хлестнул своего бурого конька, тот стрелой влетел в ворота усадьбы Кишковского и лихо — песок из-под копыт! — остановился перед крыльцом.
Дом Кишковского был не чета дому Печенки. Полукруглые флигеля, как руки гостеприимного хозяина, обнимали въезжающих. Двухэтажное белое здание выглядело так празднично, будто только и занималось тем, что принимало гостей. Не то что у Печенки: там сразу же начинали хлопать двери, металась дворня, разводился огонь на кухне — и все это с криком, перебранкой, грохотом. Сразу было видно: приезд гостя в Дикуличи — целое событие, неожиданное и не особенно радостное для обедневшего барина.
Дворня, видимо, хорошо знала плетеную бричку.
Не успел кучер помочь лекарю-ворожею сойти наземь, как дверь дома распахнулась, и слуга, несколько раз пожевав губами, произнес:
— Целую ноги ясновельможного пана Кузьмовско-го!
— То не пан, — сказал кучер, — то лекарь! Протри глаза, дворня!
— Лекарь? — удивился слуга. — У нас, слава богу, все здоровы! — И вдруг тут же, у дверей, свалился, как сброшенный с телеги мешок.
Кучер удивленно поглядел на Нестерка:
— Чего это?
Нестерка наклонился над упавшим, повел носом:
— Пьяный.
В нескольких шагах от входной двери в полумраке прихожей виднелось еще двое слуг. Они сидели на ступеньках ведущей вверх лестницы, опершись друг на друга, и спали. Откуда-то слышался молодецкий посвист, топанье и разухабистая песня:
— Трясуну одному пить скучно, — сказал Нестерко кучеру, — вот он слуг и поит.
— Мне тоже идти? — с некоторой робостью спросил кучер, видя, что Нестерко стал уверенно подниматься по лестнице в панские покои.
— Ты иди сзади да повторяй, что, мол, пани Кузьмовская нас ждет.
Панские комнаты были переворочены вверх дном. Из пузатых комодов торчали пустые ящики, тут же на полу лежали вышвырнутые из них груды всякого добра. Стулья, частью переломанные, валялись тут и там. Лужи разлитого вина, осколки и черепки битой посуды густо покрывали пол.
В зале, за длинным столом, перед остатками обильной еды и кучами грязной посуды, восседал один-единственный человек.
В нем с трудом можно было признать дикуличского писаря: новая богатая одежда и трехдневная пьянка сделали Трясуна почти неузнаваемым. Он опух, лицо побурело, бородка стала совсем тощей и походила на торчащее из подбородка шило.
Из угла зала неслись пьяные голоса:
Двое слуг, обнявшись, пытались выделывать плясовые коленца, но непослушные ноги заплетались. Трясун хохотал:
— А ну, веселее! Эй, хлопы, давай!
Заметив подошедших к столу Нестерка и кучера, Трясун хлопнул в ладоши:
— Хватит, хлопы!.. Это кто ж такие пожаловали?
— От пана Кузьмовского, — поклонился кучер. Трясун ухватился за бородку;
— Что надобно?
— Я лекарь-ворожей, — сказал Нестерко. — Еду к пани Кузьмовской. Мимо проезжал, решил завернуть, посмотреть: не изгнали еще нечистую силу, что пана Кишковского сгубила?
— Эй, хлопы! — крикнул слугам Трясун. — Кучера пана Кузьмовского признаете?
Слуги подошли поближе.
— Он, — сказал тот, что потверже стоял на ногах. — Их кучер.
Второй слуга, придерживаясь за стенку, подошел к окну и заглянул во двор.
— Бричка пана Кузьмовского, — охрипшим от истошного пения голосом произнес он. — В-о-он стоит…
— Пан ворожей, в бричку пожалуйте! — поклонился Нестерку кучер. — Вас ясновельможная пани ждет! Мне из-за вашей милости на конюшне всыпят, ей-богу!
— Не божись, а иди-ка лучше отсюда подобру-поздорову! — цыкнул на кучера Нестерко. — Жди меня внизу!
Хлопец ушел.
— Ворожей…» — рассматривая Нестерка, бормотал Трясун. — Садись со мной, гостем будешь… Где-то я тебя видел, а?
— Может, я пана врачевал? — спросил Нестерко, садясь рядом с Трясуном.
— Я cроду ничем не болел, — усмехнулся писарь. — Глаза твои мне знакомы… Эх, да у всего мужичья глаз одинаково смотрит… Чего ты мне ворожить будешь? Сначала выпей со мной.
— Мне еще к пани Кузьмовской ехать, — сказал Нестерко, — пить не стану. Да и ворожба тогда не пристанет, ежели я пригублю.
— У гостя не своя воля: угощают — кушай, не угощают — не спрашивай! — тоненьким, осипшим голосом закричал Яким. — Пей — и вся недолга! Я третий день пью, и ничего. Вот, — обвел он рукой стол, — почти полный был, от поминок остался. Не пропадать же добру! Сам все и ем.
— От беса это, — покачал головой Нестерко, — всего не съешь, а душу погубишь. Отдал бы еду да питье тем, кто есть хочет.
— Пусть лопну! — закричал Трясун и бросил чарку об пол. — А все мое! Никому ничего! Пей, когда я тебе подношу! Горилку пей, кваса нет. Был квас, да не было вас!
Яким Трясун сунул чарку в руки Нестерку и, чокнувшись, выпил свою. Нестерко огляделся: не видят ли слуги? Но они мирно посапывали в дальнем углу зала. Затем, пока бороденка писаря торчала колодезным журавлем вверх, он вылил вино в блюдо на остатки какой-то еды.
— Выпил? Вот теперь давай ворожи, — засмеялся Трясун. — А еще лучше — давай в карты играть. На деньги, а? Деньги у тебя есть?
Писарь пытался встать, но сумел только опереться руками о стол и слегка приподняться.
— Деньги-то у меня есть, — сказал Нестерко, — только я в карты не играю: это забава панская.
— Видел я где-то тебя, а, ворожей? — снова задумался Трясун. — Ты в Могилеве, в управе, не служил писарем? А у пана Брыцкого не бывал? Вот уж пан так пан… А я, знаешь, лучше пана буду жить. Паны не умеют из мужичья сок выжать. Я прикажу… всем… пусть знают… Я что хочешь могу придумать…
Нестерко приложил палец к губам, а потом поманил Трясуна и шепотом сказал:
— Бесовское наваждение здесь в доме. Пана покойного сгубил бес и тебя сгубит.
Писарь повертел бородкой, спросил недоверчиво:
— Что ж, я беса-то не чувствую? Нестерко продолжал все так же, шепотом:
— А в очи туман наплывает?
— Наплывает, — кивнул бородкой Трясун.
— Чарка двоится? Смотришь — одна, ан вдруг две?
— Угу.
— Это бес с тобой пьет в сотоварищах! Его чарку ты и видишь.
Писарь внимательно поглядел на Нестерка, потом — так же внимательно — на чарку.
— А чудеса показывать можешь? — спросил вдруг он. — Раз ты ворожей…
— Могу на спор ведро горилки выпить, — спокойно сказал Нестерко. — Пятьсот рублей.
— Ну? — удивился Трясун. — Сразу ведро? А если проспоришь? Ты мне деньги покажи. Может, у тебя их и нет.
Нестерко вынул заветные свои деньги, показал Трясуну.
— Ого! — сказал Трясун. — За них год небось ворожил?
— Пятьсот-то рублей? — усмехнулся Нестерко. — За день. К двум-трем панам съездишь — и домой.
— Пей! — Трясун ткнул пальцем в угол. — Вот там. мера стоит с горилкой.
Нестерко прошел в угол. Пять ведровых мер, похожих на маленькие бадейки, стояли пустые. Одна из них была накрыта деревянной плотной крышкой.
— Нашел? — крикнул Трясун. — Пей теперь.
— Найти-то нашел, — сказал Нестерко, возвращаясь к столу, — а вот твоих денег я не видел.
— Денег у меня сейчас нет, — махнул рукой Трясун. — Но я могу и без них.
— Сам тогда и пей.
Писарь расстегнул сюртук. Под ним на перевязи висела кожаная сума.
— Видел? — Он достал из сумы пачку бумаг/ — Все имение — вот оно!
Потом показал Нестерку свернутый в трубку лист:
— А это поболе тысячи стоит. Загольевские мужички здесь, с детьми и всей животиной. Вот вернусь в Дикуличи там тоже бумагу такую напишу, хе-хе-хе… Барину никогда до этакого не додуматься! Деньги на всем наживать нужно, чуешь?
«Верно, это она, обманная челобитная, и есть!» — подумал Нестерко и пошел к мерам.
Повернувшись на мгновение к писарю спиной, поменял местами пустую меру с полной. Затем отбросил крышку. Крышка покатилась, ударилась о стоящее на полу блюдо и упала к ногам спящих слуг. Те даже не пошевелились.
«Трясун словно двужильный, — подумал Нестерко, припадая губами к пустой бадейке и делая вид, что пьет из нее. — Всех споил, а сам еще языком ворочает!»
Приподняв пустую бадейку, Нестерко опрокинул ее, как молочную крынку — показывая, что горилка кончилась. Затем поставил ее на место и подошел к Трясуну.
— Не верю! — заорал Трясун, одной рукой придерживая сумму, другой хватаясь за бороденку.
— Поди сам посмотри, — усмехнулся Нестерко.
— Не могу, — пытаясь встать, проговорил Трясун.
— Давай деньги, раз проиграл!
— Не дам!
— Ах так! — сказал Нестерко. — Тогда пусть мера снова наполнится горилкой, будто ее никто и не пил!
— Ну? — вытаращил глаза Трясун. — Она будет опять… полная? До краев?
Нестерко пошел в угол, взял целехонькую меру горилки и принес ее к Трясуну:
— Смотри!
— Ай да ворожей! — пробормотал Трясун, уважительно поглядывая на Нестерка. — Пятьсот рублей в день! Да еще чудеса… Знаешь, ворожей, оставайся со мной. Ну их, панов. Сюда Печенка приедет, а мы ко мне, в Дикуличи. Заживем! Село мирное, мужики тихие. Есть один — Нестерко, да не долго ему озоровать. Сживем со свету.
— Слышал я о Нестерке, что не так просто с ним сладить, — осторожно вставил Нестерко.
— Хитрый мужик, озорной, верно, — мотнул головой Трясун. — Но я его чуть не обвел вокруг пальца. Самого послал за щенком, а детей его всех хотел продать. Пан Кишковский умер, а то бы… Ну, это все суета… Ворожей! Поедем ко мне, Нестеркину дочку старшую себе возьмем в прислужницы, а? Утром и вечером ноги нам будет мыть и сказки сказывать. Оставайся, ворожей. Ну, чего тебе шататься? Обзаведешься хозяйством, горя знать не будешь! Ты думаешь — в других деревнях каша да сало на деревьях растут? Нет. А мы посидим в Дикуличах лишь до поры до времени. Под лежачий камень вода не течет, бока у камня мхом обрастают, лежать мягче становится…
Нестерко не слушал пьяной болтовни Трясуна. Как только он понял, что его детям грозила неотвратимая беда, он весь рванулся к дороге, к коням, к родной хате. Может, там Печенка еще что придумал?! А как же мужики загольевские? А что, если так…
— Пан Кузьмовский горилку пьет с огнем! — сказал Нестерко. — Подожжет и пьет! Настоящий пан!
— Я, дай срок, и не таким буду! — стукнул себя в грудь писарь.
— А горилку ты жег?
— Могу! — Трясун вынул из кармана огниво, трут, долго высекал искру. Потом от трута зажег свечу. Горящей свечой водил по мере с горилкой, пока она не воспламенилась.
— Вот! — гордо сказал Трясун. — Горит! Как у пана!
— А-а! — вдруг заставил Нестерка вздрогнуть голос Трясуна. — Кто пожаловал сюда! Иди, иди, красавица, выпей с нами горящей горилочки!
Нестерко оглянулся и увидел маленькую, босую, в серой посконной рубашке девочку, которая испуганно стояла посреди зала. Очевидно, она вошла через боковую дверь и не думала здесь кого-нибудь встретить.
— Не бойся! — стараясь говорить как можно нежнее, манил девочку Трясун. — Я хочу с тобой выпить. И с ворожеем. Будем втроем пить!
Девочка медленными шажками, словно птичка под взглядом змеи, подвигалась к Трясуну.
— Люблю, когда дети пьяные, — хихикнул Трясун в ухо Нестерку. — Паны о мужицких детях забывают. А если всех детей мужицких собрать да потом выкупа у отцов-матерей потребовать? А? Сколько наживем на этом?!
Трясун уже изготовился схватить девочку. Но Нестерко сильно ударил своим дубовым посохом по его руке.
Девочка шарахнулась в сторону.
— А-у! — по-собачьи взвыл писарь.
Нестерко схватил его за ворот, приподнял над креслом.
— Давай сюда суму, гниль!
Трясун только глаза пялил да головой мотал. Нестерко свободной рукой вынул из-за пазухи писаря суму, достал из нее свернутую трубочкой бумагу.
— Говори, гниль, это загольевских мужиков прошение? Говори, не то убью! — прошептал Нестерко.
— Оно… оно, — пролепетал Трясун. — Только душу отпусти… Глаза-то знакомые… Знаю я тебя… А-а, Римша!
Произнеся это имя, писарь вздрогнул, словно его ударили, рванулся из рук Нестерка с такой силой, что грохнулся на пол, ногой задев ведро с пылающей горилкой. Горящий синим пламенем ручей побежал по полу.
— А-а! — вдруг пронзительно закричал Трясун. — Римша!
Слуги в углу вскочили на ноги и уставились на языки синего пламени.
— Римша! — продолжал вопить Трясун, уползая в угол к пустым бадейкам.
— Пожар! — завопили слуги и бросились во внутренние покои.
Нестерко спокойно миновал комнаты, спустился по лестнице, вышел на крыльцо. Бричка стояла наготове. Кучер озабоченно спросил:
— Ну как?
— К бабке Акулине! — влезая в бричку, сказал Нестерко.
— Значит, дело! — улыбнулся кучер. Он тронул коня, но тот уже натянул поводья: — Горит, никак?
Нестерко взглянул на дом. Из высокого окна второго этажа тянулась синеватая струйка дыма.
— Постой-ка, — сказал Нестерко.
Вдруг яркий огонь весело полыхнул во все окно, лизнул карниз и выскочил на свежий воздух.
— Девочка там чья-то бродит, — соскочил с брички Нестерко, — спасать надо! Возьми-ка бумагу да вези ее к Акулине. Будет время — за мной приезжай…
И он бросился в дом.
Кучер спрятал бумагу, огляделся — дворня еще ничего не заметила. Уже занялись черные окна во втором этаже, повалил дым.
— Эх, милый! — хлестнул коня кучер.
Вылетая из ворот усадьбы, хлопец в полглаза увидел, как к дому со стороны псарни и конюшни бежали люди.
…Панский дом вспыхнул, будто его подожгли сразу со всех концов. Старое сухое дерево запылало дружно. Словно нарочно подул ветер, и огонь перекинулся на конюшню, на псарню. Уже дымились крыши коровника, свинарника, сараев.
Дворня толпилась в нерешительности. Протрезвевшие слуги выскакивали из окон первого этажа. Большинство мужчин было отправлено Трясуном из имения на различные работы сразу же после поминок, а те несколько слуг, которые остались, едва держались на ногах от выпитой горилки.
Простоволосая босая женщина рвалась из рук дворовых девушек, кричала истошно.
— Она в саду работала, а ее меньшая бегала-бегала возле, да в панский дом и зашла, — объяснял кто-то. — Сгорит теперь дочка…
— Где ж ее найдешь в таком дымище-то, — говорили люди, — не войти, не пробраться…
Трясуна никто спасать не собирался. Слуги же все успели выбежать из огня и довольно спокойно смотрели, как горит панское добро.
— Крик я слышал, — рассказывал один из слуг, — будто Римша в доме. Сам не видел, а крик был.
— Чего Римше делать там?
— А бумага? Новому пану челобитная?
В крайнем окне второго этажа, откуда дым еще едва струился, показалась мужская фигура с девочкой на руках.
Толпа ахнула, говор стих.
Незнакомый чернобородый мужик одной рукой прижимал к груди девочку, а другой держался за косяк окна.
— Сено несите! — закричал кто-то — Давай сена! Человек десять бросилось к сараю, возле которого стоял неразгруженный воз с сеном.
Еще человек десять бросились к возу и подвезли его под самое окно.
Чернобородый мужик прижал к себе девочку и прыгнул на сено.
— Детонька моя! — бросилась простоволосая женщина к девочке. — Солнце мое!
Она ловко, как кошка, вскарабкалась на воз и схватила дочку. Чернобородый мужик сошел с воза, зашатался и упал на землю. Его окружила дворня.
— Угорел! Эвон как дымищем от него несет! — сказал кто-то.
— Может, это сам Римша? — перекрестилась одна из женщин.
— Ты что ж, Римшу забыла? — удивился кто-то. — Его же дом от тебя третий! Римша русый, льняной даже! А этот…
Чернобородый открыл глаза — они у него были голубые, как будто в них отражалось небо, в которое он смотрел. Потом вдруг глаза приняли озабоченное выражение, он пошевелил рукой, ощупал свитку.
— Деньги! Деньги где?! — воскликнул чернобородый, хотел подняться, но глаза его помутились, и он снова без памяти упал на землю.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |