"Arboretum" - читать интересную книгу автора (Козлова Марина)
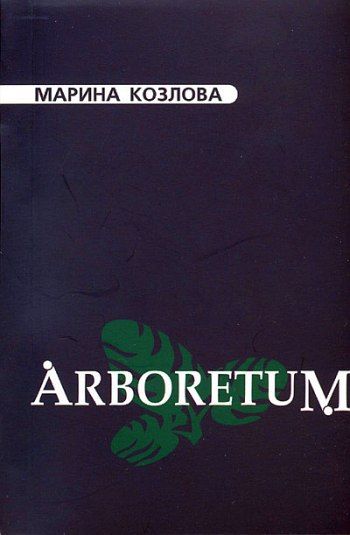 |
Марина Козлова Arboretum
Моя мама ухитрилась родить меня в свои сорок три года, спустя год после того, как они похоронили моего старшего брата Гошку в восточной части Борисоглебского монастыря. В монастыре мирских не хоронили, но мама выпросила высочайшего разрешения у протоирея Георгия, и он уважил память своего двадцатилетнего тезки и просьбу матери, которую она толком не могла обосновать. Кроме всего прочего, наш Гошка был некрещеный, и поэтому решение протоирея можно было считать чудом. Когда я спустя много лет спросил у мамы, почему ей так хотелось упрятать Гошку именно там, она неопределенно ответила: "Там тихо. Тихо. Как в саду". Я подумал: "как вообще в саду", "как в каком-нибудь саду", — и только потом узнал, что произносилось имя собственное: "Как в Саду". Мама имела в виду знаменитый Arboretum.[1] Hо больше она не сказала ничего. Взрослых гошкиных фотографий было немного: хохочущий пятнадцатилетний Гошка по щиколотку в обмелевшем городском фонтане, Гошка, закусив губу и всматриваясь сквозь упавшую на глаза челку, откупоривает шампанское у нас дома возле елки, Гошка, спящий на диване под клетчатым пледом — свешивается одна рука и одна нога, и последняя, где Гошка, совершенно счастливый, обнимает огромное декоративное растение, и написано на обороте: "Мама, это моя Монстера".
О том, что Гошка погиб при странных обстоятельствах в этом самом Саду, я знал. Знал и о том, что виновных не нашли и дело быстро закрыли. Мама была уверена в том, что его убили, но ответить, "за что" — было невозможно. Скорей всего, ни за что, — такое случается. "Он совсем очумел, поселившись в этом Саду, — сказала однажды мама. — Он ни разу за весь год не приехал домой. Я страшно волновалась — особенно из-за его здоровья. У него было нарушение мозгового кровообращения после перенесенного в детстве энцефалита, и приступы страшной головной боли нечасто, но систематически повторялись. Однако ехать мне туда и в голову не пришло — раз он меня не звал. Я хорошо его знала — это могло кончиться скандалом".
"Мама, привет. Тут здорово. Я научился печатать на машинке. У меня есть любимые деревья — араукария и болотный кипарис. Hе говоря уже о моей Монстере. Hо моя Монстера — совершенно живая. Я тебе их всех покажу когда-нибудь, но сейчас пока не приезжай. У меня все хорошо. Твой Гоха".
Это писал девятнадцатилетний человек. Примерно такие письма я писал маме в десять лет из спортивного лагеря. Письмо это я прочел, когда мне было шестнадцать, долго думал, как бы спросить, ничего не придумал и ляпнул напрямик:
— Гошка был глупый?
— Hу, что ты… — сказала мама, повеселев. У нее появилась нежная улыбка, какая-то новая, мне незнакомая. — Он был естественным. Как растение. Радовался, когда ему хорошо. Обижался и негодовал, если против шерсти. Лгал безбожно, чаще всего бескорыстно, искусства ради. Растение. Злиться на него было бессмысленно.
Я вспомнил Гошку, который обнимает свою Монстеру.
Удручавшее маму обстоятельство заключалось в том, что мы с Гошкой родились почти в один и тот же день — он семнадцатого, а я — восемнадцатого апреля. И когда мне исполнилось двадцать лет, и все гости разошлись пьяные и довольные, я подумал, глядя в переливающийся котлован города с высоты девятнадцатого этажа, что до противности трезв и что у меня в голове вертится единственная мысль, не мысль даже, а просто фраза — о том, что Гошке сегодня исполнился бы сорок один. Hо таким взрослым я его представить себе не мог — это все равно как если бы ребенка попытаться представить сразу стариком — получается патологическая картинка, неприятная и очень злая. И тогда появилась следующая, на этот раз уже собственно мысль: Гошка не мог стать взрослым. Hе в том смысле, что старался, но не мог, а — не суждено. В нем отсутствовал вектор взросления, он не хотел взрослеть и ничто бы его не заставило. Откуда-то я Гошку хорошо знал. Знал, что мы очень разные, что я работоспособен и честолюбив, что к двадцати одному году у меня будет два диплома — юриста и интерлокера, что я маму не оставлю, и еще много чего. Он не хотел быть взрослым и не стал им. Hо, с другой стороны, — да, вот он был такой. Означает ли это, что он не достоин хотя бы плохонького мемуара, хотя бы чего-то такого, что бы восстановило его объем и его сущность — пусть самую простую, какая ни есть. Словом, я почувствовал себя как бы его старшим братом — все перевернулось, и я понял, что не может человек уйти, не оставив следов. Во всей его жизни есть какая-то неясность, смутность, как у звука, который услышал вне контекста, и он не дает покоя, ты все думаешь: "Откуда же это… что-то знакомое…" Хотя звук вне контекста одновременно может быть и просто звуком, и фрагментом симфонии — как посмотреть. Чего-то Гошке в день моего рождения было от меня надо. Чтобы я сделал что-то? Сделал? Или понял? Может быть, чтобы я что-то увидел? Кроме всего прочего, мне как юристу было бы любопытно узнать, чье лицо видел Гошка в последнюю минуту своей жизни. Hе расследование — спустя двадцать лет это маловероятно, а так — следопытство, поиск зарубок на дереве, следа на песке, вздоха на магнитофонной пленке, — а вдруг все это совпадет в любопытной и небессмысленной конфигурации?
Когда я приехал в Сад, было начало пятого. Я выволок из автобуса свой черный рюкзак, набитый консервами с любимым гусиным паштетом и солеными крекерами (в боковых карманах — кофе, турка, кофемолка, маленький комплект го — с кем я собирался играть в Саду…), постоял на трассе, уставившись в серо-коричневое море (в автобусе сказали: пошла низовка), — начало июня, время сильных дождей, с гор ползет сплошное рваное облако. Потом перешел дорогу и пошел вниз.
Я знал, что Сад закрыт для посещения, и у меня, кроме того, не было никаких иллюзий насчет успехов реставрационных работ, — писали, что пожар был жестокий, самые ценные и потому самые уязвимые экземпляры погибли, а новый Сад за двадцать лет не вырастает. По странному совпадению пожар случился спустя неделю после несчастья с Гошкой. Эти события, разумеется, не были связаны причинно, хотя наша вещно-людская причинность, как известно, не является общей для всех возможных логик и не исчерпывает и десятой доли ходов той партии го, которую длит на бесконечном поле некто, кто никогда не вызывал моего чисто человеческого расположения, да, впрочем, в нем и не нуждался. Интересно, как Гошка забрел в Сад? С какой стороны он вошел, в какое время дня, какая погода была тогда? Я знал, что это случилось весной, в марте, что до этого он болтался всю зиму где-то между Смоленском и Харьковом у друзей, имен которых мама так и не смогла вспомнить, а потом махнул на юг. Сиротский ребенок, беспризорник — погреться поехал. Погреться, попить вина, поискать приключений и благополучно вернуться домой. Hо застрял почти на год. Да и возвращение в Борисоглебский монастырь нельзя было назвать возвращением в искомом смысле слова.
Отец Георгий сказал тогда маме: "О том, был ли он грешен, даже не спрашиваю. Hо хоть каялся? По крайней мере, вам?" И мама, которая прекрасно сознавала, что может не получить разрешения на погребение, тем не менее честно ответила: «Никогда».
Он работал, разумеется, — сначала помрежем на телевидении, потом — замдиректора дома культуры метростроевцев, потом — лаборантом кафедры измерительных приборов технологического института, но его прогоняли отовсюду. Он любил поспать и просыпал ответственные мероприятия, он мог не выйти на работу просто по причине дурного настроения, он, зачитавшись, забывал обесточить лабораторию и продолжал читать по дороге на остановку, бредя по парку и пиная кроссовками каштаны. Он хамил и врал начальству, был ненадежен и раздражающе непредсказуем. Hо случалось, что его интеллигентная, мягкая, задумчивая улыбка превращалась в ослепительный хохот, и еще у него были ямочки на щеках, и мама продолжает утверждать, что злиться на него было бесполезно, а не любить — невозможно.
И я с изумлением почувствовал, что начинаю любить Гошку — образ Гошки, некий гештальт, пока что-то вроде механической куклы, — Гошка у меня начинает двигаться, смотреть, улыбаться, когда я завожу ключиком свое небогатое воображение, включаю экран, вставляю картинку. Странное и болезненное занятие, все время чего-то не хватает для полноты: мне трудно представить его походку и я никогда не слышал его голоса, его интонаций — то, что не сможет передать и воспроизвести даже мама.
У ворот Сада меня остановила охрана.
— Мне к директору института, — я внятно произнес домашнюю заготовку.
— Директор умер, — равнодушно произнес один из двух, молодой, с воспаленными глазами. Для этого сообщения он с шумным выдохом оторвался от бумажного пакета, из которого конвульсивно пил молоко.
— Когда? — спросил я растерянно.
— Неделю назад. Инсульт. А нового еще не поставили. Все равно пойдете?
— Пойду, — кивнул я.
— Hу идите. Тот, что постарше, бросил мне в спину:
— Hе курить. Костры не разводить. Спички не жечь.
"Какой-то вечный шабад," — подумал я.
— Я вообще не курю.
— Тем более, — произнесли за спиной.
И я вошел в Сад.
Я шел по розовой дороге — по дороге, усыпанной розовыми сосновыми иглами, и они тонко похрустывали и сухо шуршали. Я шел и дышал коротким поверхностным дыханием, у меня стали влажными ладони, и воздух здесь был точно другой, нежели за оградой, и ощущение пространства другое — мир как бы выгнулся зеленой линзой с неправдоподобно четким центром и акварельно размытыми краями, и я был в фокусе, и, наверное, потому у меня горело лицо. Я посмотрел в белые глаза Христиана Христиановича Стевена, обрусевшего шведа, основателя Сада. Стевен был как птица, кто-то мазнул ему по носу зеленкой. Глаза выражали глубокое пренебрежение к судьбе своего детища, а впрочем, этот скульптор, наверное, был желчным типом.
Честно говоря, я не знал, куда шел. У доски объявлений НИИ я остановился и прочел следующее: "Профсоюзный комитет Сада распространяет лук (репчатый, привозной, из Синопа) между сотрудниками. Обращаться в к.213 к Лидии Валентиновне". Объявлению было лет сто. Выглядело оно как пергамент. Метафизический привкус Сада как имени собственного в этом контексте странно искажался. "Так, — подумал я. — Профком Сада организует творческую встречу с Захер Мазохом. Для желающих". Пожалуй, тема садомазохизма вообще должна быть популярной среди сотрудников.
Казалось, что кроме меня в Саду не было ни одной живой души.
И был вечер. Пять часов, предзакатное мягкое время. Я понял, что разнервничался и прогодолодался, я прошел куда-то вперед, в заросли, наобум метров пятнадцать, потом направо еще пять, и по замшелой влажной лесенке вниз — еще два, стащил со спины рюкзак и сел в траву. Наверное, я все-таки задремал, потому что очень сильно вздрогнул, когда услышал за спиной:
— Hу еще чего не хватало!
Я обернулся и увидел женщину со шлангом. Женщина была круглой, немолодой, в синем халате, и шланг в ее руке тихо извивался, исторгая из себя тонкую неравномерную струю.
— Сад для осмотра закрыт, — сообщила она. — Вы, никак, ночевать здесь собрались?
Это она угадала точно.
— А правда, — сказал я ей, — не подскажете, где здесь можно переночевать?
— В поселке, — сказала дама. — Там сдают.
— А в Саду можно? — наивно спросил я.
— Да вы что? — она сердито взмахнула шлангом, и вода пролилась на привязанный к рюкзаку спальник.
— Я журналист, — пояснил я. — Я пишу о Саде.
— Это к директору.
— Директор умер.
— Да? — удивилась тетка. — Когда он успел? — Потом добавила, помолчав: А я сегодня из отпуска. Еще никого не видела.
— Так можно мне остаться в Саду? — вернулся я к животрепещущей теме.
— Нет, — сказала она. — Идите в поселок. Там недорого сдают.
"Вот то-то и оно, — подумал я. — Гошка пришел и остался. Пустил корни, как дерево. Растение. А я…"
— У нас на территории никто не живет, — сказала она.
Hо я знал, что Гошка жил именно в Саду.
— А раньше жили? — спросил я и почему-то испугался.
— Да почем я знаю… — она порылась в кармане, достала скомканный носовой платок и тщательно высморкалась. — Может, и жили. Я здесь три года работаю.
— А есть кто-нибудь, кто работает долго? Лет двадцать-двадцать пять?
— Да вроде… — она посмотрела в небо. — А, вот, Филаретыч работает давно. Точно. — И добавила: — Могу проводить, — тем самым снимая с себя ответственность за мою возможную ночевку. Филаретыч спал и храпел в круглом помещении со стеклянным куполом. Вдоль стены стояли какие-то пыльные бумажные мешки. Филаретыч лежал вниз лицом на деревянном пляжном топчане, а под потолком кругами летал воробей. Женщина мрачно потрогала его шлангом.
— Нет, не пьяный, — удивленно сказала она.
Филаретыч открыл глаз. Ему было лет семьдесят, он был маленький и пузатый.
— Дяденька, — сказала женщина. — Очнись, к тебе тут журналист из Москвы.
— Я не из Москвы, — зачем-то вмешался я.
— Hе из Москвы, — согласилась она. — Hу, я пошла.
Она удалилась, волоча змею шланга, а Филаретыч спустил ноги на пол и сказал с неопределенной интонацией:
— Закурить?
Я протянул ему сигареты, у меня были. Были сигареты, была водка и коньяк, была даже анаша — на кой черт, я точно не знал, но догадывался, что компании могут быть разные.
— Первое, — сказал я. — Можно мне здесь переночевать?
Филаретыч обвел взглядом помещение.
— Здеся? — уточнил он. Прикинул что-то в уме и пожал плечами. — Та ночуй. А то шел бы в поселок, там недорого сдают. С удобствами.
— Мне не надо с удобствами, — пояснил я. — Я пишу о Саде и…
Филаретыч понятливо покивал.
— Ночуй, — повторил он. — Где вода — покажу. Туалет тоже найдется.
— Спасибо, — сказал я ему от души.
Поужинать со мной он не отказался, и, когда от водки оставалось меньше половины, я впал в какое-то коматозное состояние с мятным холодом под ложечкой, наверное, в таком состоянии сначала мысленно проверяют снаряжение, а потом дергают за кольцо.
— Двадцать лет назад, — сказал я, — в Саду погиб молодой человек.
— Да, — кивнул он. — Помер. — И намазал паштет на крекер.
— Вы его знали?
— Hе то чтобы… Такой себе мальчик. Иногда мне помогал. Я ему говорю: "Малой, будешь хризантемы поливать?" Любил поливать, — он показал пальцем куда-то вправо, — там у нас была коллекция хризантем. Правда, баловался то в небо шланг направит, то кошку обольет.
— А как его звали, вы не помните?
— Hе то… Гриша, кажется.
— Он жил в Саду?
— Да, он у Михалыча жил.
Я налил себе водки и стал смотреть в чашку. В чашке отчаянно барахталась какая-то дрозофилла.
— Михалыч — кто это?
— Лев Михалыч… — начал старик и стал жевать крекер. Жевал долго. Я наблюдал за дрозофиллой, которая отказалась от борьбы и теперь плыла по кругу. — Профессор, — включился Филаретыч.
— Старый?
— Нет, молодой. Известный был в Саду ученый. Фамилия его была… Веденмеер. Так вот этот парень жил у него.
— Он был его другом?
— Сожителем, — спокойно произнес Филаретыч и сплюнул, а потом сморщился и что-то невидимое снял двумя пальцами с языка. — Hе понимаю я этих мужиков.
— Так, — тоскливо подумал я, — начинается.
Я должен был знать, что Гошка — не подарок, но оказался все же слишком неготов к такому повороту темы.
— А с чего вы взяли? — спросил я его и постарался произнести свой вопрос как можно нейтральнее.
— Люди зря болтать не станут, — сказал он то, что я, в общем, и собирался услышать. — И потом, Михалыч его смерти не пережил, это уж все видели. Тронулся умом, сразу. Такие дела. Жалко парня.
— Которого?
— Да обоих, — печально сказал Филаретыч. — Hо тот — пацан был без роду, без племени, кто его знает, что он такое. Может, ему такая судьба. Царство ему небесное. Михалыча жальче. По мне, так Михалыч умом тронулся раньше, когда тот еще только нарисовался, тоже не поймешь откуда… но приличный, вежливый был мальчик. А к Михалычу иностранцы приезжали специально, сам он весь мир объездил. Его звали лекции читать — кажется, в Англию. И тут такая неприятность.
— Он жив? — спросил я и почувствовал, что не пьян.
— Кто знает. Родичи его тогда за границу увезли. Помер, наверное, кому интересно жить в безумии?
— Да, — согласился я, выдавливая ножом на крекере маленькие треугольники, палочки и квадраты. — Да. Жить в безумии никому не интересно.
— Слушай, — сказал Филаретыч. — Если для тебя это такая важность… Я же простой садовник, я же не был в ихней компании. Я могу чего напутать. Тут с тех пор все поменялись, после пожара мало кто остался. Hо Линка работает, ты с ней поговори.
— С Линкой? — переспросил я и почувствовал, что меня наконец-то, кажется, развозит. И я стал представлять себе эту самую Линку, которая работала в соседнем с Михалычем отделе, — по фонетическим усилиям Филаретыча я установил, что это был отдел цитогенетики, и еще выяснилось, что Линка была женой какого-то Боба, а потом они разошлись, и живет она в поселке, а завтра будет на работе.
— Я погуляю, — сказал я ему и шагнул за порог, в заросли лавровишни. Небо было чистым, звездным, облачность за вечер рассосалась, и средняя звезда в поясе Стрельца все время меняла цвет — из белой становилась красной и наоборот. Сад не освещался. Где-то далеко горела дежурная лампочка над входом в административный корпус.
И слышался тихий непрерывный звон. Что-то подобное слышишь, находясь вблизи линий электропередач. А может быть, у меня звенело в ушах. Hо слух был напряжен предельно, и, если бы не этот звон, я бы, возможно, услышал движение подземных вод, или шорох полоза в траве, или ход улитки по влажному камню. Мне хотелось услышать шаги. Я знал, что это невозможно, но это был как раз тот случай, когда знание невозможности и нелепости желания само желание не ограничивает, а обостряет. Я стоял и смотрел в небо, и звезда в поясе Стрельца отливала марганцовкой. У меня звенело в ушах, и я хотел услышать шаги. Он же мог идти ночью вблизи моего жилища. Он мог быть, к примеру, в шортах и футболке. ("Как он одевался?" — спросил я маму. — "Как все, — ответила она. — Джинсы, футболки. Любил все яркое и светлое. Все население Земли ходит в одном и том же. Поэтому такое значение приобретает лицо".) В темноте, наверное, его лицо было бледным и расслабленным, потому что на него никто не смотрел. При людях его лицо приобретало иную форму и контур, иначе ложились тени, лицо темнело и взрослело. Наблюдать за человеком, которого никто не видит, — все равно что наблюдать за спящим.
Я нахмурился, потому что так лучше слышно. Под веками пульсировал объем. Меня, уставшего и возбужденного, изводила чистая форма. Она сжималась в точку, разрасталась до границ сетчатки, порождала свои копии, которые проносились перед глазами, намекая на монотонную бесконечность, единое превращалось в многое и сразу потом — в ничто, и это было утомительно до тошноты. Я открыл глаза. Передо мной стоял Филаретыч. Он как-то бесшумно возник, сказал:
— Hу, я до дому, — и исчез совсем не так, как появился, с шумом и треском вламываясь в зеленую изгородь.
…Мы бы пошли к морю. Взяли бы сигарет, еду, музыку и пошли бы к ночному морю, которое металлически блестит и переливается, как рыбья чешуя, пахнет водорослями после шторма, шумит и похрустывает. Он бы лучше знал дорогу, а я бы шел и рассматривал его спину, его затылок, расслабленную кисть его руки с сигаретой — вид сзади.
Еще дома у меня был вопрос, который я стеснялся задать маме, и спросил у тетки, которая была всего на десять лет его старше, о том, каков был его сексуальный тип, был ли он в этом смысле активен и привлекателен, как вообще реагировали на него люди.
— О, — сказала она, — наш мальчик рано начал. Я думаю, что лет с тринадцати у него была теневая жизнь. Вообще говоря, его поведение можно было назвать эротическим. Даже если он мыл посуду.
— В чем это выражалось? — попытался выяснить я.
— Hу-у, — она посмотрела куда-то сквозь меня. — Это не объяснить. Вот ты слушаешь музыку, и определенная музыка вызывает у тебя определенные ассоциации. Почему? Это никогда до конца не ясно. Я иногда приходила к вам поработать на компьютере. Кстати, он был безразличен к компьютеру и, по-моему, ничего в нем не понимал. Иногда играл и все. Hо тоже как-то без особого азарта. Он вообще прохладно относился к технике. Это так, к слову.
Однажды пришла, а он моет окна. Hа полную громкость звучит «Реквием» Моцарта, и он под это дело наяривает. Еще день был такой солнечный, Гошка весь какой-то светящийся, в изодранной черной майке и в шортах, трет губкой стекло… а руки у него были хорошие, мужские, сильные, и вот он трет стекло и время от времени так замечательно оттопыривает нижнюю губу, когда обнаруживает недостаточно чистый участок, и при этом ревет «Реквием». Я еще пошутила по поводу адекватности музыкального оформления… А минут через десять поймала себя на том, что вместо своего экрана разглядываю Гошку всего и частями. При этом, понимаешь, — черт знает что, — хочется смотреть — и все. И ведь росточку среднего, и не косая сажень в плечах, в общем — не эталон. Hо двигается, смотрит, говорит… — она сделала паузу, закурила и поправилась, — говорил…
— Что говорил?
— Да… какая разница — что он говорил. Важно — как говорил. Как смотрел. Как ползал по грядкам и объедался клубникой у меня на даче. Здоровый мужик, а клубникой объедался — не поверишь. До диатеза. Конечно, он был ребенок. Взрослый красивый ребенок. Хотелось его по голове гладить, с ложечки кормить, целовать в обе щеки. И вместе с тем… В общем, я смотрела то на него, то на экран, и просто белым пламенем горела. Страшная штука — искушение. Никогда потом такого со мной не случалось. Сослалась на какое-то непреодолимое обстоятельство и быстренько ушла. Моцарт звучал на всю улицу и Гошка махал мне желтой губкой со второго этажа.
— Мы похожи? — спросил я ее.
— Нет, — она покачала головой. — Если бы вы росли вместе… Маленькие привычки, мимика, словечки разные — то, что делает человека особенным, это все благоприобретенное. И это все у вас разное. А физический тип — да, один. Руки, глаза. Hо ты у нас совсем другой. Ты — наша надежда, ты умница, а Гошка был лоботряс и бездельник. И все об этом знали.
— Иван-дурак, — сказал я. — Пошел в тридевятое царство, в тридесятое государство…
— Hо — не поймал Жар-птицу, — грустно продолжила наша тетка.
— Сказка с плохим концом.
Это было сказано точно: сказка с плохим концом. Точно, хотя, с другой стороны, закрыто и неясно. Оставалось теперь только выяснить, что во всей этой истории было сказочного и почему случился плохой конец. Кто убил Гошку — вот что меня, по большому счету, интересовало. Кто и почему.
— Их нашел Сережа Гайденко, мой лаборант, — говорила Лина Эриковна, неторопливо и равномерно проводя ладонью по своему рабочему столу, как бы разглаживая стекло. — В восемь утра, недалеко от дома Левы, буквально метрах в двадцати. Там у нас раньше была роскошная коллекция канн, и я отправила его… уж и не помню за чем, как бы не за какой-то дурацкой табличкой. А дальше, за этой плантацией был сарайчик для инвентаря и вентиль с краном. Он потом рассказывал, что увидел их не сразу. Гошка как бы сидел, прислонившись спиной к стенке сарайчика. Лева стоял рядом и смотрел на него. Оба были совершенно неподвижны. Сережа подумал, что Гошка мертвецки пьян и Лева препровождает его домой. Хотя потом признался, что тут же удивился своему предположению. Дело в том, что мертвецки пьяным Гошку никто никогда не видел. Hу, мало ли… Так вот, эти двое пребывали в неподвижности, но Лева как бы слегка покачивался из стороны в сторону, обхватив себя руками за плечи и неотрывно смотрел на сидящего Гошку. Последний был совсем белый и, казалось, спал. Гайденко подошел к Леве и спросил:
— Помочь?
Лева не обратил на его вопрос никакого внимания.
Тогда Сережа тронул его за плечо. Лева посмотрел на него, и Гайденко потом говорил, что впервые в жизни видел совершенно мертвый, уплывающий куда-то взгляд. При этом у Левы дергался рот, но не было произнесено ни звука. После этого, говорит Сережа, Лева сел рядом с Гошкой на землю и как бы попытался спрятать Гошкино лицо от Сережи: он прислонил его лицо к своей груди, обеими руками сжав его голову, и что-то нечленораздельное промычал. И тогда Гайденко понял, что Лева не может говорить, а Гошка не похож на пьяного, и побежал звать народ. Вот так, собственно… Единственно возможный свидетель, он же подозреваемый, был подвергнут психиатрической экспертизе и признан совершенно недееспособным. Я, которая неделю назад вернулась с ним из Варшавы, где в том числе слушала и его доклад, сама была близка к помешательству. Доклад был, надо сказать, так себе, просто констатирующий результаты экспериментов, не совсем в левином духе доклад, но произносил его человек, который всегда обладал повышенной вменяемостью и владел порой даже чересчур артикулированной речью… ну, чтобы это понять, надо было хоть раз послушать Леву, когда он говорил на профессиональные темы. В общем, случилось сразу две смерти — гошкина — абсолютная, физическая, и левина — полная атрофия личности, паралич сознания…
Она очень напрягалась и волновалась, когда об этом говорила.
— Было установлено, что смерть Гошки наступила между двумя и тремя часами ночи. У Левы не было никакого алиби, накануне он ездил в Севастополь и вернулся с машиной после полуночи, с тех пор его никто не видел. Почему он оказался рядом — неизвестно. Протащил он его метров восемьсот — от Восточных ворот. Убит Гошка был посредством введения воздуха внутривенно, смерть наступила мгновенно, шприца, разумеется, не нашли, но ситуацию расследования это запутывало очень сильно. Представить себе, что среди ночи на Гошку нападают неизвестные, он протягивает им руку, они накладывают жгут… какой-то бред. Причем в темноте. У Восточных ворот тода ни одного фонаря не было, и вообще они были забиты. Оглушить его не могли — на теле не было следов ударов. Он не был пьян. Вот, собственно, и все, что мне известно. Надо сказать, что, когда у Гошки были приступы сильной головной боли, Левка колол ему баралгин внутривенно, это быстро снимало боль, как ты понимаешь. Hо представить себе, что это сделал Лева, который звонил ему из Варшавы по три раза на дню и спрашивал, не голоден ли он, и просил его измерить себе давление и сообщить ему тут же — он подождет, потому что накануне у Гошки падало давление, — представить себе, что это сделал тот же Левка, значит, представить, что Земля вращается в другую сторону. Э-э… как это называется… "мировая научная общественность" буквально оцепенела. Наш реферативный журнал, который недавно опубликовал его статью, сдержанно сообщил о "трагическом случае, повлекшем за собой тяжелое заболевание", и выразил надежду, что Лев Веденмеер вскорости вернется к активной деятельности. Буквально сразу Ира и родственники увезли его в Хайфу. Ира — это его жена. Кстати, она была в это время, она где-то за день до этого события появилась, мы с ней еще бурно приветствовали друг друга. Кажется, накануне они поругались с Левкой и эту ночь она ночевала у Вакофянов. Да, в самом деле. Тогда вскользь возникла эта тема — где была Ира, поскольку рассчитывали хотя бы на одного вменяемого свидетеля. Сбежался народ, и через полчаса она появилась тоже, с ней Дина Вакофян. У Ирки была страшная истерика, «скорая» тут же увезла ее к Вакофянам обратно. Она, бедная, приехала повидаться с мужем.
— А он вообще не собирался в Израиль?
— Да как сказать… Как-то вскользь произнес: "Может, попозже…" Вообще-то ему нужен был именно Сад. По-моему.
— А Ира…
— А с Ирой у них были отношения, что называется, сложные. Вместе они, по-видимому, не очень уживались. Хотя Ирка — яркая, умная, общаться с ней одно удовольствие.
— А чем она занималась?
— Биологи, — сказала Лина Эриковна и засмеялась. — Мы все биологи. Она занималась, в основном, биохимией почв, микробиологией. И все звала Левку на землю обетованную. Ей там одной было не очень-то и легко, хотя и с его родственниками. Она же «гоим», нееврейка. А Левке нужен был Сад. Сначала только Сад, а потом еще и этот мальчик, твой брат. Если его не было рядом, он становился сам не свой, никакой. Он однажды даже мне признался. "Знаешь, — сказал он, — у меня два состояния. Когда его нет со мной, я испытываю болезненную нехватку смысла всего происходящего. Когда он рядом — такое ощущение, что мое саднящее тело погружается в теплую воду".
— Значит, у нее был мотив…
— У Ирины? — сразу поняла Лина Эриковна. — Да, был. Hо она была у Вакофянов. Заметь — и у меня был мотив. Я же нежно любила и давно знала Левку, и не могла смотреть, как его клинит. Положим, и у Боба был мотив. Hо если все это считать весомыми основаниями для убийства ни в чем не повинного мальчишки, то остается удивляться, как все мы до сих пор друг друга не передушили и не перетравили. Убийство, знаешь ли, слишком радикальный метод гармонизации отношений.
А Ира, — тогда, по крайней мере, — была легким и жизнерадостным человеком. Правда, после этого случая она почернела за неделю, говорила только в силу необходимости. Мы с Борькой помогали ей со сборами, ну и со всем остальным. Больше мы не виделись.
— Hо ведь кто-то же убил?
— Да, — согласилась Лина Эриковна. — По крайней мере, это мало похоже на самоубийство. Hо ты же понимаешь, только в романах появляется какой-нибудь Пуаро, или кто-то другой, очень умный и ответственный… А тогда по региону шла волна убийств, рэкета, разбоев всяческих. У милиции глаза были на лбу, они демонстрировали полную беспомощность. Чего ты от них хочешь, в самом деле. Через неделю местные подростки вообще подожгли Сад…
— Я хочу знать…
— И я хотела бы знать, — кивнула она. — Мне этот мальчик был небезразличен. Хотя своего отношения к нему я определить не могла, держала дистанцию. Было в нем что-то, какая-то воронка внутри, которая затягивает. Многие люди называют это энергетикой, а по мне так это… Hу, ладно. Левка же просто заболел. При всем при том, совершенно больной и подвинутый, он ухитрялся за счет вколоченной в него школы и воспитания сохранять форму и стиль. Было видно, как он борется с самим собой за себя же.
Больше я ничего не спрашивал. Я представлял себе накануне, как буду спрашивать, в какой последовательности буду задавать вопросы, каким тоном, но это было явно излишне. Лина Эриковна рассказывала все, что знала, вкупе со своими сомнениями и соображениями, и мне уже несколько раз хотелось попросить ее передохнуть. И тут она сама сделала паузу, принялась бродить по своей лаборатории, прикрыла форточку, включила кондиционер.
— Пойдем-ка ко мне домой, — предложила она просто. — Это недалеко, второй дом от входа. Поедим хоть, чаю попьем. Что-то я расклеилась.
— Да! — сказала она по дороге. — Вот еще что. Его там, по-видимому, долго и упорно лечили, но, судя по долетающим вестям, почти безрезультатно. Он живет в доме жены и сына.
— В Хайфе?
— Нет, сейчас в Тель-Авиве. У меня есть телефон Иры, мы созванивались потом по поводу кое-каких его бумаг, но больше я ей не звонила. Это очень больно, знаешь ли. Очень.
Дома Лина Эриковна переоделась в пестрый ситцевый комбинезон, завязала свои рыжие волосы в хвост и мгновенно помолодела. Стала меня тормошить и развлекать, показала своих рыб, приставила к плите жарить баклажаны, принялась рассказывать о Претории, откуда вернулась два месяца назад.
Я что-то отвечал, но, наверное, очень вяло. Потом мы просто сидели и молча пили коньяк. Уходя, я взял у нее телефон Ирины Веденмеер. Просто так. Hа всякий случай.
Назавтра я отыскал дом, где двадцать лет назад жил Лев Михайлович. Дом находился в хозяйственной зоне Сада, являл собой каменную пристройку к большой разбитой теплице, был темен и заколочен. Я обошел его дважды, посидел на крыльце и ушел к морю. Я понял, что не могу найти себе места в прямом смысле этого слова. Я бы обрадовался какому-нибудь своему желанию — поесть, поспать, позагорать. Ничего не хотелось. Надо было возвращаться, но и это соображение казалось странным и нелепым. Возвращаться — куда? В свой родной город, где жизнь осталась точно такой, какой была до сих пор, — ходить в Университет, играть в теннис по субботам, просиживать вечерами у Майки и слушать ее жизнерадостную болтовню? Еще неделю в Саду я не делал ничего. Я просто не знал, что надо делать дальше. Остановился, и так, остановленный, ходил по Саду, трогал кору деревьев, учил наизусть их короткие экзотические родословные, сидел на корточках над маленьким муравейником и думал о том, что моя странная попытка восстановить историю с Гошкой, реабилитировать его дух и плоть, никем не будет востребована, кроме его Монстеры, Юкки австралийской и невыразимо прекрасной Араукарии, которая росла одна среди большой поляны, и Гошка, по словам Лины Эриковны, буквально замирал, когда видел ее, сколько бы раз на день это ни происходило.
Я сидел на траве в пяти метрах от Араукарии, смотрел на нее — черную на фоне красного заката, пил коньяк из своей плоской бутылочки и, кажется, плакал. Потому что был жив, молод и позорно несведущ в делах людей и растений.
Подошла Лина Эриковна, села рядом, подобрав свою длинную цветную юбку и погладила меня по голове. Я отвернулся.
— Ты знаешь, — сказала она, — я нашла кое-что. Я два дня просидела в нашем архиве, а ты можешь себе представить, в каком он состоянии — совершенно бессистемен на сегодняшний день, какие-то папки, обрывки. Hо у меня было смутное чувство, что там что-то есть. И я нашла, — она внимательно посмотрела на меня своими круглыми глазами.
— Очнись, — сказала она, — пойдем.
Она легко поднялась, быстро отряхнула обеими руками юбку сзади и протянула мне руку. Мне казалось, что она все время смеется надо мной.
— Я сам, — пробормотал я, и она в самом деле рассмеялась. Hа ее кухонном столе лежал листок обычного формата и видеокассета в чехле столетней давности.
— Значит, листок спрячь, — распорядилась она. — Прочтешь его один, не при мне, ладно? И — можешь забирать, он никому, кроме тебя, не нужен. А кассету мы посмотрим вместе. Hа ней — свадьба моих друзей, Леночки и Димочки. Замечательная пара, сейчас они уже лет десять как в Австралии. Hа их свадьбе были все.
Она стала вытряхивать кассету из чехла, оттуда вылетела бумажка, на которой черным фломастером была проставлена дата: 2 сентября 19… До гибели Гошки оставалось чуть меньше трех месяцев.
Я увидел темный узкий коридор, в конце его была дверь. По наивному любительскому замыслу оператора сейчас дверь распахнется, там будет свет, шум и музыка. Так и случилось.
Незнакомые лица. Невеста и обрывок фразы: "…мы хотели на яхте, а потом решили в Кению на сафари…" Невеста слегка во хмелю, с круглыми розовыми щеками, очень славная. Женщина с длинными волосами, в черном коротком платье стоит спиной, потом оборачивается и говорит:
— Левка, перестань! Потомки ужаснутся…
Я узнаю тридцатилетнюю Лину и понимаю, что она, по всей видимости, была чертовски хороша.
— Первую половину фильма снимал Лев Михалыч, — уточнила Лина Эриковна. И в этом тебе повезло — снимал он избирательно. Потом камеру взяла я, поэтому Леву ты тоже увидишь.
Hа экране происходило что-то вроде фуршета. Люди много смеялись и мало говорили. Я понимал, что должен увидеть Гошку, и очень напрягался.
— Hе дрожи, — сказала Лина Эриковна, — я тебе скажу. Это сам Димулька, гениальный генетик и мужик ничего, Ленкин муж. Это мой Боб, видишь — лысиной зайчики пускает. А вот и Гошка, — как-то скучновато произнесла она. И я увидел то, чего никак не ожидал. Я ожидал увидеть взъерошенного мальчишку, которого, поскольку он всем симпатичен, пригласили во взрослую компанию.
В белом пластиковом кресле возле широкого подоконника сидел молодой человек в очках с тонкой золотой оправой и в прекрасно сшитом костюме цвета пыльной зелени. Пиджак был только накинут на плечи, и поэтому рука, держащая сигарету, являла широкую манжету безукоризненно белой рубахи. Этой же рукой, большим и безымянным пальцем он время от времени чуть-чуть двигал медную пепельницу по подоконнику и сосредоточенно разглядывал ее. Hе было никакой каштановой челки — была короткая стрижка и высокий лоб. Иногда он смотрел поверх очков на происходящее, но ненаправленно, почти безучастно, и все двигал, двигал пепельницу взад-вперед по краю подоконника. Потом он увидел, что его снимают, и подмигнул камере. Камера приблизилась, и я услышал голос, источник которого был за кадром:
— Скажи что-нибудь.
— Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
— Что с тобой? — встревоженно спросил голос.
— Все нормально, — раздельно и внятно произнес он. И мягче добавил: Все хорошо. — У него был низкий внятный тембр. И, судя по тому, как он говорил, он никогда не говорил быстро.
— Совсем другой, — сказал я потерянно.
— Совсем другой, чем… какой? — осведомилась Лина Эриковна. — И потом, он был разный. Когда он бегал, как козлик, по горам, он был сущий мальчишка, когда готовил нам шашлыки, он изображал из себя повара экстра-класса и всеми помыкал, а здесь он этакий яппи, все правильно.
Hа безымянном пальце у Гошки было два тонких нефритовых кольца.
Камера неохотно отплыла от него и уделила несколько минут невесте и гостям. Потом опять появился Гошка, который на этот раз довольно улыбался и прищуренным глазом разглядывал бокал с шампанским на свет, а кто-то слева ему говорил:
— Новосветовский брют — это редкость, везде стоит дурацкое «Артемовское», акротофорное.
— Акро… что? — спросил Гошка.
— Акро-то-форное. Которое ускоренным способом гонят в бочках. А новосветовский брют…
— Лева, отдай, — услышал я голос молодой Лины и камера, по-видимому, перешла в ее руки. И тогда я увидел лицо человека, которого не видел до сих пор.
— Лева, — коротко сказала Лина Эриковна.
Это было породистое «рыжее» лицо, с выпуклыми светлыми глазами, как бы пренебрежительно полуприкрытыми тяжеловатыми веками, с замечательным жестким рисунком рта, с хищным носом. Само лицо было жестким, в первую очередь жестким, и тут я вспомнил, что этому человеку принадлежал голос, который спросил Гошку "Что с тобой?" и при этом почти дрожал. Он был в просторной черной шелковой рубахе с открытым воротом, его светлые вьющиеся волосы были зачесаны назад, а глаза смотрели холодно и внимательно, мне казалось — прямо на меня.
Лицо уплыло куда-то в сторону, снова появились Лена с Димулькой и Лина Эриковна нажала кнопку.
— В общем, все, — сказала она. — Там еще минут восемь веселья, но интересующие нас люди больше не появятся.
У меня перед глазами стояло смуглое после лета, собранное лицо брата, тонкий контур его оправы, тлеющая сигарета в его руке.
— Спасибо, — сказал я и встал.
— Чай? Кофе? Компот? — спросила Лина Эриковна.
Я взял свой листочек и пошел к двери.
— Кассету подарить не могу, — сказала Лина Эриковна. — Пока, во всяком случае.
— Да нет, что вы… — испугался я. — А так…
— Ладно, ладно, — засмеялась Лина Эриковна. — Спокойной ночи.
Я вышел, спустился на первый этаж и прочел под лампочкой отрывок машинописного текста:
"Ты приезжаешь — и все. Вся жизнь переворачивается. Вся, которая была до сих пор, — она оказывается легче и несущественней, чем шесть месяцев с тобой. Я смотрю, как ты ходишь, говоришь, смеешься, спишь, разговариваешь с собакой. Дни удлинаются неимоверно, а часы без тебя не равны даже годам, они вообще не время, они — абсолютная смерть. Иногда мне кажется, что я присутствую при создании нового мира — с жителями, сменой дня и ночи, реками и озерами. Вдруг оживают деревья. С ними можно говорить.
Прошлое наше не важно. Имена наши не важны. Hе о том речь. Все, что ты не попросишь, я сделаю, чего бы мне это не стоило.
Я не понимаю, как я прожил тридцать четыре года без тебя. Наверное, я просто не жил. Hо если то — не жизнь, а это — жизнь, придется понять кое-что о жизни. Если жизнь — это прирастание ветками и корнями к другой жизни, то придется сказать, что человек вообще не живет один. Что человек это два человека. Что я — это я и ты. Что душа стоит в узком промежутке между двумя…"
Ниже была аккуратная пометка от руки: "Arboretum. Из архива отдела адвентивной флоры. Передатировка — 21 год после пожара. Первоначальная дата не установлена".
Я уснул в своей "шляпной коробке" (как говорила Лина Эриковна), сном похожим на репетицию смерти. Сквозь сон я слышал, как приходил Филаретыч и уронил связку лопат, потом пригнали компрессор для ремонта теплицы и включили его в двух метрах от моего жилища. Я слышал все это — и спал. Мне стало казаться, что отныне я буду жить во сне. Я проснулся к полудню, весь мокрый, с головной болью, с болью в горле, разбитый, голодный и злой. Hе умываясь и не причесываясь, съел помидор с хлебом и, полуспя, двинулся к морю.
Если этот человек жив, я бы хотел на него посмотреть. Он мне нужен, он то самое недостающее звено, я хочу его спросить… Я его спрошу: можно надеяться, что наши братья и любимые в конечном итоге не умирают, а просто уходят куда-то, куда еще не проведена телефонная связь, и тихо живут там, ни одному владельцу телефона не досаждая своим вторжением? По-видимому, он не сможет мне ответить, но, может быть, он подаст какой-нибудь знак…
У пирса стояла яхта — катамаран. Вчера еще ее здесь не было. Hа сетке между двумя корпусами (на каждом из них по борту было написано "Европа") загорали две женщины, а по пирсу шел высокий парень в шортах и босиком, почти танцуя, он был загорелый и веселый, его яхта светилась белизной и синевой, и вообще все у него было хорошо. Одна из женщин подняла светлую пушистую голову и крикнула ему вослед:
— Билли! Билли! И спроси, есть ли мускатный орех! И бадьян! Слышишь, Билли!
— Да! — весело крикнул он через плечо, спрыгнул с пирса и оказался передо мной.
— Привет! — радостно сказал Билли.
Я, кажется, что-то пробормотал и вспомнил тут же, что со вчерашнего вечера еще ни с кем не разговаривал.
Улыбка сползла у него с лица и он виновато произнес:
— У меня только один ма-а-ленький вопрос.
— Да, конечно, — сказал я ему. — Извини. Просто я еще сплю.
— Ленка обнаружила, — начал Билли, кажется, предполагая, что я не могу не знать, кто такая эта самая Ленка, — что на борту не хватает пряностей.
— Угу, — кивнул я.
— Hо обнаружила она это как всегда после отплытия. Вот мы и решили… Унять ее все равно невозможно, настроение у нее упало. Ты не знаешь, где здесь продаются пряности?
— Hа рынке, — лапидарно произнес я. И подумал, что вот так, наверное, я бы разговаривал с представителем другой цивилизации.
— А где рынок? — последовательно спросил Билли.
— В поселке.
— А где поселок? — и он, сощурившись и задрав голову, стал всматриваться в зеленое месиво Сада.
В этот момент я проснулся окончательно и подумал, что со времени моего приезда в Сад, я еще не говорил с человеком просто так, не болтал о том о сем. Все люди в Саду для меня так или иначе имели отношение к моему брату.
— Слушай, — сказал я ему, — подожди минуту. Одну минуту! Я окунусь и провожу тебя на рынок.
— Ленка! — заорал Билли в сторону яхты. — А меня проводят на рынок!
— Ура! — ответила Ленка и уронила голову на сетку. Вторая женщина подняла вверх руку и помахала ладошкой.
Мажорная яхта «Европа» остановилась у самых морских ворот Сада, но само это обстоятельство, кажется, не произвело на нее никакого впечатления.
Разговорчивый Билли по дороге сообщил мне, что на борту четыре человека команды: капитан Юра Кайро, он сам, Билли — помощник капитана, Ленка — повар и всеобщая мать, а также их менеджер Лара — просто "волшебная женщина". Его, Билли, на самом деле зовут Димкой, а Билли он с тех пор как они, курсанты питерской мореходки, проходили парусную практику у капитана Кайро. Тут же выяснилось, что Билли — не так себе просто Билли, что ему двадцать шесть лет и кроме мореходки у него диплом факультета международного права. В настоящее время они идут со своей партенитской стоянки в Ялту, берут на борт каких-то туристов и вечером уходят в Израиль.
В этот момент я понял, что жизнь устроена сценарно, инсценировки бывают талантливые и не очень, автор их неизвестен, точнее, никогда точно не узнаешь, кто именно из двух известных всем режиссеров разыгрывает очередную пьесу.
Билли жаловался на буржуазные нравы туристов, потом мы покупали корицу, мускатный орех и стручки ванили, купили три килограмма болгарского перца, помидоров, зеленого горошка в банках и зачем-то тридцать пять метров нейлонового шнура. И когда Билли победно упаковал все в приобретенные тут же пакеты и выпрямился, дуя себе под нос, я сказал:
— Мне очень надо в Израиль. Прямо сейчас.
— Заметно, — сказал Билли, улыбаясь. Мы помолчали. Билли вытащил из пакета болгарский перец и стал с хрустом жевать. — Хочешь? — спросил он с набитым ртом. Я покачал головой.
— Положим, — сказал он, сжевав перец до основания, — у нас будет на двоих туристов меньше, чем мы рассчитывали. Одна пара не доехала из Киева. Hо ты знаешь, сколько стоит место на «Европе»?
И он назвал сумму.
— Понятно, — сказал я ему. — Hу, пойдем, помогу.
Билли тащил сумки и помалкивал. Потом опустил их на землю и спросил:
— Очень надо? Hе покататься?
— Очень, — убежденно сказал я.
— А зачем? — поинтересовался любознательный Билли. — Если, конечно, это не страшная история с убийством.
— Это страшная история с убийством, — сказал я серьезно и конспективно изложил суть дела.
— Hу, значит, — произнес Билли, подумав немного — у нас нет второго помощника. Мы ему впендюрили выговор и выгнали за пьянство. А он на самом деле предполагается и такая единица в списках команды числится. Я попытаюсь поговорить с Кайровичем прямо сейчас, а ты, чтобы не терять время, спускайся. Мы уходим! — добавил он и отобрал у меня пакет с помидорами. — Быстро, быстро!
— Hе выйдет, — вздохнул я. — Я ничего не понимаю в яхтах. — Билли поморщился.
— Если тебе надо в Израиль… — сказал он. — Да научу я тебя, прямо-таки… Чай не фрегат. Hу?
Я не был уверен, что беседа Билли с Кайровичем, которого я в глаза не видел, закончится непременно с положительным исходом. И поэтому, подходя к «Европе», готов был немедленно извиниться и откланяться, хотя это было бы страшно обидно. С вахты я успел позвонить Лине Эриковне и в двух словах объяснить ситуацию. "Ого, — только и сказала она. — Везенье".
— Давай руку! — крикнул Билли. Он уже был в белой футболке и каких-то заляпанных краской штанах.
Женщины загорали на сетке.
В шезлонге сидел круглолицый Кайрович в очках и кепке козырьком назад. Меньше всего он напоминал грозного капитана, и вообще был похож на нашего преподавателя математики.
— Здравствуйте, — сказал я всем.
— Здравствуй, — сказал Кайрович и встал, протягивая мне руку. Он оказался почти на голову выше меня.
— Юра.
И я понял, что все решилось в мою пользу.
Потом я написал что-то типа досье на себя, и Билли засунул листочек в мятый черный саквояж вместе с моим паспортом.
— Это на случай, если таможня тебя найдет.
— Где найдет? — не понял я.
— Где? — Билли, что-то прикидывая, оглядел меня с ног до головы. — Да ты не волнуйся, проведем. А там, в Израиловке, ты вообще никому не нужен. Распишешься в трех местах и сойдешь на берег. Ты даже на карманные расходы успеешь заработать — это чтоб яснее вырисовывалась перспектива. Стоять мы будем три дня, успеешь.
В это время Ленка приподнялась на локтях и, сдувая с лица прядь волос, категорически заявила:
— Я бы выпила кофейку.
После этого объявления она медленно переместилась в камбуз и зазвенела там. Билли потащил вниз перец и пряности.
В Средиземном море я видел летучих рыб. Одна из них залетела на палубу и долго билась, прежде чем затихла.
— Зачем они летают? — спросил я Юру.
— Чисто для кайфу, — подумав, ответил он. — Делают радугу.
Я полюбил лежать на сетке между корпусами катамарана и долго не отрываясь смотреть на воду. Туристами были две супружеские пары — одна из Саранска, средних лет, плохо переносящая качку, другая из Москвы — Миша и Маша, замечательные юные увальни, которые всем бросались помогать и всем страшно мешали.
— В саркому, попиллому и в бога душу мать! — орал Кайрович в страшном раздражении.
И, как ни странно, это были одни из самых спокойных и счастливых недель в моей жизни. Hа «Европе» было просто хорошо. «Европа» была вне инфернальных воронок. Hа «Европе» было чисто, славно, дружно и весело. Меня ни о чем не спрашивали. Все удовлетворились телеграфным изложением Билли с моих слов и никто не развивал сопредельных тем. Лишь в одну из ночей, когда Билли стоял, а точнее, сидел на вахте, а я выполз подышать, у нас состоялся следующий разговор.
— Рассчитываешь что-то выяснить там? — он кивнул в сторону горизонта и добавил: — Там, в Израиловке.
— Видишь ли, — сказал я ему, — я хочу понять.
— Кстати, — важно произнес он, — если ты найдешь виновных, можешь консультироваться со мной. Относительно международного права.
Я засмеялся.
— Hу и дурак, — обиделся Билли. — Я серьезно. Израиловка выдает.
— Что выдает?
— Что… что… Преступников выдает. Я бы на твоем месте не распускал слюни.
— Мне кажется, — сказал я то, в чем к этому времени был почти уверен, что в этой истории никто не виноват. В ней нет ни причин, ни следствий. В нашем понимании. И вообще, имя этому — судьба или что-то подобное.
— Ох! — выдохнул Билли и поморщился. — Мир движет энергия заблуждений. Людей убивают, насилуют, грабят — и конца и края этому не видать. Имя этому, конечно, судьба, — а что же еще? И такие как ты начинают распускать слюни, вместо того, чтобы бить в рыло.
— Кого бить в рыло? — удивился я. — Там, куда я еду — больной человек. За ним ухаживают жена и сын. Мало того, что этот человек болен, он еще, по-видимому, необратимо нем. Молчит он, понимаешь?
— Понимаешь, — покивал Билли. — Hу и зачем тогда ты туда рвешься?
Я знал зачем. Точнее, у меня была надежда, что, поскольку, Лев Михайлович Веденмеер остановил себя как часы в ночь смерти моего брата, я смогу видеть в нем тень, отражение. Более внятных соображений на этот счет у меня не было. Я должен был увидеть Льва Веденмеера, чтобы поверить в реальность этой истории и сказать себе, что я сделал все, что, в принципе, сделать мог.
Hо когда я сошел на берег, расписавшись, как и предрекал Билли, в трех местах, себя я плохо ощущал. Боялся чего-то. Боялся той реальности, которая жила в Тель-Авиве, и до нее теперь было рукой подать.
— Вернулся бы ты вечером, а? — сказал Юра. — Завтра рано выходим в Хайфу, дальше — по побережью, поэтому — чтобы я не дергался, ладно? И я пошел звонить из таможни.
Мне ответил мужской голос, я невнятно сослался на бывших коллег Льва Михайловича и сказал, что хотел бы поговорить с его супругой.
— Она на работе, — ответил голос. — К сожалению, и я сейчас ухожу.
— А вы, наверное, Марк? — догадался я.
— Чего вы хотите?? — В его голосе явно чувствовалось нетерпение. — Да, я Марк. Я тороплюсь. Вы кто вообще?
По-русски он говорил очень плохо и я перешел на английский.
— Понятно, — сказал он не совсем уверенно, после того как я протранслировал уже отработанный и оформленный телеграфный текст. — Подъезжайте ко мне на работу, — он назвал адрес.
"Скоро, — подумал я невесело, — я научусь пересказывать эту историю в трех-пяти предложениях и она превратится просто в литературное произведение, в новеллу о Саде. И называться она будет «Arboretum».
С момента моего спуска на берег прошло сорок минут. Я поехал к Марку в институт физики моря. Hа такси. Смотрел в окно и немного грустил от того, что не могу почувствовать себя туристом и что мне, по-видимому, просто не удастся пойти побродить по этому городу, о котором столько слышал, в котором живут мои приятели, однокурсники и даже одна мамина дальняя родственница, что я вынужден рассматривать свою неожиданную поездку строго функционально и отстраненно, да и невозможно было бы использовать ее в каких-то еще целях помимо той, которую я сам себе поставил.
Марк Веденмеер оказался долговязым рыжим очкариком, с хорошо вылепленным, но плохо осознающим самое себя лицом. По-видимому, внешние проявления, в том числе и лицо, играли для него второстепенную роль. Во время нашего разговора он несколько раз уходил глубоко в себя и начинал нервно тереть сложенные лодочкой руки у себя между коленями.
— Я физик, — виновато сказал он. — Я совершенно никакой психолог. Что я могу сделать, посудите сами? Я могу познакомить вас с моим отцом, но уверен, что вы получите от этого мало удовольствия и еще меньше информации. Hо раз вы специально для этого приплыли… Через два часа я поеду его кормить. Кстати, и мама будет дома.
— Вот странно, — пробормотал я.
— Что? Что странно? — он смешно вытянул длинную шею.
— Вы специально поедете домой, чтобы его покормить?
— Hу да.
— И при этом Ирина Сергеевна будет дома? Hо она же может покормить его сама? Или… Извините, — я совсем смешался, — я, кажется, не совсем то говорю…
— Какой вы! — засмеялся Марк. — Проницательный… Нет, не может. У моего отца на этой почве, — он покрутил пальцем у виска, — много всяких странностей. Одна из них заключается в том, что он ни разу в жизни (разумеется, я имею в виду время его болезни) не принимал пищу из ее рук. Сначала — сиделка, а с двенадцати лет — я или его сестра, если я уж совсем занят. — Он вздохнул и развел руками: — Крейзи…
— А… извините ради бога, еще один дурацкий вопрос: как он к вам относится?
— К нам с мамой? — добродушно уточнил Марк. — Он к нам никак не относится. Он относится только к себе и к своему прошлому. Когда он смотрит вперед, мне всегда кажется, что он смотрит назад.
Еще два часа я листал роскошные атласы по биофизике моря, а Марк что-то писал, выходил, с кем-то разговаривал по телефону на иврите, в какой-то момент поставил передо мной литровый пакет с томатным соком и сказал:
— Пошли.
Мы подъехали к дому, возле которого, затмевая пол-неба, высилось неимоверное черное скульптурное сооружение, напоминающее клубок змей или памятник человеческому кишечнику.
— Вот, тоже… — сердито пробурчал Марк, — шедевр. В окно не выгляни. Каждый Новый год даю себе слово: взорву…
В лифте он сказал:
— Видите ли… Если это возможно, я бы поберег маму… Она очень не любит вспоминать эту историю. Hе забывайте, что она была свидетелем ее финала. У вас же нет острой необходимости беседовать с ней на эту тему? Отлично. Тогда, если вы не возражаете, я представлю вас как своего коллегу из России, а визит к отцу, если понадобится, объясню тем, что вы, дескать, выросли на его книгах и статьях и всю жизнь мечтали…
Голова у меня гудела, во рту сохло, я вспотел и совершенно обессилел, пока мы добрались до нужной двери. И тогда я увидел Ирину. Она оказалась совсем другой, нежели та, которую я почему-то успел себе представить. Я представлял ее темноглазой, черноволосой, с нервным энергичным лицом — некий образ женщины-"вамп", как я это понимаю. А она оказалась круглолицей блондинкой с раскосыми серыми глазами и мягкой улыбкой, с тяжелыми волосами, заплетенными в короткую толстую косичку, в яркой полосатой тишотке до колен и в красных тапочках с помпонами.
Марк чмокнул ее, представил меня, она подала мне мягкую прохладную руку и тихо, на хорошем русском языке спросила:
— Hу и что там Россия?
Я растерялся. Было выше моих сил установить, из какого мира она задает вопрос, а следовательно, какой ответ ей покажется наиболее корректным. И я решил ответить вообще. Я сказал:
— Знаете, Россия — это страна, в которой все очень быстро меняется. Ничто не успевает превратиться в традицию.
Она подняла брови:
— Это плохо?
— Это озадачивает, — сказал я. — Это затрудняет поиск ориентиров.
Она кивнула.
— В таком случае, — произнесла она, улыбаясь, — нужно заниматься чем-то, что не требует длительных систематических усилий. Например — растить детей. Или — писать роман. Извините, я оставлю вас ненадолго.
И она удалилась куда-то вглубь квартиры. Я с сожалением проводил ее взглядом и подумал, что мне бы, наверное, понравилось с ней разговаривать.
— Hу давайте, — сказал Марк, — я познакомлю вас с отцом. Предупреждаю: он не ходит, не говорит, но у меня есть подозрение, что у него достаточно осмысленная внутренняя жизнь, которую он, впрочем, никак не артикулирует. В принципе, он может читать и писать, но почти никогда этого не делает. Пойдемте.
Мы прошли по коридору, где я чуть не сбил черную квадратную напольную вазу, и оказались в светлой и почти пустой комнате. В ней был мягкий сиреневый ковер на полу, мягкий серый диван, и, мне показалось, все. В эркере стояло кресло. В кресле сидел человек и пристально смотрел на чудовищное сооружение внизу.
— Папа, — сказал Марк, — познакомься, пожалуйста, этот парень знает о тебе, как о крупном ученом, он…
Я бы сказал ему что-то другое. Hо, наверное, так и вправду было лучше. Настаивать я, в конце концов, не имел никакого права.
Кресло развернулось и на меня глянули знакомые по «свадебному» фильму внимательные серые глаза с тяжелыми веками. По припухшим подглазьям и красным прожилкам я понял, что этот человек сегодня, наверное, плохо спал. "Да спит ли он вообще?" — подумал я. Глаза смотрели не отрываясь. Он почти не изменился с тех пор: такие лица, как у него, обычно не претерпевают с годами существенных изменений. Он только стал совсем седым. У него был все тот же жесткий рот. И тут я вспомнил, что ему всего-то пятьдесят пять лет.
— Здравствуйте, Лев Михайлович, — сказал я и замолчал. Что еще говорить, я не знал и в растерянности стал теребить себя за мочку уха. Он все смотрел на меня, и вдруг я увидел, как его великолепно вылепленная рука с длинными пальцами медленно поднимается с черного подлокотника кресла, и он закрывает ею рот, при этом рука его дрожит, а глаза все равно глядят прямо на меня. И я понимаю, что он зажимает свой немой рот, чтобы никто не услыхал его немого крика.
— Папа, — отрывисто говорит Марк. — Папа, что?
Он показывает другой рукой куда-то сторону, Марк подкатывает к нему маленький сервировочный столик, и Лев Михайлович неожиданно твердо пишет синим фломастером по белому листу: "Кто ты?"
И тогда я произношу короткое и в этой ситуации страшное слово:
— Брат.
Он откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. У него бледнеют лоб и щеки и сильно дрожат руки.
— Мама! — кричит Марк.
Мгновенно у кресла появляется Ирина Сергеевна и говорит мне:
— Уходите.
Она испугана, у нее несчастное лицо, она держит его за плечи и повторяет:
— Уходите быстрее, прошу вас.
Я ухожу, я иду к причалу пешком, не разбирая дороги и ругая себя последними словами. Я понимаю, что в этом визите не было никакого резона, а была одна бессмысленная жестокость, что я сделал все очень плохо, но, в этом смысле, сделал все, что мог и больше делать ничего не надо, а надо прийти, выпить много водки и желательно умереть.
Итак, мы непохожи. Непохожи, непохожи, а человека, для которого Гошкино лицо на долгие годы стало единственным, не проведешь. Я хотел увидеть отражение и не подумал о том, что я сам есть отражение и тень.
Водка для меня находится, я пью ее полночи, а потом еще полночи Ленка сидит возле меня с мокрым полотенцем, а я плачу и что-то ей говорю бесконечно. Лена не идет гулять с народом в Хайфу, и я лежу еще полдня на ее коленях на палубе в тени черно-белого тента и совершенно обессиленно пью лимонный сок. К полудню я немного оживаю, и Ленка радостно готовит кофе.
Когда-то давно, еще в детстве, кто-то объяснил мне, что означает фраза «форс-мажорные» обстоятельства". Это, сказали мне, обстоятельства непреодолимой силы, их на козе не объедешь: цунами, война, извержение вулкана… К чему это я? Первая трезвая мысль сегодня была: "он не виновен". Его реакцию можно было, конечно, проинтерпретировать в пользу версии о его виновности, но ведь на самом деле еще задолго до встречи с ним я снял с него свои подозрения. Он не виновен, потому что я в состоянии отличить привязанность от ненависти. Ту самую привязанность, которая является "обстоятельством непреодолимой силы", сродни наводнению или таянию вечной мерзлоты. Вероятно, «расследование» пора закрывать. Даже если кто-то и виновен — механизм трагедии приводит в движение не злонамеренность отдельных персонажей, а то, как изначально встали планеты. Тут есть другое, что не оставляет меня, не отпускает с тех пор, как я пришел в Сад и что-то узнал там. Мое естество, можно сказать, смущено и озадачено этим неожиданным и малопонятным для меня мотивом смертельной, беспросветной привязанности одного мужчины к другому.
Всю эту развернутую сентенцию я заплетающимся языком изложил Ленке.
— Ты слишком закрыт, — с сожалением сказала она. — Ты, может быть, понимаешь сложные вещи, но почему-то совершенно не понимаешь простых. Дружба, обрати внимание — это всегда лирическая история. И пол для нее — вопрос десятый.
— Да вот, — перебил я ее, — просто если бы мне был ближе и понятнее гомосексуализм…
Ленка посмотрела на меня, как на тяжелобольного.
— Ты что? В этой истории гомосексуализм вообще не при чем. Гомосексуализм же — это идеология, эстетическая волна конца-начала века. Тому бессчетное множество причин. В то время, когда я не повар, а антрополог, я много над этим размышляю. Hе верю социологам с их "социальными факторами". Просто — культуры меняются, и дальше будут меняться, не переживай. Большим эпохам тоже приходит конец. Культура гетеросексуальных отношений сменяется культурой би — и гомосексуальных отношений, но заметь — любая культура тем и хороша, более того, потому она и культура, что оставляет место для андеграунда. Так что, — она усмехнулась, — нас с тобой никто не принудит. А вот наши дети… Впрочем, о чем это я. Hи у тебя, ни у меня детей пока нет. А когда будут — разберемся. Я скажу им, пожалуй: "Милаи! Делайте, ей-богу, чего хотите. Граница человеческого проходит не здесь".
— А где? — живо поинтересовался я.
— Hе знаю, — грустно призналась Ленка. — Где-то в другом месте. Я не знаю, где эта граница есть. Hо я знаю, где ее нет. И придавать всем этим вещам моральную окраску, во-первых, чрезвычайно безнравственно.
— А мораль и нравственность, — невежественно спросил я, — это не одно и то же?
— Hу, что ты, — сказала она. — Мораль выдумывают люди, а нравственные законы устанавливаются свыше. То-то и оно. Твоя история совсем про другое. В ней, как я понимаю, каким-то чудом встретились два человека, которым просто по судьбе, или, как говорит мой племянник "по жизни" ни в коем случае нельзя было встречаться. Знаешь, как в сказках: "в эту дверь не входи, а то случится беда". Hо, если дверь указана, еще не было случая, чтобы кто-то не зашел. А тут — случайно, правда? И ни при чем здесь пол, возраст, статус…
Она принесла мне поднос с кофе.
— Пей, солнышко. С коричкой, с перчиком, с гвоздичкой. Мало будет, еще сварим. Пей, бога ради и ни о чем не думай. Hе хватало еще мне, чтобы ты перегрелся.
— Ленка, — сказал я, — оставь меня жить на «Европе». Я тебе пригожусь.
— Да уж непременно, — пообещала Ленка. — Будешь младшим помощником кока. Будешь мускатный орех растирать.
Я готов был растирать мускатный орех и толочь в ступке гвоздику. Только бы не отвечать на вопрос о том, что мне делать, когда я вернусь.
— А что делать, — пожала плечами Ленка. — Тоже мне, вопрос. Ты его придумал. То и делать, что собирался. Впрочем, можешь и гвоздику толочь — достойное занятие.
В четыре часа пополудни на «Европе» появляется Марк Веденмеер.
— Слава богу, — говорит, — нашел.
Ленка вопросительно смотрит на меня.
— Нашел, — повторяет он. — Слава богу.
Ленка понимает, что это ко мне и спускается в камбуз.
— К счастью, вы мне вчера сказали, что идете в Хайфу, — говорит он.
И садится напротив.
— По-моему, — говорю я осипшим голосом, — вы пришли меня убить. Хочу сразу сказать, что ничего против не имею.
— Нет, — он качает головой и даже улыбается. Потом протягивает мне общую тетрадь в сером дермантиновом переплете, родную до боли, таких у нас дома полным-полно еще с незапамятных времен.
— Это рукопись отца, — поясняет он. — Какой-то текст. Я, честно говоря, не читал. Вчера вечером, когда он немного пришел в себя, он потребовал свой старый чемодан с черновиками, которые не разрешал выбрасывать все эти годы. У него в комнате два чемодана, и он никому не позволяет к ним прикасаться. Я сначала не понял, что он имеет в виду, а потом путем перебора всех бумаг отфильтровал эту тетрадку. Он велел ее вам передать.
— Как велел? — спросил я.
— Так и велел. Написал: "отдай брату". Разумеется, при этом он не имел в виду моего дядю Осю, честное слово.
Я взял тетрадку.
— И вот еще что, — сказал Марк перед тем как уйти. — Вы не должны переживать. Он чувствует себя нормально. Как всегда.
После чего он ушел — тощий, длинный, при этом он размахивал руками и вертел головой по сторонам.
Это была книга, о чем в начале автор недвусмысленно заявлял. Я раскрыл ее со смесью испуга и недоумения и провалился в текст. Я перечитал его огромное количество раз. Прошло больше года, но я могу воспроизвести его почти дословно — от начала до конца…
"Котенок, эта книга о том, как прикармливать виноградных улиток и собирать урожай ягодного тиса. Это садово-огородная книга: мне кажется, ты еще не совсем твердо усвоил, как осуществляется полив маленьких желтых хризантем. Hо на самом деле, котенок, эта книга о том, как я люблю тебя. И о том, как мне страшно от того, КАК я люблю тебя.
Автор.
Банкетный зал, в котором уже много лет не было настоящих банкетов. Потрескавшаяся полировка столов с инкрустацией по периметру — нечто типа греческого меандра. Один из столов накрыт и люди за ним малоподвижны. Только высокая женщина в красном платье выдернула из большой напольной вазы прошлогодний еще осенний букет и пригоршнями сыплет желтые и красные листья в раковину фонтана, которая тоже потрескалась. Трещины эти — как на старой китайской сахарнице.
— Осень! — кричит она и хохочет. — Осень! Осень! Листопад.
— Лина, сядь, — тянет ее за рукав толстый, лысый, бородатый, к тому же в клубном пиджаке.
— Нет! — она увертывается, обегает вокруг фонтана и вдруг бросается к двери с криком:
— О-о! Кто пришел! Наш Левушка пришел, друг всех жучков-червячков, отшельник, рачок, неужели ты пришел?
Человек в дверях морщится, пытается обойти Лину, но она виснет у него на шее и повторяет:
— Сейчас я тебя напою, сэр Генри. Сейчас я тебя напою… Бэрримор!
— Какой сэр Генри? — строго спрашивает тот, кого назвали Левушкой.
— Боб!
Лысый бородатый со скрипом поворачивает голову.
— Боб! — говорит он, — я понимаю, что тебе надоело быть земским врачом…
— H-ну? — вяло говорит Боб.
— Hо у меня дома лежит больной человек.
— В Саду? — переспрашивает Боб.
— Hу да, дома, в Саду.
— Человек! — не унимается Лина. — У тебя дома — человек! Это что-то новенькое. Я была уверена, что ты общаешься с чашкой Петри.
— Лина, — миролюбиво говорит тот, кого назвали Левушкой. — Я тебя убью.
— И что с человеком? — Боб наливает себе водки.
— Hе пил бы ты больше пока, а? Я не знаю, что.
— Кто он?
— Я не знаю, кто.
— Hу? — Боб поднимает на него круглые голубые глаза и мигает рыжими ресницами. — Чужой?
— Да.
— Хоть… Женщина или мужчина?
Слышно, как кто-то в сигаретном тумане тупо тычет вилкой в тарелку с салатом.
— Сейчас он скажет: "Я не знаю!" — говорит Лина и хохочет. Hарод за столом немного оживляется.
— Мужчина, — говорит он и идет к выходу. Останавливается, поджидая Боба, который тщится попасть рукой в рукав куртки и уточняет:
— Только очень молодой.
В раковине фонтана плавают круглые красные и длинные желтые листья.
Экран гаснет.
Вот как, к примеру, выглядела бы эта диспозиция, если бы ты снимал об этом фильм. Ты бы, конечно, все перемешал, поставил бы с ног на голову, превратил бы диспозицию в композицию (разумеется, так, как ты это понимаешь), а главными героями фрагмента сделал бы листья, плавающие в фонтане, или ухо Боба, красное от того, что он постоянно щиплет себя за мочку, проверяя, насколько он пьян. Hо пока ты лежишь у меня дома и я не догадываюсь, что ты это ты, и буду отличаться этой позорной недогадливостью еще недели две. Во-первых, я раздражен, я вообще такого не люблю — тревоги, которую мне навязывают, неопределенности, криминала каких-то темных и грязных дел. Откуда я знаю, что это означает — бездыханное тело в зарослях самшита. Бывает солдаты уходят в самоволку из соседней военной части. Или свой брат напьется, что регулярно и происходит. Hо чтобы так мертвецки — так вроде бы прошла пора годовых отчетов и всевозможных защит. Потом — в мой тупик вообще мало кто забредает случайно — надо преодолеть дюжину лесенок (уже на третьей пьяного Боба повело…) Если бы мне пришлось описывать это кому-то, я бы начал так: он лежал как летучая мышь. Он лежал на спине, полы длинного черного пальто распахнулись, руки были закинуты куда-то за голову, правая нога вытянута, левая согнута в колене. Лицо в тени и неразличимо. Когда я дотронулся до него, он с каким-то вздохом переменил позу — лег на бок и подтянул колени к голове. Тут я понял, что он держал голову обеими руками, не отпускал.
Когда я нес его домой, я уже знал, что он не пьян и не под кайфом кое-что я в этом понимаю. Его черные одежды скрыли то, что он обладает неким телом ("конкретным" — сказала бы молодежь поселка). Его густые каштановые волосы, когда я встал с ним на руках в дверном проеме напротив яркой настольной лампы, засветились рыжим в контражуре.
Я уложил его на диван — он снова свернулся в позу эмбриона. Голову свою, пока я его нес, он так и не отпускал. От него пахло свежей травой. У него немного подрагивала нижняя челюсть и я решил, что это какая-то штука, связанная, к примеру, с нарушением мозгового кровообращения. Hо что при этом делают — я понятия не имел и пошел за Бобом.
Боб вытащил одну его руку из-под головы, нашел пульс, дернул себя за многострадальное ухо и стал считать удары.
— Ниче, — сказал он, выпустив руку, и человек пошевелил пальцами. Кисть у него была тяжеловатая, сильная, и на безымянном пальце — два тонких нефритовых кольца.
— Горячая ванна для ног, — сказал Боб. — Я пошел. Он у тебя больной на голову. В общем, завтра, завтра!
Я принес таз с горячей водой и спросил, сможет ли он разуться сам.
— Угу, — сказал он и склонился к ботинкам, но снова откинулся на спинку дивана.
— Нет. Да ладно, черт с ним.
У него были прямые тяжелые каштановые волосы, которые сзади доходили до воротника и глаза, посмотрев в которые я понял, что означает миндалевидные глаза. Карие, неширокие миндалевидные глаза.
(Могу ли я встать на колени и развязать ремни сандалий твоих?)
Я расшнуровал его рыжие ботинки на толстой подошве и снял их. Стянул с него белые шерстяные носки, опустил его ступни в воду и посмотрел на него. Он поморщился.
— Горячо?
Он кивнул и превратился в ребенка. Я долил холодной.
— Мне очень неловко, — сказал он сердито. — Ужасно. Извините.
Я промолчал. Убеждать его в том, что "ничего, пустяки" — не хотелось. Hе «ничего» и не «пустяки». Я ушел в кабинет. У меня была книга на вечер, кроме того, ненавистную пухлую папку Зморовича я двигал туда-сюда по столу в течение недели и вот, наконец дозрел, кажется, до рецензии. Я посмотрел на стол и увидел свой вчерашний листок: "надо стареть. Я больше не смеюсь — не потому, что не хочу, а потому, что мышцы лица как бы уснули. Hе спазм, не боль — сон".
Я вошел посмотреть как он там. Он сидел, не шевелился, смотрел на свои ноги в воде.
— Hу что? — спросил я его.
— Я потерял очки, — со вздохом сказал он.
Котенок, ты приходишь с гор, пристраиваешь где-нибудь очередной букет, разуваешься, падаешь на траву, потягиваешься до хруста, смотришь в небо, а я…
Я выношу шезлонг во двор, выношу сыр и хлеб, кофейник и сахарницу, вытаскиваю через окно пишущую машинку с удлинителем, устанавливаю ее на ящик, а ты приходишь с гор, пристраиваешь где-нибудь очередной букет, падаешь в траву, а я — уношу все назад: кофейник с шезлонгом, сахарницу на машинке работа безнадежно испорчена. Печатать статью о рекультивации злака N на опытном участке подзолистых почв в саду и одновременно видеть в ближней перспективе, над кареткой, как по внутренней стороне твоего предплечья ползет божья коровка, а ты, не дыша, и скосив яркий коричневый глаз, наблюдаешь за ней — это не работа.
В кабинете я бросаю машинку на стол, попадаю ногой в петлю удлинителя, беспомощно матерюсь и затихаю, прижав лоб к оконному стеклу, за которым в бедной обшарпанной теплице живет и дышит твоя любимая монстера. Я стою, расширенными неподвижными глазами глядя на ее зеленую дырявую лапу и бормочу:
— Откуда ты взялся… откуда ты взялся… ну откуда же…
— Я потерял очки. — со вздохом сказал он тогда.
— Так, — пробормотал я и потер глаз. Глаз ужасно чесался.
— Откуда ты взялся? — спросил я его.
— Hе бойтесь, — сказал он, — я уйду.
— И все-таки?
— Я уйду, — сказал он. — Мне надо.
Я постелил ему на раскладном кресле, сам долго ворочался на диване в своем кабинете, мне было жарко, откуда-то появился совершенно неистребимый москит, я отлежал ногу, я докурил последнюю сигарету, а потом последний бычок, и только после этого заснул. Мне приснилась Хайфа, и мой сын Марик на лодочке в море, уже далеко от берега, он там стоял и махал обеими руками над головой и был явно старше своих четырех лет. Лодку сильно качало. Я испугался и проснулся — было ранее утро. Я вышел из комнаты и сразу увидел, как он идет по тропинке к лестнице — в своем черном пальто, опустив плечи и засунув руки в карманы. Я выбежал на крыльцо и сказал ему в спину:
— Hе уходи.
Ответит ли мне кто-нибудь, зачем я это сделал?
Я родился в Новом Уренгое — в гиблое время в гиблом месте. За свои двенадцать лет жизни там я видел настоящую тундру (зеленое, бурое, мшистое, бархатное) только с самолета. В Уренгое был песок, там были песчаные бури, там был снег, там не было улиц, а только тропинки между домами и полярная ночь, и фонари, и холодное искусственное солнце. Тогда уже никто не знал, зачем Уренгой, Ямал, Ямбург. Газ совсем почти кончился, тек тонкой струйкой. Однажды я даже написал стих: "В этом мире темнеет и сразу светает, и полярное лето уже наступает, и полярные люди идут по песку…" Я проращивал травинку дома в горшке, высаживал ее на улицу — она неизменно гибла.
Мой отец закрывал город. Когда-то был фильм: "Человек, который закрыл город". Мой отец, Михаил Веденмеер, был такой человек. К этому времени в мире накопилось столько всего, что подлежит утилизации, уничтожению, демонтажу, что подрывников понадобилось больше, чем проектировщиков и строителей. А я все растил эту треклятую травинку, а она все гибла, и тогда мама взяла отпуск, взяла билеты на самолет и привезла меня в Сад. Я стоял, оглушенный. Это все, что помню. Я стоял в зеленом, вокруг было зеленое, над головой… Оно дышало — я не дышал.
Ничего нельзя изменить потом, для этого надо проникнуть далеко в прошлое, где стоит длинный тощий подросток с колючими глазами, такой губошлеп с толстым от воспаления гайморовых пазух носом. Надо выдернуть его из Сада, вернуть в желто-белый Уренгой, погрозить пальцем: "В Сад — ни-ни! Козленочком станешь!" Поскольку, подросток вырастет, но, наверное, не очень поумнеет, приедет в Сад в день своего двадцатичетырехлетия, защитит в нем две диссертации по адвентивной флоре субтропиков, а в одну прекрасную ночь найдет у себя под окнами больную летучую мышь, большую черную летучую мышь, и это окажешься ты, и на этом старая известная жизнь кончится, а новая и не подумает начаться, сознание сожмется в точку — в красную кнопку, и будет мерно гудеть, как аварийная лампа — ни жизни, ни смерти, ни рая, ни ада, едешь в метро, а неизвестная сила тасует, путает станции и постоянно пристраивает новые.
"Уходи", — прошу я тебя без звука, без голоса. «Уходи». Hо когда за тобой закрывается дверь, — даже если ты пошел в Восточный сад, а значит — на час, или в горы, а значит — до вечера, я начинаю ждать тебя с этой минуты или ложусь спать, потому что во сне время другое и приходят другие люди, которых ты вытеснил и они ушли. Я сплю в основном тогда, когда тебя нет. В остальное время я работаю. Ночью. Утром. Когда спишь ты.
Кто знает, если бы я жил в поселке… Жил бы, как все, переговаривался бы через балкон с Линкой и Бобом, одалживал бы у них луковицу или чай… Пользовался бы мусоропроводом и лифтом и чувствовал бы себя вполне социализированным, нормальным гражданином. Так и было бы, не найди я этот дом, окно одной из комнат которого выходит в теплицу и поэтому комната освещается рассеянным зеленоватым светом, и сумерки наступают в ней значительно раньше. А в другой комнате вообще вместо окна плафон, но зато входная дверь стеклянная, и я не стал ее менять, поскольку давно понял, что ни моя жизнь, ни мое нелепое имущество не нужны решительно никому на свете, а от всего не убережешься. Например, от направленной взрывной волны. Или от того, что вдруг во дворе своего дома обнаруживаешь теплое и живое человеческое существо, которое надо спасать, и спасаешь его до тех пор, пока не приходится спасать самого себя. У японского писателя Танидзаки в повести "Любовь глупца" есть забавное, но по сути очень точное наблюдение об определяющей роли жилища в отношениях людей. Там герой вдруг понимает, что, снимай он обычную, стандартную квартиру, а не ателье художника, авось его жизнь сложилась бы иначе.
Котенок, оставь меня, дай помереть спокойно. Hе пытайся формировать мои литературные вкусы. Мне скучно читать твоего любимого Фриша. Меня тошнит от «Гантенбайна», передергивает от "omo Фабера". и только «Монток» немного примирил меня с этим меланхоличным швейцарцем. Ты никак не хочешь понять, что времени жизни мне отпущено значительно меньше, чем требуется для прочтения эпопеи Пруста и возмущенно заявляешь, что его надо "или читать всего, или не читать вовсе".
Каждый день я пытаюсь понять, что ты такое, но ты ускользаешь. Ты в состоянии пять часов, не отрываясь, читать совершенно неудобоваримый, со множеством сносок и примечаний, невозможный по структуре трактат Ковача, построенный на анализе постдарвиновских эволюционных теорий, причем, когда я прошу тебя объяснить, зачем ты его читаешь, ты ссылаешься на дарственную надпись Ковача мне на форзаце этого бессмертного труда, говоришь, пожав плечами: "Интересно же, что тебе дарят", и время от времени появляешься у меня на пороге, чтобы выяснить значение очередного непонятного слова. А на следующий день ты вдруг спрашиваешь, как же все-таки, черт побери, устроен телефон. Я предлагаю заодно рассказать тебе, как устроен утюг, фен и пишущая машинка, ты возмущенно заявляешь: "Перестань делать из меня идиота!"
"Ты просто скучаешь по сыну," — сказала Линка. Страшно сказать, но я почти не скучаю по сыну. "Без «почти». Я просто не скучаю по сыну. Он и так мой сын. Он мой. Я увижу его. Я никогда не перестану быть его отцом. В этой схеме все решено. Впрочем, я пытаюсь объяснить то, что необъяснимо. Ты своим телом, в котором трудно заподозрить бесспорное наличие бессмертной души, своим небольшим объемом, своей невеликой персоной вытеснил из моего повседневного существования равно как и из моих размышлений все, что не имеет отношения к тебе. Я, слава богу, пока сам в состоянии написать и анамнез, и диагноз. И приговор. Hо от этой рефлексии ничего существенно не изменится. Я люблю тебя. Малыш, котенок, черная летучая мышь, я люблю тебя, а это несовместимо с жизнью. Я выхожу на заднее крыльцо и вижу, как ты слушаешь шепелявого и косноязычного дурачка Сашу, которому двадцать девять лет, он сын нашей сторожихи. Очень общительный и добрый, всем бросается помогать… Сколько я себя здесь помню, его всегда подкармливали в институте. Вы сидите на бревне и Саша рассказывает тебе про прошлогодний пожар в лесу: "…а вертолет… лет… он брал воду и поливал… воду брал… и все побежали тушить — все сгорело, и белки сгорели, и буйволы… мне так нравилось… были белки… а потом белки сгорели…" Ты слушаешь его очень внимательно и киваешь. Саша воодушевляется"…а по телевизору львы в клетке… мне так нравится… львы и эта мадонна… такая красивая, она ему говорит: беги! и он бежит… люди боятся, а львы p-p-p. они в клетке, львы…" Ты киваешь без улыбки.
— Гоша, — говорит он, — а когда будет Новый год?
— Еще нескоро, — отвечаешь ты ему. — Зачем тебе, Саша, Новый год?
— Новый год… — мечтательно говорит Саша и улыбается до ушей. — Мне так нравится. Дети танцуют. Подарки.
Ты вскакиваешь.
— Я подарю тебе подарок.
Отодвигаешь меня с прохода и исчезаешь в доме. Саша чинно ждет на бревнышке и улыбается мне. Ты приносишь Саше свой толстый красный фломастер и говоришь:
— Это подарок. Можешь рисовать. Я дам тебе бумагу, ты нарисуешь белку.
Саша счастлив. Он повторяет без конца: "нарисую белку… нарисую белку…" Потом спрашивает:
— Это Новый год?
— Новый год, Саша, честное слово.
У нас в гостях мой коллега из Питера, мы пьем церковное вино и говорим о национальной политике. Коллега вдруг заявляет:
— Дурацкий этот украинский язык, ей-богу. Hе понимаю, какой-то исковерканный русский.
У тебя вдруг начинают искры сыпаться из глаз, я впервые вижу тебя таким злым. Ты перестаешь соблюдать какие бы то ни было приличия и произносишь:
— Твою мать, я всегда догадывался, что у дегенератов в первую очередь отсутствует чувство языка! — после чего покидаешь застолье.
— Ч-черт, — говорит мой коллега, в целом, неплохой мужик, — если бы я знал, что он украинец…
— Да… он, кстати, и не украинец, — пытаюсь подобрать объяснение, — не в этом дело, он просто…
Я понимаю, что ты, разумеется, тысячу раз прав, но за то, что ты при этом хлопаешь дверью, я завтра дам тебе по шее.
Назавтра ты дуешься, я злюсь, ты полдня молчишь, потом сообщаешь:
— А за антисемитизм вообще убил бы.
И тогда я начинаю смеяться. Ты смотришь, как я смеюсь, потом утомленно произносишь:
— Иди ты к черту.
И отправляешься к Саше, который давно поджидает тебя на бревнышке рисовать белок и Новый год.
Линка вытаскивает меня в ресторан поужинать, долго подбирает слова, потом говорит прямо:
— В институте сплетничают.
— Лина, — говорю я ей, — что за глупости.
— Возможно, глупости, — напряженно говорит она, — но я как твой друг…
— Ладно, — я наливаю ей водки и себе. — Что говорят? Только дословно, без интерпретаций.
Линка набирает побольше воздуху:
— Дословно говорят следующее: кто бы мог подумать, что Левка у нас голубой… — после чего выдыхает и испуганно смотрит на меня.
Я выпиваю водку и с удовольствием заедаю ее бужениной.
— А о том, что я агент ФБР — не говорят?
— Чего об этом говорить, — оживляется Линка, — об этом и так все знают.
Потом снова становится сердитой.
— Лева, я серьезно.
— Пей, Лина, пей, — говорю я ей. Мне уже скучно.
— Я понимаю, конечно, — тихо произносит она.
— Hу вот уж нет, — перебиваю я ее. — Нет. Я сам не понимаю. — (После трех рюмок водки у меня гладко идет эта тема). — Понимаешь? Я не понимаю. Hе все вещи понимаемы.
Она смотрит на меня своими круглыми зелеными глазами и в глазах появляются слезы. Она прихлопывает их ресницами и с сожалением произносит:
— Бедный Левка.
— Hе расстраивайся, — говорю я ей. — Люди же — они существа простые. Им нужны объяснения, они объясняют, как могут. И хорошо.
— И хорошо, — как эхо повторяет она.
Я возвращаюсь поздно, потому что долго провожаю Лину, мы с ней что-то горячо обсуждаем и оба страшно возбуждены. Потом я еще час брожу по берегу, постепенно выветривая хмель и наслаждаясь полным безлюдьем и прикидываю в уме план на завтра. Получается это не очень качественно, но все же завтрашний день обретает контур.
Я возвращаюсь поздно и вижу твои злые глаза, ты говоришь:
— Тебе звонили пять раз. Два раза из Стокгольма.
— Просили что-нибудь передать? — спрашиваю я.
Ты стоишь, прислонившись спиной к книжным полкам:
— Заведи себе секретаршу.
— Так, — говорю я ему, — что за тон?
— Я тут не ложусь спать, — начинаешь заводиться ты.
— Почему?
Ты сужаешь глаза и говоришь злым шепотом:
— Волнуюсь.
Когда-то мне кололи хлористый кальций. От него по телу разливалась невыносимая волна жара и начинало жечь в горле. Что-то подобное я испытываю и сейчас.
Я представляю, каким становится мое лицо, спасаюсь бегством к себе, ищу сигаретную пачку, и тут раскрывается дверь и ты оказываешься возле меня, утыкаешься носом в мое плечо, я охватываю тебя обеими руками, не обнимаю, а обхватываю как ребенка и чувствую у себя на шее твое горячее мокрое лицо и понимаю, что ты плачешь. У меня кружится голова, и почему-то я теряю способность дышать — горловой спазм.
— Гошка, — говорю я, — котенок, прости меня господи, я…
Твои губы.
Сознание возвращается к утру, с каждой каплей воды, которая капает сквозь ветхую крышу теплицы на растрескавшийся кафель пола. Ты поднимаешь голову, не открывая глаз говоришь: «Дождь» — и снова падаешь лицом вниз.
Я отчаянно размышляю о том, дискретно ли время, или оно длится. Сегодня — это то же самое вчера или это совсем другое сегодня? Могу ли я снять с твоего бедра маленького паучка, который спустился откуда-то с небес и рискует быть раздавленным, если ты пошевелишься? Пока я размышляю о дискретности времени, паучок спасается сам, а ты шумно поворачиваешься, бормочешь что-то и опять же, не открывая глаз, высвобождаешь из-под подушки свою левую руку и по-детски крепко обнимаешь меня за шею. Я знаю твою способность спать. Это может продолжаться вечно, и я рискую умереть без воды и еды под твоей рукой.
Hо спор между непрерывностью и дискретностью решен в пользу непрерывности.
Я целую твой теплый и влажный от сна сгиб локтя.
Идет дождь.
…Hо если время непрерывно, то не только вчерашний вечер перетекает в сегодняшнее утро, но и вчерашнее утро, не отмеченное ничем примечательным, должно где-то найти себе продолжение, и оно реализуется после полудня, когда я пинаю ненавистный принтер и рву испорченную финскую бумагу, а ты учишь английский и фраза "Well. let's see. What do way think, darling!" в контексте непрерывных щелчков клавиши перемотки насилует мое естество.
— Надень наушники! — рычу я.
Никакого эффекта.
— What do way think, darling?
— And to follow?
Я ищу наушники.
— Куда ты их дел.
— Ты их сам дел… but I'amm rather hungry…
— Выключи магнитофон!
— Да пошел ты… аnd to follow…
Мы смотрим друг на друга. У тебя по лицу пробегает какая-то тень и ты меняешь кассету.
— А так? — спрашиваешь ты.
"Маленькая ночная серенада".
— Я люблю тебя, — почти спокойно говорю я. — Такие дела. — И вижу, как у тебя дрожат руки, в которых ты вертишь подкассетник. Пластмассовая коробочка падает на ковер.
Ты молчишь.
Я сажусь на пол, беру твои руки в свои, мы смотрим друг на друга. Минуту. две. Три.
Ты пытаешься улыбнуться.
Я пытаюсь не потерять сознание.
Сестра, которая колола мне хлористый, говорила: "Дышите глубоко."
Хороший способ.
У меня третий день болит сердце. Я иду к Бобу. Сонный Боб вяло распекает каких-то санитарок.
— Hу что? — говорит он мне.
— Да вот, — говорю я, — что-то…
— Меньше думать, больше пить, — быстро произносит Боб. — Приходи сегодня, отпразднуем день рожденья Карла Линнея.
— Праздновали уже, — говорю я. — Hе далее, как на прошлой неделе.
— Hу, тогда столетие Англо-Бурской войны, — не унимается он. — А если серьезно, я тебе не помощник.
— Почему?
— Лева, — говорит Боб, — я терапевт.
— Терапевт, — повторяет Боб. — А не психиатр. И не батюшка. Я даже не женщина, отчего ужасно переживаю. Это Линка тебя по головке гладит, потому что не понимает…
— Чего не понимает?
— Что от этого лекарств нет, — говорит Боб.
— Да просто болит сердце.
— И будет болеть. Ты что ребенок, что ли? Посмотри на себя в зеркало. Субстанция сродни абсолютному духу. Чистая, без примесей. Помнишь, еще Изабелла Юрьева пела: "Сильнее страсти, больше, чем любовь…" При чем здесь сердце?
— Борька, — говорю, — помоги…
— По-моему тебе поможет только лоботомия, — со вздохом говорит он, — или терпи уж как-нибудь свою карму.
Ему приносят чью-то историю болезни и он углубляется в нее.
— К врачу приходят те, кто боится смерти, — через некоторое время произносит он. — Ты смерти не боишься. Ты боишься только одного, что он уйдет. Правильно? Единственный способ избавиться от этого — прогнать его самому.
Я иду домой и понимаю, что он прав. Единственный способ. От этой мысли, от одной только мысли об этом я испытываю забытое чувство свободы.
Тебя нет, и я успеваю придумать какие-то слова.
— Ты давно не был дома, — бездарно начинаю я и ты застываешь на пороге, сжимая что-то в кулаке и, кажется, не вполне понимая, о каком именно доме идет речь.
— …Тебе надо учиться. Я подумал, что… Если нужны деньги…
— Да, конечно, — говоришь ты и разжимаешь кулак. У тебя на ладони яшмовые четки.
— С днем рождения, — и ты бросаешь четки на стол.
И я вспоминаю, что послезавтра у меня день рождения. Я сижу, как истукан, а ты собираешь рюкзак. Делаешь ты это спокойно и тщательно. Проходит полчаса.
— Пойди посмотри, — говоришь ты мне, — где-то у тебя в кабинете мой черный блокнот, я не могу найти.
Я отправляюсь в кабинет, тупо ищу блокнот, не нахожу, возвращаюсь, а тебя уже нет.
Проходит день, в течение которого я лежу и смотрю в потолок.
Время от времени я обвожу пальцем контур розетки по часовой стрелке. Эта содержательная процедура меня успокаивает. Я обвожу контур розетки против часовой стрелки. Уже минута, как в дверь стучат. Я отрываюсь от розетки и иду открывать. Hа пороге стоит Саша. Он быстро говорит что-то и я ничего не понимаю.
— Пошли, — повторяет Саша, — там плохо… там заболел…
Он тащит меня напрямик через бамбуковую рощу, через заросли банана в дом сторожихи, и я вижу саму напуганную сторожиху и тебя на какой-то страшной раскладушке, у тебя опять приступ, ты бело-зеленый, лежишь, сцепив зубы весь мокрый, но в сознании.
— Идти можешь? — я наклоняюсь и провожу рукой по твоему мокрому лбу, по холодной щеке, по шее, на которой неровно бьется пульс.
Ты киваешь. Я веду тебя медленно-медленно, мы часто отдыхаем, у тебя сердце колотится как у пойманного мышонка.
Дома я колю тебе баралгин, ты бормочешь:
— Спасибо, — и засыпаешь, уткнувшись лбом в мою любимую розетку и держа меня за руку.
"Пусть все горит, — говорю я себе и, кажется, вслух. — Никогда больше… Сам — никогда…"
В середине сентября неожиданно резко холодает. Ты в черной майке и вышедших из употребления джинсах, что едва скрывают чресла и уж никак не согревают, выволакиваешь из дома стремянку, которая служит для протирания многострадального плафона, и принимаешься собирать инжир. Собираешь ты его преимущественно в рот, а белый пакетик сиротливо шуршит на веточке рядом.
— Ты, саранча, — говорю я, — пузо заболит.
Ты с презрением смотришь на меня сверху вниз.
— Я буду варить варенье, — сообщаешь ты. — До сих пор ты бесхозяйственно относился к инжиру, а между прочим, он на рынке — самый дорогой фрукт.
— Слушай, дорогой фрукт, тебе просто нечего делать, — догадываюсь я. — Я подумаю над этим.
Хотя, чего тут думать. Ты вполне освоил Сад и окрестности. Ты научился отличать каперсы от маргариток и на том спасибо. Ты неоднократно облобызал свою монстеру от корней до макушки и, разве что не поливал ее красным вином. ты прочел всю мою библиотеку и радостно поделился со мной потрясающим соображением о том, что "Бенджи в "Шуме и ярости" — совсем как наш Саша. Ты продемонстрировал мне неожиданную здравость ума относительно перспектив человечества в целом и только о своем будущем отказывался говорить.
— Посмотрим, — произносил ты неопределенно, — будет как будет.
И тогда я придумал Проект. Я разработал его в деталях за три минуты и объявил тебе. Ты перестал пожирать инжир и уселся на стремянку верхом.
— Правда? — сказал ты счастливым голосом.
— Фирма веников не вяжет, — сообщил я тебе и пошел звонить в авиакассы.
— Я давно говорил, — заорал ты, собирая стремянку, — что время от времени надо менять ландшафт, вид на побережье, и что самое главное… — ты приволок стремянку в дом и с грохотом приставил ее к стене, — и что самое главное, — повторил ты, расширив глаза, — климат!
— Я понял, — сказал я, — кого ты мне напоминаешь. — Ты — кот Бегемот, который превратился, конечно, в юношу-пажа, но как-то не полностью, только внешне. Что же касается повадок, манер и способов выражения чувств…
И тут ты, как всегда не дал мне договорить, потому что мирно приполз сопеть как паровоз, дышать в шею и тереться носом о плечо.
Проект заключался в том, чтобы выбраться дня на три на Рижское взморье. У меня в этом году не было отпуска, а у тебя, как выясняется, ни разу в жизни не было Рижского взморья и вообще Прибалтики не было, как не было, впрочем, и Мехико-Сити, и Парижа, и Рио, и Саламанки, и островов Франца-Иосифа. И я начинаю понимать, что в общих чертах предстоит мне сделать в ближайшие два-три года. В отличие от тебя я люблю и умею строить планы и осуществлять Проекты, какими бы странными они не казались.
Мы прилетаем в Ригу днем, мы бросаем вещи у одного моего коллеги и я веду тебя смотреть город. Ты передвигаешься по рижским улочкам каким-то своим способом, у тебя трудноуловимый, но совершенно особенный пластический рисунок походки (совсем иначе ты ходишь по траве, по Саду, по гальке, по закоулкам нашего поселка). Ты осуществляешь пантомиму знакомства с вкусной, теплой, янтарно-соломенной, глиняно-кожевенной Ригой, арт-Ригой и Ригой, где курят на подоконнике лестничной клетки и крошат булку хромому голубю в виду строительных лесов.
В тупике играют на дудочке. Ты долго смотришь на чье-то окно, которое с моей точки зрения, мало чем отличается от остальных.
Ты идешь по краю тротуара и разглядываешь свое отражение в темном стекле. Откуда-то почти из детства, с шуршащей мамино-папиной пластинки всплывает: "чтоб не ходить, а совершать балет хожденья по оттаявшей аллее…" Ты покупаешь какие-то ромашки, таскаешь их с собой, потом вручаешь барменше, она хлопает глазами и дарит тебе плетеную солонку, ты гордо демонстрируешь ее мне как трофей.
Мы заходим в ювелирную лавку — просто так, поглазеть. Я вижу твой сосредоточенный профиль, твой блестящий коричневый левый глаз вдруг останавливается и смотрит в одну точку. Я смотрю туда же — на черном бархате серебряный перстень с большим молочным опалом. Это перстень для мужской руки, для твоей руки, и вообще говоря, по статусу быть ему фамильным перстнем. Я понятия не имею, что такое Эльфийский Берилл, но, думаю, что выглядеть он мог примерно так. Я дарю тебе его, и ты, замерев, смотришь на него, лежащего на твоей ладони. Ты надеваешь его на безымянный палец правой руки и сжимаешь руку в кулак. Если бы не эпоха унификации, я бы подарил тебе еще меч и доспехи, чтобы ты мог защищаться и был неуязвим.
— Ох, — тихо говоришь ты.
И я, холодея от непонятного, сжимающего горло чувства, целую тебя в висок. Старый продавец со слезящимися глазами сидит на высокой табуретке и смотрит на нас взглядом, который ничего не выражает.
Мы ужинаем в «Можеме», ты улыбаешься куда-то в пространство, сосредоточенно разглядываешь свой десерт, улыбаешься и молчишь.
— Hу что? — спрашиваю я.
— Левка, — говоришь ты, — а вот представляешь, люди жили здесь, жили. Создавали стиль. Это как… ну если ты начинаешь скульптуру, а закончат ее через четыре-пять поколений после тебя… Ты успеваешь сделать процентов двадцать, а те, следующие — как они догадываются, что следует делать дальше?
— Интересный культурологический вопрос, — соглашаюсь я.
Ты вздыхаешь.
— Это значит, — говоришь ты, — что тебе по этому поводу ровным счетом нечего сказать. Ты свихнулся на адвентивной флоре и считаешь ее, по-видимому, верхом совершенства. Hо все равно и несмотря ни на что ты, пожалуй, лучше всех.
Я чудом не проливаю шампанское на скатерть.
— Малыш, — говорю я ему, — если ты будешь больше молчать, я проживу дольше.
Ты хохочешь и затихаешь, зажмурившись и прижимая свой опал к подбородку.
Утром на электричке мы едем на взморье. Серый денек с редким солнцем из-за туч. Ты говоришь, что тебе это напоминает немецкую игрушечную железную дорогу с маленькими зелеными полустаночками и прочим антуражем. Действительно, похоже. Из многочисленных "зеленых полустаночков" мы выбираем какой-то один и через сосновую просеку идем к невидимому морю. Ты идешь впереди, босиком, закатав штаны до икр, зарываясь ногами в мягкие теплые иглы и закинув обе руки за голову. Тут почему-то теплее, чем у нас там, в Саду.
— Ты дышишь? — спрашиваешь ты, не оглядываясь.
— Hу, разумеется.
— Ты неправильно дышишь. Дыши правильно.
— Ладно, — обещаю я тебе, — буду правильно.
Мы лежим на песке.
— Совсем не наше море, — произносишь ты после получасового молчания. Hо — хорошее.
Я соглашаюсь.
— Хорошее.
У самой кромки воды мальчики в черных шароварах и с длинными шестами занимаются каким-то видом у-шу. Я смотрю на них сквозь сосновую ветку и вижу японскую гравюру — не хватает только написанных черной тушью в воздухе, немного расплывшихся иероглифов. Я показываю тебе гравюру. Ты смотришь, уткнув подбородок в сгиб локтя, потом складываешь из пальцев рамку и смотришь сквозь рамку.
Я втайне от тебя взял вермут и прихватил у приятеля бокалы. Ты еще в электричке с подозрением косился на мою сумку и заинтересованно спрашивал:
— Это что у тебя позванивает?
Пьем вермут.
— Я бы здесь жил, — начинаешь сочинять ты, — построил бы дом, ловил бы рыбу… Ходил бы осенью в резиновых сапогах. Женился бы на латышке, сам бы стал латыш…
— Пока ты все больше становишься похожим на своего друга Сашу, — сообщаю я тебе.
— В самом деле? — с удовлетворением переспрашиваешь ты. — Вот и прекрасно. Меня бы звали Саша. Латыш Саша. А? Псевдоним.
— Боже, — вздыхаю я, — меня окружают сумасшедшие.
В сумерках мы возвращаемся.
— Хочется чаю, — говоришь ты в полусне, уткнувшись лбом в стекло электрички, — и килек… — и действительно засыпаешь до Риги, хмуришься и улыбаешься во сне и дышишь так спокойно, как будто спишь не в дребезжащей электричке, а дома, под своим любимым зеленым пледом.
Я пишу это спустя две недели, а вы с Линой обсуждаете перспективы создания гольф-клуба на необъятном пустыре в районе села Виноградное.
— Это вопрос технический, — снисходительно заявляешь ты.
— Деньги, деньги, — говорит мудрая Линка.
— …а в клубе, — продолжаешь ты, воодушевляясь, — джин с тоником и….
Мне тридцать пять лет.
Я доктор наук, профессор Королевского института биотехнологий Великобритании, обладатель супергранта фонда Уотсона и Крика за минувший год, и прочая.
Еще не так давно я хотел стать нобелевским лауреатом. Сегодня я хочу одного — чтобы ни один волос не упал с твоей головы. Когда я задаю себе вопрос, есть ли еще что-то, ради чего мне стоит жить, то понимаю: нет, ничего больше нет, и более того — ничего больше не надо".
Я знаю наверняка, что на свете есть только два человека, знакомых с этим текстом. Это сам автор, Лев Михайлович Веденмеер и я — Гошкин брат. Мне второй год подряд снится густое зеленое нутро Сада, а в нем слабо горит аварийный фонарь и бесшумно движется полоз во влажной траве.
Когда странным путем, через Лину Эриковну пришло письмо от Ирины Сергеевны, оно было уже излишним.
"Уважаемый….! — писала она. — Мое заболевание, которое не оставляет сомнения в исходе (рак лимфатических желез) заставляет меня сделать то, от чего при других обстоятельствах я бы воздержалась. Теперь мне уже не страшно признаваться в этом, тем более, что я глубоко уверена — Ваш брат поджидает меня у ворот ада, чтобы договорить. Двадцать два года назад я убила Вашего брата. Случилось это так. Я приехала в Сад, чтобы окончательно обсудить со Львом вопрос его переезда. Лев как никогда категорически отказывался говорить на эту тему. Бывшие мои коллеги, как могли, смущаясь и недоумевая, кое-как объяснили мне ситуацию, и, если бы не Дина Вакофян с ее психотерапевтическим талантом, быть мне с инфарктом в больнице, что, может быть, было бы к лучшему. Вакофяны утешали меня до поздней ночи и оставили у себя. Я понимала, что единственный человек, который может помочь мне уговорить Льва — это Ваш брат. Разумеется, я не собиралась его убивать. Да и как я могла себе это представить? Впрочем, я тогда слабо себя контролировала. Помню, я убедила себя, что иду поговорить с Вашим братом и что сделать это просто необходимо. Вакофяны спали, мне они отвели отдельную комнату. Я вышла, через пятнадцать минут я была уже возле левиного домика. Было, кажется, начало второго. В состоянии аффекта я не подумала, что Лева может устроить скандал и прогнать меня запросто. Hо он, к счастью, спал в кабинете, а Ваш брат что-то читал на веранде. Я очень хорошо помню почему-то, как в красном матерчатом абажуре с белыми полосками бились и трещали ночные бабочки.
Я предложила ему прогуляться и он согласился. Hе помню, что я ему говорила. Кажется, не то и не так. Я просила его уехать, он отвечал, что это невозможно. Я сказала, что он чудовище, что он последняя блядь, что он наказание на мою голову, я кажется, плакала, а он молчал. В районе Восточных Ворот я сказала ему примерно так: "Я готова убить тебя."
— Вперед, — сказал он и улыбнулся. И вдруг ему стало плохо. Он сел на корточки, сжал голову руками. Сначала я думала, что он притворяется, что это симуляция, — чтобы не продолжать разговор. Hо потом поняла, что — нет, не похоже. Я спросила у него, часто ли с ним такое случается. У него зуб на зуб не попадал, но он все же сказал:
— Какая разница, если вы все равно собрались меня убивать.
Ему действительно было очень скверно, он сидел, привалившиись к забору и пытался глубоко дышать. Потом сказал:
— Если не трудно — там в аптечке на веранде ампула баралгина и одноразовый шприц. Принесите.
Я пошла к домику. Все это заняло еще минут пятнадцать.
Было достаточно светло, потому что взошла луна. Он спросил, умею ли я колоть в вену. Я еще посмеялась потому, что сразу после приезда в Израиль работала медсестрой.
— Тогда колите, — попросил он.
И вот тут со мной произошла странная вещь. Мне показалось, что луна ушла, стало холодно и ветрено. Еще я испугалась его лица — белого, со сжатыми зубами, с закрытыми глазами. Как это объяснить? Это было похоже на временное помешательство. Я все сделала правильно — собрала шприц, свернула головку ампуле, набрала лекарство, нашла вену, просто затянув ему на бицепсе манжет рубахи. А потом выпустила баралгин в траву и под давлением ввела в вену воздух. Смерть наступила почти мгновенно. Я засунула шприц и ампулу в карман и, не оглядываясь, пошла к Вакофянам. Они спали с тех пор, я так и не смогла заснуть, хотя снотворного выпила — кажется выше нормы. Помню, я ничего не боялась и ни о чем не думала. По-моему, это и есть клиника ненависти. Hу а дальше — версия. Лев, наверное, проснулся, не обнаружил Вашего брата и отправился прочесывать Сад. Дальше вы знаете.
Согласитесь, извинения в этой ситуации звучат нелепо. Вот, собственно и все. Ирина Веденмеер".
Я позвонил Лине Эриковне и она сказала, что Ирина Сергеевна умерла три недели назад в тель-авивском институте онкологии, что у Марка родился сын, а Лев Михайлович пребывает в вечном молчании. И я вспомнил последний абзац «садово-огородной» книги:
"…сегодня я хочу одного — чтобы ни один волос не упал с твоей головы", — писал человек, который занимался адвентивной флорой. Адвентивная флора, как тогда объяснила мне Лина Эриковна, — это флора несвойственная месту, занесенное ветром, завезенное, попавшее случайно и пустившее корни растение. Семечко может приехать на колесе, или на чьем-нибудь рюкзаке, или просто вместе с крошками в кармане. И есть люди, которые наблюдают — как ему живется. "Иногда, — сказала Лина Эриковна, — приживается, но вообще бывает всякое".
"…когда я задаю себе вопрос — есть ли еще
что-то, ради чего мне стоит жить, то понимаю
— нет, ничего больше нет, и, более того
ничего больше не надо."
Ялта,
1993–1994.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |