"За тайнами Плутона" - читать интересную книгу автора (Обручев Владимир Афанасьевич)
СТРАНИЦЫ ПИСЕМ
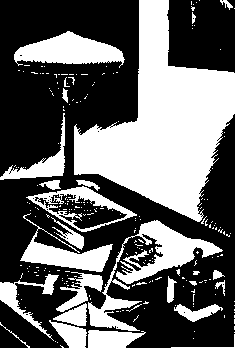 |
В архиве семьи Обручевых сохранились самые первые письма Владимира Афанасьевича к невесте. Он уехал тогда работать в Среднюю Азию — первая разлука! — и писал почти каждый день.
Сегодня утром в канцелярии дороги я получил совершенно нежданно твое первое письмо и там же стал читать его, покуда Богд. (К. И. Богданович, — сокурсник и товарищ Обручева. — А. Ш.) рылся в шкафу, вытаскивая для нас карты. Что это ты, моя бедная девочка, тоскуешь и плачешь? Полно, быстро минет год разлуки, день за днем, неделя за неделей, глядишь, настала опять весна, а тут уж так близко, что лишний месяц в счет нейдет; право — нечего плакать и отчаиваться, ты только расстроишь себе опять нервы, вместо того, чтобы поправить их во время отсутствия твоего Вовочки, который работает теперь для нашего общего счастья; оно, видно, не бывает без шипов, и приходится добывать его ценой разлуки и лишений (…).
Умеешь ли ты находить на звездном небе созвездие Большой Медведицы? Если нет, то попроси Стреш. (С. И. Стрешевский, товарищ Обручева. В его семье, на даче, жила в то лето Елизавета Исаакиевна. — А. Ш.) показать тебе ее; она видна всегда на севере, и, отыскивая ее в час ночной в безлюдной степи, я буду думать про далекий север, где живет моя милая суженая; буду чувствовать, что и ты, смотря на нее, вспоминаешь путника, который тебе дороже всего. Видишь, как я, жесткий человек, расчувствовался, видно, тоже разлука гнетет. Да, гнетет, хотя я в лучшем положении, чем ты; у меня столько дел и забот, столько новых впечатлений постоянно сменяют друг друга, что тосковать некогда. По ночам только, когда я без сна валяюсь на постели, мокрый до нитки от духоты тропической ночи, тогда я брежу тобой, мне кажется, что твоя теплая, мягкая рука обнимает мою шею, что твоя коса скользит по моему лицу и горячие губы прижимаются к моим, и я засыпаю наконец в этих сладких грезах, а утром вдвое больнее от мысли, что ты далеко, далеко, что все это чудные сны и исполнение их не близко, не скоро.
А как хорошо будет нам через год — квартира, нанятая совместными поисками, обстановка, в которой каждая вещь куплена сообща, выбрана друг для друга; а жизнь вместе — эти чудные ночи, веселые дни, работа и наслаждение молодой любви… Нет, Лизочка, нет, мы должны жить хорошо, не ссориться, не обманывать друг друга; мы ли не знаем хорошо своего суженого, все его недостатки и качества…
Только что зашумели ивы над арыком, протекающим мимо окон, они шепнули мне слова, которыми кончается чудная пьеса Рубинштейна «Летняя ночь»… «Я твоя, я твоя», — шепчут они, и я слышу голос моей ненаглядной, прижавшей головку к моей груди. Прощай, рожица моя. Твой Вовка.
…Ты находишь, что между любящими должна быть полная откровенность, чтобы они могли жить душа в душу; я также начинаю разделять это мнение; теперь, далеко от тебя, я бы хотел, чтобы ты знала все, что у меня на душе, мои мысли, чувства, желания; чтобы глаз моей милой проникал во все уголки души, оберегая ее от всего нехорошего (…). Поверь, что я благословляю тот день, когда я в первый раз звонил у ваших дверей и на пороге показалась твоя дорогая рожица, сразу смутившая меня своими ласковыми глазами. Теперь эта рожица передо мною — на карточке, но глазки смотрят грустно куда-то вдаль — они думают о милом, которого долго ждать еще; а как бы он хотел поцеловать эти глазки…
Пора кончать — крепко, крепко целую мою девочку… Пиши обо всем и подробнее. Помнящий тебя везде и всегда, не немножко, а очень-очень много. Твой Вовка.
…Ты соглашаешься со мной, что мы будем очень счастливы и будем жить душа в душу; но не говорят ли все влюбленные женихи и невесты то же самое, а все же многие живут потом, как, напр., та госпожа Доминская, которая лежала у нас весной. Разве и у нас уже не бывало размолвки — помнишь, ты несколько раз плакала из-за меня, а я дулся. Кстати, дам тебе полезный совет для будущего — если я почему-либо начну дуться на тебя — никогда не затягивай дело, а сейчас же пристыди и заставь извиниться, если я виноват; если затягивать и дуться еще самой, то размолвка будет дольше и потом труднее будет помириться, не говоря уже о том, что сделаем себе несколько лишних скверных дней. Точно также, если я обойдусь с тобой грубо, то тоже сейчас пристыди и не обижайся — такие вспышки бывают у меня только если я очень сердит и надо отучить меня от них; несколькими ласковыми словами ты сразу можешь усмирить медведя и не дать ему повода дуться (…).
Лизочка, ты одна у меня «царица», и соперницы нет — нечего ревновать; скорее мне следует бояться — ты в Москве и Воронеже встретишь столько молодых людей, что можешь забыть Вовочку и решить свою участь скорее и проще. А мне здесь в кого влюбиться?..
…Как часто я рисую себе, как я буду лететь назад к тебе, с каким восторгом высунусь из вагона на вокзале, оглядывая собравшуюся публику, отыскивая твою рожицу, тоже веселую, смеющуюся; как я расцелую ее, как буду ехать, обнявши тебя, не замечая ни улиц, ни прохожих. Как мы будем устраиваться, хлопотать вместе в заботах о райском уголке… как хорошо будем жить вдвоем, т. к. с такой хорошей девочкой, как ты, нельзя не жить хорошо (если ты возьмешь меня немного в руки и не позволишь проявлять мои главные недостатки — грубость и эгоизм; слышишь, Лизочка, непременно отучи меня от них — ласковым упреком ты со мной много сделаешь)…
…Дай свою ручку, мы пойдем неразлучно по жизненному пути, и судьба не откажет сделать нас счастливыми, т. к. большая часть счастья в нас самих, в нашей любви и верности…
В феврале 1887 года священник маленькой церквушки на Черной речке скрепил брачный союз Владимира Афанасьевича Обручева и Елизаветы Исаакиевны Лурье.
Ни Полина Карловна, ни родители невесты так и не дали своего благословения. Но молодые были счастливы.
В октябре, уехав вновь на Закаспийскую дорогу, Обручев писал жене:
«…Недавно прошло уже восемь месяцев после нашей свадьбы, медовый месяц кончился давно, но вместе с ним не кончилось наше счастье, наша любовь, а напротив — она окрепла и, надеюсь, продолжится еще на многие годы. Я по крайней мере еще ни разу, даже в какую-нибудь сердитую минуту, ни разу еще не сожалел, что женился, что взял тебя в подружки жизни, дорогая моя; напротив, с каждым днем, глядя на других жен, я все более убеждаюсь, что не ошибся в выборе, что имею одну из лучших жен, которыя только могут быть, и если бы я был свободен и должен был опять выбирать — я бы не мог взять другую, а только тебя, милочка моя…»
Год спустя, закутав получше семимесячного сынишку, ехала Елизавета Исаакиевна в Сибирь — там мужа ждет работа! Когда отправился Владимир Афанасьевич в Китай, с двумя малышами на руках возвращалась в Петербург. Потом — вновь в Иркутск, на четыре года. Потом — в Томск. Старшие уже подросли, а младшему — годик…
Нелегко быть женой ученого, женой человека, влюбленного в свое дело. Он — любящий муж, любящий отец, но вначале — дело!
— Вовочка, нас звали в гости.
— Ты же знаешь, Лизонька, я должен работать…
— Вовочка, совсем прогнили полы в кухне. Надо искать плотников.
— Ты же знаешь, Лизонька, я должен работать…
Что бы ни случилось, каждый день он проводил десять часов за письменным столом. А на ее долю — все семейные заботы.
Любимая поговорка была у Елизаветы Исаакиевны: «Лень — на ремень, а ремень — на плечи».
Бывало, сердилась она, бывало, плакала, возмущаясь его «немецкой» педантичностью.
— Ты же знаешь, Лизонька…
Биограф пишет: «Если измерять жизнь человеческую не годами, а трудами, пришлось бы сказать, что Обручев жил раз в десять больше среднего человека».
Кто измерит, сколько из этих десяти жизнен подарила ему Елизавета Исаакиевна…
Когда скончалась она, Обручев, как вспоминает близкий его сотрудник, «работал с особым ожесточением, особенно строго и неумолимо соблюдал железный распорядок своего десятичасового рабочего дня, не давая себе ни малейшей возможности поддаться угнетающему тяжелому состоянию духа, ежеминутно как бы приказывая себе не опускать рук».
Прошло два года…
Мучительно тягостно одиночество, застигшее на склоне лет. Конечно, рядом сыновья. Но у них свои семьи, своя жизнь.
С Евой Самойловной Бобровской Владимир Афанасьевич был знаком уже давно. И вот теперь они решили соединить свои судьбы…
Порой даже близкие люди по какой-то нелепой предвзятости склонны осуждать поздние браки. Нелегко было Еве Самойловне входить в новую семью. У нее ведь тоже была и своя жизнь, и сын от первого брака, и любимая работа. И сомнения…
Владимир Афанасьевич писал ей, как всегда, откровенно:
«Прежде за стариков молодые выходили или по принуждению родителей, или ради их выгоды — спасения от разорения, например, или же в расчете на богатство, сытую жизнь, недалекую смерть и наследство, пенсию и т. п… Мне кажется, что ты немножко опасаешься, чтобы кое-кто не приписал тебе эти побуждения, и этим объясняется, может быть, нежелание переехать в мою квартиру? Пусть другие думают, что хотят, на чужой роток и т. д., а ты будь уверена, что я тебя в этом не подозреваю».
«Опять за эту 6-дневку получил два письма от тебя, дорогая Евушка, два письма, полные любви и ласки, на которые могу отвечать только своими холодными сухими посланиями. Разучился я из-за избытка научного писания излагать свои чувства соответствующими словами… Я очень рад, что Володя с Митей помирились, и приписываю это твоему доброму воздействию. Я не умею так мягко уговаривать, не нахожу слов, проникающих в душу; поэтому твое вхождение в нашу семью будет иметь хорошие последствия. А помощи твоей в работе, о которой ты думаешь, я не хочу, у тебя своей работы достаточно; своей лаской и любовью ты будешь поддерживать меня и этим способствовать моей работе гораздо лучше…»
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |