"Теперь – безымянные... (Неудача)" - читать интересную книгу автора (Гончаров Юрий Даниилович)
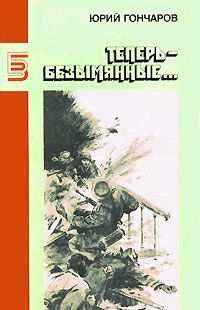 |
Юрий Гончаров Теперь – безымянные (Неудача)
Военная сводка за восемнадцатое июля 1942 года, переданная поздно вечером по радио, как и все сводки с начала немецкого наступления на Юго-Западном фронте, была предельно коротка, и о В-ском направлении, основном среди других направлений, по которым фашистские войска развивали свое движение на восток, в ней говорилось теми же, что и раньше, неясными и уклончивыми словами: существенных событий не произошло...
В-ское направление возникло сразу же, как только после длительного предлетнего затишья и кажущегося бессилия немецкой стороны вновь бурно, вулканически ожил фронт, и теперь, к восемнадцатому июля, в действительности было самим городом В., чадно горевшим в пламени пожаров и почти полностью захваченным противником. Только северовосточная окраина оставалась у советских войск. И даже не окраина, потому что красноармейцы были вытеснены уже со всех улиц, а то, что было дальше за нею – обширный пустырь с деляночками огородов местных жителей, с колючими, редкими кустиками терновника, с длинным многоэтажным и совершенно голо стоявшим посреди пустыря зданием городской больницы и парком для воскресных гуляний горожан, расположенным за больницею, в широкой лощине с крутыми скатами в непролазном дубняке.
Незначительность событий восемнадцатого июля на В-ском направлении выразилась в том, что с восходом солнца немецкая пехота, утомленная непрерывными двухнедельными наступательными усилиями и поредевшая от потерь, но все еще представлявшая грозную силу для расстроенных, подавленных отступлением, обескровленных потерями советских частей, выйдя на пустырь, отделявший больницу от последних городских кварталов, атаковала красноармейцев, одними лишь винтовками оборонявшихся в этом районе, и оттеснила их от города еще дальше. Измученные бессонницей, охриплые, с черными от пыли лицами и красными воспаленными глазами командиры и комиссары в горячке, подстегиваемые приказаниями свыше, попытались тут же повести своих солдат в контратаку, чтобы вернуть прежние позиции и здание больницы – ключ ко всей местности, но немцы уже успели превратить здание в крепость: из окон всех этажей смотрели пулеметные дула, и контратака реденьких, неохотно поднявшихся красноармейских цепей стоила только новых жертв и не дала никакого успеха.
Дым выгорающего города, медленно расплываясь в знойном безветрии, подолгу клубясь на одном месте, вязкой черно-сизой мглой покрывал всю округу. Солнце светило сквозь дымную толщу тускло, багровым шаром.
Город представлял собой крупный промышленный центр в средней полосе России. Здесь сходились многие стратегически важные пути с севера на юг, с запада на восток. На секретных армейских складах для питания фронта были накоплены боевые материалы, запасы обуви, одежды, продовольствия.
Пока еще не определилось, каковы истинные цели немецкого командования, куда направятся немцы дальше – пойдут ли они в глубь страны, на Саратов, Пензу, Куйбышев, чтобы затем повернуть на Москву, которую им не удалось взять полгода назад, в декабре, или они отказались от этой дорого стоившей им идеи, и теперь у них иные планы, иные расчеты и замыслы, и они, чтобы поправить свои быстро истощающиеся ресурсы, намерены действовать только на юге – захватить еще не оккупированную часть донецкого угольного бассейна, ворваться на Кавказ с его источниками горючего, в котором гитлеровская армия, армия моторов, самодвижущейся техники, испытывала особенно острый голод.
По какому бы из этих вариантов ни развернулись дальнейшие события на Юго-Западном фронте, одно было совершенно очевидно с самого начала; город составляет ответственную деталь в общем плане гитлеровского командования, он крайне нужен, необходим немцам, почему они, прорвав фронт, прежде всего и рванулись к нему с таким напором и такою стремительностью. Особенно важное военное значение для обеих сторон город приобретал, если немецкие дивизии двинутся в сторону Кавказа. Он становился тогда для них прикрытием с севера от флангового удара, прикрытием, дававшим основной массе механизированных войск полную свободу действий на просторах Придонья, Поволжья и Кубани.
Не надо было быть тонким стратегом, чтобы понять это, – достаточно было просто поглядеть на географическую карту.
От армии, сражавшейся на В-ском направлении, Ставка требовала не только задержать противника, не пустить его дальше, но и немедленно, во что бы это ни обошлось, вернуть город.
И в полдень 18 июля во исполнение этих приказаний на левом фланге армии была предпринята попытка отбить южную оконечность города.
В атаках участвовали танки, артиллерия, наступающие продвинулись на несколько сот метров, завладели одной-двумя улицами, но так как у артиллеристов скоро иссякли снаряды, а танков было мало, действовали они разобщенно, пехота вынуждена была залечь и скоро вернулась на исходные рубежи. Этот бой длился чуть больше часа, но поглотил последние технические и людские резервы, которыми располагало командование армией.
Небо над городом и надо всем окрестным земным пространством, вперехлест исполосованное бледными трассами от ударов авиационных пушек, в белых горошинах от снарядных разрывов, в этот долго тянувшийся день тоже было накалено ни на минуту не слабевшим боевым напряжением. Схватки истребителей возникали внезапно, развертывались молниеносно: маленькие юркие самолетики, истошно воя моторами в мутной голубизне небесного купола, вдруг слипались в вертящийся каруселью клубок; разгневанно каркали спаренные пулеметы, ударяли пушки, и клубок тут же распадался. Точно разбросанные центробежною силою, самолетики стремительно разлетались в разные стороны, и за каким-нибудь из них, а то и за двумя, тремя сразу тянулся дымный шлейф. Забравшись на высоту, где их было уже не различить невооруженным глазом, проплывали на запад косяки советских бомбовозов, чтобы рассеять свой груз вдоль транспортных магистралей с колоннами танков и автомашин, сокрушить мосты и переправы и помешать немецкой стороне наращивать численность и техническое оснащение войск, сражавшихся в районе города. Гораздо чаще и более крупными группами, в плотно сомкнутых построениях раздирали воздух слитным ревом моторов отяжеленные бомбовой начинкой «юнкерсы» – чтобы выполнить подобную же работу в ближнем и дальнем советском тылу. Самолеты шли, возвращались, проходили снова, и низкий, продолжительный, исходивший как бы из глубоченных земных недр гул, почти не затихая, тяжко сотрясал то один, то другой край горизонта и густыми волнами катился над равниною, поверх всех других наземных звуков...
И еще одно событие произошло в этот день в районе города, временно, до конца следующей ночи, оставшееся неизвестным для противника, несмотря на всю тщательность, с какою его воздушная разведка вела наблюдения за советским тылом. Это событие, о котором, конечно, не могло быть сообщено в вечерней радиосводке, состояло в том, что с севера, лесными дорогами, в расположение обессиленной, вконец выдохшейся в непрерывных штурмах армии подошли полки свежей сибирской стрелковой дивизии, выдвинутой Ставкой из резерва навстречу немецкому прорыву.
Чтобы достичь фронта, дивизия совершила по железной дороге переезд в несколько тысяч километров, почти через всю страну, и потом по тридцатиградусной жаре ускоренным маршем, без долгих привалов, прошла сто двадцать верст пешим ходом от станции, на которой ее выгрузили из эшелонов. В списочном составе дивизии числилось двенадцать тысяч восемьсот человек, призванных в начале войны и за целый год обучения и тренировок под руководством опытного комсостава получивших основательную военную подготовку.
Все вместе бойцы дивизии представляли колоссальную людскую массу, отягченную оружием, снаряжением, конными обозами с разнообразным имуществом, без которого воинская часть не может ни существовать, ни воевать; такую массу невозможно было одновременно перебросить по железной магистрали, разом подвести по узким, трудно проезжим лесным дорогам к назначенному фронтовому рубежу. Движение дивизионных подразделений происходило с неизбежным разрывом во времени, и поэтому на закате дня к оконечности леса у северо-восточной окраины города подтянулись только два пехотных полка из трех, а третий и главная сила дивизии – полк 76-миллиметровых орудий, выступившие с разгрузочной станции на сутки позже, были еще на середине пути.
Последние до города двадцать пять километров, от Лаптевки, маленькой деревушки, возле которой по лесу были раскиданы меченные красными крестами палатки армейского госпиталя и, затаившись под пологом листвы, в глубоких капонирах и без них стояли фургоны, повозки, жующие сено лошади различных армейских тыловых служб, – головные полки дивизии проделали в особенно ускоренном темпе, ни разу не остановившись на отдых. Да отдыха никто и не просил. Было известно, что фронт под городом почти полностью оголен и скоро совсем некому будет сдерживать напор немецких частей.
Навстречу, вихляясь в глубоко прорезанных колеях, ползли санитарные повозки с ранеными. По обочинам, поддерживая ослабевших, ковыляли те, кого еще держали ноги, кто мог двигаться самостоятельно. Торопливо шагавшие сибиряки, в десятом поту от жары и тяжести оружия, впервые видели бинты, свежую кровь на повязках своих сверстников, может, всего только час назад или даже меньше бывших в самом центре той канонады, что слышалась впереди, из-за леса. С особой пристальностью, такими понятными для раненых глазами всматривались сибиряки в их черные от пыли и копоти лица, худые, заострившиеся, покрытые отросшей щетиной. Иные спрашивали, указывая туда, куда шли полки, – что там, как? Где немец, где наши? Раненые отвечали сбивчиво, противоречиво, ничего свя́зного нельзя было составить из их ответов. Выходило только одно, что было и так ясно, – дело дрянь, совсем худо...
Вблизи города лес уже не пахнул лесом, все природные запахи его были убиты, вытеснены кислой вонью взрывчатки, сладковатой гарью городских пожарищ. Лес выглядел будто после бурелома: многие деревья повалены, иные сломлены на разной высоте, лишены макушек, на стволах резко белели царапины, расщепы, ветки никли, подрубленные осколками, или, оторванные совсем, громоздились внизу высокими навалами. Удивляя своею обширностью, чернели ямы от авиабомб; деревья вокруг них стояли без листвы, обнаженные, как осенью, закиданные грязью, топорща голые иссеченные сучья... Это была уже фронтовая земля, не однажды пробомбленная, обстрелянная и минометами и крупнокалиберными немецкими пушками.
Из головы колонны, где находился командир дивизии, передали остановиться, развести роты по лесным оврагам и балкам. Люди стали растекаться – вправо, влево, в жажде отдыха валились под кусты на сыроватую, мягкую лесную траву.
Но последовал новый приказ – отрыть ячейки и щели на случай воздушного налета. Меж стволов, где торопливо, где устало-медлительно заработали сотни маленьких солдатских лопат, отбрасывая комья сырой, угольно-черной лесной земли, с лязгом перерезая крепкие жилы древесных корневищ.
Лейтенанта полковых связистов Ивана Платонова позвали на поляну, где собрался старший комсостав дивизии. Понимая, что сейчас последует указание разворачивать телефонную связь, Платонов, оправив на себе гимнастерку, поспешно бросился на зов начальства, взволнованный, что «начинается», в возбуждении от того, что всего год назад он учился в В-ском военном училище связи, ползал возле города на полевых занятиях по рвам и буеракам с катушкою провода и телефонным аппаратом, и вот теперь судьба привела его снова в эту хорошо ему знакомую местность, но уже на настоящую войну. Год назад ему даже и вообразиться не могло такое! На стенах училища висели лозунги, возвещавшие, что любой агрессор будет разбит малой кровью, тройным ударом и на его же собственной территории, об этом каждый день неустанно твердили политруководители, и все были непоколебимо уверены, что именно так и будет: если придется воевать, то только далеко на западе. Платонову почему-то казалось, что и для других должно быть так же интересно, что ему предстоит давать настоящую связь в тех же самых местах, которые были для него учебным полем, и он даже сложил в уме фразы, в которых хотел непременно сказать об этом товарищам по полку, кому-нибудь из старших командиров, может быть, если подвернется удобный момент, даже самому командиру полка.
С этими фразами на языке, думая о том, что надо будет написать про это и домой, пусть поразятся и там, как у него получилось, он и выбежал из кустов на освещенную низким солнцем поляну вблизи опушки и мгновенно оробел, смешался: на поляне были не только свои, но и еще какое-то начальство, и все в высоких званиях – майоры, полковники. Надо всеми возвышалась рослая, массивная фигура генерала в полной генеральской форме – с красными лампасами на брюках, с витым золоченым шнуром на малиновом околыше фуражки и золотыми же, ярко блиставшими в свете солнца, нагонявшими невольную робость звездами на угольниках воротника. Это блистание золотом, могущее только демаскировать, привлечь внимание немецких наблюдателей, этот парад здесь, вблизи передовой, выглядели совершенно неуместно, как ни для чего не нужная бравада, демонстративное пренебрежение опасностью.
Генерал говорил с командиром дивизии Остроуховым, и не просто говорил, а горячась, сердито. Его лицо, широкое, мясистое, нажженное солнцем, с коротким, как бы вдавленным носом, с тою грубоватостью во всех чертах, которая многими принимается за свидетельство сильного характера, было напряженным, багровым. Еще более густой багровой краской была налита сдавленная воротником кителя генеральская шея, обмотанная грязноватым, скрутившимся в жгут бинтом, измазанным под затылком кровью.
– Чего тебе еще ждать? – не слушая, что пытается возразить Остроухов, говорил генерал громко и резко, нисколько не стесняясь, что тон его, обращение на «ты» могут быть для Остроухова оскорбительны, обидны. – Два полка у тебя есть, это что – мало? Немцы выдохлись, только огрызаются, а силенки уже нет, бока у них понамяты. Их и батальоном толкнуть можно, а навалиться покрепче – так и всех с потрохами заберем!..
Со стороны города, стремительно приближаясь, нарастая, послышалось жужжание мины. За низкорослым изломанным кустарником и редкими, тоже изломанными, размочаленными деревцами, которыми кончался лес, переходя в открытое поле, звонко грохнуло. Осколки, фырча, воя, пролетели вверху, защелкав о древесные стволы.
Все повернули головы, когда зажужжала мина, и повернули их опять, по звуку проследив в воздухе полет невидимых осколков, кое-кто пригнулся даже, не слишком явно, стесняясь своей боязни, и только генерал и Остроухов, занятые спором, не обратили на мину внимания, как будто не слыхали ее вовсе.
– Товарищ генерал-лейтенант!.. – произнес стоявший сбоку и чуть позади генерала затянутый в портупейные ремни адъютант с тремя кубиками в петлицах. Лицо у него было беспокойно, он настороженно вслушивался – не последует ли новая мина. Подступив к генералу, он рукою в коричневой перчатке слегка, почтительно, но одновременно с настойчивостью коснулся генеральского локтя.
– А! – отмахнулся раздраженно генерал, но все же послушался, отошел под прикрытие комластого, кривого дубка и сел под ним на землю, на край неглубокой канавки.
Остроухов и все другие командиры, двумя кучками, в одной дивизионные, в другой – те, что составляли генеральскую свиту, передвинулись следом за генералом.
– Давай, давай полки! – сказал генерал категорично еще более подчеркнуто выражая всем своим видом, что он не хочет ничего слушать, не принимает и не примет никаких отговорок. – Не тяни резину – самый момент... Упустим – потом пожалеем Ты же ведь сам вояка, с первых дней, знаешь, как на войне иная минута все дело решает...
– Ни одной же пушки, товарищ генерал-лейтенант!.. – Остроухов отвечал тоном упрека в том, что хотят заставить его сделать.
– Поддержим, своей артиллерией поддержим!
– Какой артиллерией, сколько ее, где она? По три снаряда на ствол?.. А у меня идет целый артполк.
Некрупный, не отличавшийся физическою силою Остроухов, казавшийся совсем маленьким, просто подростком в сравнении с грузным, массивным генералом, всегда спокойно-сдержанный и вдумчиво-неторопливый, ни разу, как он принял дивизию, не повысивший на подчиненных голос, всегда и во всем знавший, что делать, какой найти наилучший выход из трудного положения, сейчас был взволнован, бледен и явно растерян.
Генерал, говоривший Остроухову «ты», хотя они увиделись и познакомились только что, на этой поляне, был командующий армией Мартынюк, в чье распоряжение поступала теперь дивизия. Он прибыл сюда на бронемашине со своего КП, чтобы лично встретить Остроухова и тут же немедленно отправить его с полками на штурм города.
Остроухов знал, что придется вступать в бой сразу же, вероятно, прямо с ходу, и был готов к этому. Но он полагал, что это будет бой оборонительный. Такая задача еще была в пределах возможного для людей, которые двое суток не спали и ни разу по-настоящему не ели, чуть ли не бегом проделали по жаре больше ста верст, едва-едва держались на ногах и имели только легкое оружие, что принесли на себе.
Но штурм города – это было совсем иное, куда более серьезное, ответственное и трудное дело, совершенно невыполнимое и безнадежное, если пытаться осуществить его тотчас же, без артиллерии и танков, не зная толком, где и как укрепились немцы, где их огневые точки и минные поля, в каком месте они сильнее, в каком слабее. Остроухов, всю жизнь служивший в армии, прошедший фронтовую школу первой мировой войны и гражданской, успевший и в нынешнюю хватить лиха, за годы армейской службы много учившийся, ставший из рядового командиром со званием полковника, понимал это со всей отчетливостью и не понимал только одного, как этого не понимает Мартынюк, тоже старый армеец, с боевым опытом генерал.
– Командиры еще не знают местности, не представляют, где передний край противника, подходы к нему не разведаны, – со сдержанным гневом заговорил Остроухов. Было видно, что, если Мартынюк пригрозит ему отстранением от должности или отдачей под суд трибунала, даже расстрелом на месте, он все равно не поведет своих солдат на бессмысленное убийство, в какое неминуемо обратится немедленное наступление на город, которое хочет устроить Мартынюк.
– Какую тебе еще разведку, чего тебе разведывать?! – вскипел Мартынюк. Тяжелые, мясистые щеки его затряслись, заходили волнами. – Вот оно все, как на ладони – вот ты, а вот город, – простер он руку. – Выгляни за лес – и карта никакая не нужна. Командиров и политруков в цепь, направление на больницу – и пошел. Говорю тебе – самый момент, немец выдохся, можешь поверить, меня чутье не обманывает. Нет у него уже силенки, только и держится, что за дома уцепился, а навались – побежит, только пятки засверкают!
– Ну, а раз выдохся – тем более нечего горячку пороть. Добра от нее не бывает. Сутки, сутки нужны, не меньше!
Остроухов уже заметно нервничал, хотя и старался этого не выдавать. Глядя не на генерала, а себе под ноги, горбясь, сутуля худую спину, он ходил взад-вперед на маленьком пространстве в кругу стоящих перед генералом командиров. Заложенные за спину и сцепленные руки его с набухшими венами подрагивали.
Мартынюк сощурился на Остроухова, как будто смотрел против света; маленькие, колюче сверкавшие глазки его совсем скрылись в складках красных век.
– Людей жалеешь? – не спрашивая, а словно бы уличая Остроухова в преступном намерении, резко сказал Мартынюк.
Остроухов остановился, все черты его узкого, худощавого лица как-то мгновенно заострились, он вскинул на генерала голову, с такою же колючестью в темных, по-монгольски чуть косоватых глазах, какая была в сощуренном взгляде генерала.
– Да, – сказал он, – жалею!.. Не дрова ведь в печку.
– А Родину ты не жалеешь? – возвысил Мартынюк грозно голос, еще более недобро прищуривая глаза.
Вопрос, казалось, поставил Остроухова в тупик. Он помолчал, потом вздернул плечами с видом, что на такое и отвечать не стоит, отвернулся; лицо у него померкло, стало угрюмым, замкнутым.
– Не так ее жалеть надо! – проговорил он глухо, как бы только для себя.
– Где твой начштаба? – Мартынюк рыскнул глазами по лицам дивизионных командиров, стоявших с соблюдением почтительной трехметровой дистанции, неловко повернулся корпусом, чтобы взглянуть на тех, что стояли позади него. – Где он, тут? Который?
– Слушаю, товарищ генерал-лейтенант! – выдвинулся из-за его плеча рослый, не ниже генерала, но только иного сложения, сухой и костистый, с молодою бородкой на смуглом моложавом лице подполковник Федянский, прикладывая к козырьку руку – не просто обыкновенным, принятым уставным жестом, а полным особого артистизма, – как это было у офицеров прежних времен.
Мартынюк пристально вгляделся в начальника штаба. Было видно, что Федянский не вызвал у него расположения. Мартынюку, сохранившему всю свою природную основу почти в ее необработанном, неокультуренном виде, гордившемуся, что он самый натуральный, без всяких посторонних примесей, чистопородный представитель «низов», любившему показать, что и в генеральском чине он самая настоящая «плоть от плоти и кость от кости» этих «низов», и для этого, особенно в присутствии рядовых бойцов, всегда употреблявшему простой народный язык, как он его понимал, то есть сыпавшему густым матом, – не мог понравиться Федянский с его явной, бросающейся в глаза интеллигентностью в облике и манерах, с этой своей щегольской, искусно подстриженной бородкой. Со времен гражданской войны в Мартынюке осталось непреодолимое недоброжелательно-настороженное, недоверчивое отношение ко всем «образованным», как к «чуждым». А всякие выходящие за пределы устава заботы о внешности, украшательство – вроде бородок, усов, полированных ногтей – представлялись ему блажью, пижонством, на которое способны только люди пустые и опять же социально чуждые, политически не вполне надежные.
– Фамилия?
– Подполковник Федянский.
– Сразу надо называться, порядка не знаешь? Так ответь мне, штабист, и ты так думаешь, как твой командир? Или, может, другое мнение?
Закинув голову, чтобы видеть высокого Федянского, Мартынюк с ожиданием вонзился в него из-под козырька фуражки щелочками глаз.
– Я полагаю, товарищ генерал-лейтенант... – начал Федянский под устремленными на него с разных сторон взглядами. Обращение генерала застало его почти врасплох, он не был готов к ответу, считая, что решать будут генерал и командир дивизии сами, а ему останется только принять их решение. Но главная сложность состояла для него совсем не в этом – может или не может дивизия идти немедленно в бой, вопрос генерала содержал в себе гораздо большее, и Федянский замялся, растягивая для времени слова, думая с такою напряженностью, что у него даже закололо в висках.
– Ну, так что?
Быстро, искоса, Федянский взглянул на Остроухова – в его движении были и смущенность, и колебание, и нелегкая внутренняя борьба. Остроухов стоял с опущенной головой, угрюмо глядя на носки своих сапог; вид у него был отсутствующий, казалось, он совсем безразличен к тому, что ответит Федянский.
– М-м... мое мнение... – протянул опять Федянский. И вдруг у него точно открылось какое-то совсем другое, свободное дыхание. – Я считаю, товарищ генерал-лейтенант, можно было бы и сейчас... Дивизия крепкая, народ в ней надежный, коммунистов и комсомольцев больше шестидесяти процентов. Под Смоленском и Ельней наши части и не так еще в бой вступали. А ведь творили чудеса! Опыт войны показывает...
– Вот видишь, комдив! – больше уже не интересуясь Федянским, воскликнул Мартынюк, живо поворачивая к Остроухову свой грузный, плотно обтянутый кителем торс. – Слышишь, что твой начштаба говорит! А ведь он тоже за дело отвечает, и люди ему не меньше твоего дороги…
– Сутки, сутки! – отрицательно качая головой, не глядя ни на генерала, ни на Федянского, упрямо произнес Остроухов как окончательное и последнее свое слово и отошел в сторону, показывая этим, что он устраняется и пусть генерал решает без его участия, единолично, своей властью.
В стороне был сухой, надтреснутый пень. Остроухов, двинув за спину полевую сумку, висевшую на ремешке через плечо, сел на этот пень, сломил с соседнего куста ветку и стал обрывать с нее листья. Листья падали ему на колени, на сапоги, измазанные грязью лесных оврагов и ручьев, покрытые желтой дорожной пылью. Все сто двадцать верст комдив прошел вместе с колоннами, своими ногами – то с одним батальоном, то с другим. Он мог бы ехать на лошади, у него была положенная ему отличная верховая лошадь с удобным кавалерийским седлом, но Остроухов даже ни разу на нее не сел – щепетильная совестливость не позволяла ему пользоваться привилегией, когда вся дивизия надрывает силы в пешем марше...
За кустами, не видный с поляны, погромыхивал город. В вышине басовито, назойливо проникая в уши, гудели истребители, описывая крутые петли.
Адъютант за спиною Мартынюка снял с руки перчатку и с осторожностью, наклоняясь, потянулся, желая поправить на генеральской шее повязку.
– Чего тебе? – вздергивая от его прикосновения плечами, раздраженно обернулся Мартынюк.
– Течет, товарищ генерал-лейтенант...
– Отстань! – отмахнулся генерал.
Свита его молчала. Лица командиров, каждое по-своему, были как бы экранами, на которых отражалась вся напряженность происходившей между комдивом и командармом сцены. Когда Остроухов отошел и сел на пень, в генеральской свите переглянулись. Было ясно, что спор подошел к кульминации и у генерала сейчас последует вспышка ярости. Эти бывшие с ним майоры и полковники из штаба армии хорошо знали, каким свирепым может быть генерал, какое ослепление может на него нападать, на что бывает он способен в припадках своего несдерживаемого гнева. Мартынюк мог с налитыми кровью глазами вытащить пистолет, мог собственноручно, не вникая ни в какие оправдывающие обстоятельства, невзирая на звание, сорвать с командира, которого он считал виновным, знаки различия и тут же отправить штрафником на передовую – это считалось еще милостью – или в суд трибунала, который не знал никаких снисхождений и отвешивал наказания только по высшей мере.
Здесь, на поляне, с Мартынюком был кое-кто из тех, кто видел и помнил такие сцены...
Минуты шли.
Мартынюк с налитым краской лицом молчал...
Мартынюк вовсе не был глуп, как могло показаться тем, кто видел его на этой поляне в первый раз, и как уже думал о нем Остроухов. Генерал тоже воевал не первую войну, представлял реальное соотношение сил обеих сторон под городом и, хотя энергично, напористо наседал на Остроухова, отдавал себе отчет, к чему может привести немедленное наступление. Не будь в нем этого скрытого для глаз понимания, он, известный своим крутым характером, конечно, не стал бы так долго пререкаться с Остроуховым, не позволил бы ему обсуждать свои распоряжения, а сразу же, после первой же попытки возражать, расправился бы с ним по всей строгости военного времени, как поступал он в других подобных случаях, когда нарушали основной принцип военной дисциплины, без которого не может существовать армейский механизм: приказ командира для подчиненного закон.
Если бы Мартынюк в командовании сражавшимися под городом войсками руководствовался только своею волею и своим разумением, он вообще распорядился бы по-другому с подошедшей дивизией Остроухова. Но в действиях своих, несмотря на высокое звание, положение и власть, Мартынюк, сам представлявший лишь одну из деталей военного механизма, был так же несамостоятелен и несвободен, как были несамостоятельны и несвободны те, что находились у него под началом и должны были исполнять его волю.
Еще две недели назад Мартынюк возглавлял армию вдали от этих мест, совсем на другом – на северном театре войны. Дела у него там шли неплохо. Не потому, что это зависело от Мартынюка и было результатом его умения, таланта, – просто так получалось, складывалось. Но наверху, очевидно, считали, как считал это и сам Мартынюк, что причина – в умении и организаторских способностях командующего.
Потом его внезапно, не объясняя – почему, зачем, вызвали в Москву.
Командующий армией, которой теперь командовал он, был обвинен в серьезных ошибках, имевших своими последствиями то, что противник сумел прорвать фронт и оттеснить армию на двести с лишним километров к востоку, и Мартынюк распоряжением первого в государстве лица был назначен взамен смещенного с должности и пониженного в звании командарма. Для Мартынюка это было высокой честью. Разговоры в Ставке с высшими военными руководителями оставили в нем питающее его честолюбие впечатление, что его рассматривают как военачальника, который только и может исправить трудно сложившуюся критическую обстановку на В-ском фронте, спасти опасное для судеб всей страны положение.
Никогда еще Мартынюк не исполнял подобной задачи, никогда еще на него не возлагали столь ответственный и значительный долг. В гражданскую, хотя им было проявлено немало доблести, получено немало рубцов и шрамов от белогвардейских пуль и сабель, подняться высоко Мартынюку не довелось. Долгие годы потом он находился в массе среднего комсостава, совершенно в ней затерянный, не рассчитывая на какое-либо серьезное повышение, не ожидая его – из сознания, что место, на котором его держат, вполне по его заслугам и способностям и претендовать на большее у него нет оснований. И только после тридцать седьмого года, когда армия осталась без многих своих высших командиров и надо было заполнять пустые места, Мартынюк, несколько даже смущенный своим везением, внезапным поворотом судьбы, ходко двинулся вверх по лестнице должностей и званий. Он не сразу освоился со своим новым положением, не сразу принял его как должное. Но когда ввели генеральские звезды и Мартынюку присвоили генерал-лейтенанта – с публикацией Указа Верховного Совета во всех газетах, с оглашением этого Указа перед личным составом всех воинских подразделений и частей, когда на Мартынюка посыпались со всех сторон поздравления – от правительства, Наркомата обороны, старых боевых товарищей, сослуживцев и подчиненных, – это взволновало Мартынюка до скупых солдатских слез и окончательно освободило его ото всяких на свой счет сомнений. С солдатской же прямизною мысли он утвердился в вере, что повышают его не зря, это не просто дар судьбы. Значит, так действительно надо – начальству виднее, кто что сто́ит, кому где надлежит быть...
Польщенный доверием, оказанным ему в Москве, счастливый от высокой оценки своих способностей, исполненный самоотверженной готовности не пощадить ни сил, ни жизни своей, но сделать то дело, какое от него ждут пославшие его лица, Мартынюк вылетел к расстроенной, отступающей армии, потерявшей в отступлении три четверти людского состава, почти все свои накопленные за зимние месяцы боематериалы, запасы продовольствия, снаряжение, технические средства.
Обстановка на фронте выглядела значительно сквернее, чем знали это в Ставке и чем представлялось это Мартынюку из Москвы. С той минуты, как доставивший его самолет приземлился на полевом аэродроме, Мартынюк ни в одну из ночей не сомкнул по-настоящему глаз. Занимаясь сразу и фронтом, и тылом, военными операциями и снабжением войск, лично вникая во все, от чего зависело состояние армии, Мартынюк сверхпредельным волевым напряжением, крутыми мерами сумел несколько укрепить армию, поднять ее упавший дух, ее боевую способность, замедлить отход. Он старался как только мог, в самом деле не щадя себя, постоянно рискуя жизнью: носился по всему фронту армии на избитом пулями и осколками бронированном вездеходе, на трудных участках лез в самое пекло, как будто бы личная доблесть командующего могла что-либо значить в этой войне, даже получил легкое ранение – осколком в шею.
Но, несмотря на все меры, на все усилия Мартынюка, положение не только не выправлялось – день ото дня становилось хуже. Истощенная, на ходу подлатываемая армия продолжала отступать, отдавая рубеж за рубежом.
В Ставке пристально следили за событиями на участке армии, каждую ночь Мартынюку через штаб фронта звонили по прямому проводу из Москвы. Он чувствовал – им и его действиями недовольны, в слабости его руководства находят одну из главных причин того, почему армия не устояла перед городом, не удержалась в самом городе, до сих пор не нанесла противнику серьезного поражения. Как будто Мартынюк действительно мог повелевать событиями! Он ссылался на недостаток людей, вооружения, просил пехоту, просил танки, артиллерию, просил средства для борьбы с немецкой авиацией, которая господствовала над полем битвы и причиняла войскам немалый урон. А в ответ, не обещая скорой и существенной помощи, требовали активности, немедленного возвращения города, требовали непрерывных наступательных действий, требовали отвлечь на себя и сковать новые силы противника, чтобы облегчить участь других армий, особенно южнее, в большой излучине Дона, где тоже уже много дней подряд гремело гигантское, все укрупнявшее свои масштабы сражение.
Накануне ночью с Мартынюком снова говорили по прямому проводу. На этот раз его соединили с тем, к кому сходились все нити управления войною, чье одно имя вызывало в преданной душе Мартынюка, в прошлом простого неграмотного крестьянского парня, начавшего в гражданскую свою воинскую биографию с дырявой шинели и обмоток рядового красноармейца, почти религиозное благоговение.
Мартынюк несказанно оробел, но вместе с тем и обрадовался. Он полагал, что управляющий войною человек вызывает его для того, чтобы выяснить реальное положение на фронте, реальное состояние армии, и, поскольку он всегда и во всем провозглашал научный подход, отправляясь от этих реальностей, пересмотрит определяемую для армии задачу и поставит ту, которая ей по силам. Предполагая, что такой разговор может состояться, Мартынюк заблаговременно набросал на листе бумаги все цифры, все данные, иллюстрирующие положение, и держал этот листок в руке.
Но он обманулся в ожиданиях. Его ни о чем не стали спрашивать, как будто реальное состояние армии для говорившего не имело сколько-нибудь серьезного, определяющего значения, а главное для него представляла только директива, которую он дал, по-видимому, считал правильной и не хотел отменять, как вообще никогда не отменял каких-либо однажды им данных директив, дабы не повреждалась вера в его непогрешимость и гениальность. Разговор сразу же пошел не в направлении – способна ли армия выполнять предписанные ей задачи, а только о том, что армия должна их выполнить. Характерный, сразу узнанный Мартынюком голос был резок. У Мартынюка, когда он докладывал обстановку, непроизвольно и неостановимо подрагивали руки, державшие трубку, листок бумаги, подрагивали губы, даже подрагивало что-то внутри живота. Он все перезабыл, что хотел сказать и что надо было сказать – что войскам нужна передышка, что они нуждаются в серьезном пополнении, переформировке, что те небогатые резервы, которые ему направлены, он считает нецелесообразным бросать по частям на противника, а подождет, пока они поднакопятся, соберет их в ударный кулак, ибо иначе ничего не выйдет, никакого ощутимого нажима на немцев не получится, город не будет взят и немецкие силы с других участков не будут отвлечены.
От Мартынюка немногословно и веско снова потребовали решительных и немедленных наступательных действий, занять город любой ценой, во что бы то ни стало.
– Наши славные воины, простые советские люди, способны сдвинуть горы, когда ими правильно руководят. Вы должны осуществить такое руководство. Мы ждем этого от вас!
Что было ответить? Сказать, что требования неисполнимы, потому что не связаны с действительными возможностями, не учитывают их, пренебрегают ими? Сказать, что ждать нечего, он не справится, как и никто другой не сумел бы справиться на его месте?
Вся репутация Мартынюка, сложенная за долгую службу в армии, все им достигнутое – ранениями, тяжкими трудами, беззаветной отдачей всего себя делу, долгу – стояли на карте в эти минуты.
И Мартынюк, ощущая это, так и не отважился заявить правду, побоявшись все в миг потерять, в раболепной придавленности именем говорившего, его негромким голосом, с которым за всю историю, как зазвучал он в стране, все только соглашались, который парализовывал волю, ум, совесть и не таких, как Мартынюк, людей... Глуховато и осипло от волнения, по-солдатски строя свою речь и почти в солдатских же выражениях Мартынюк заверил, что армия выполнит директиву, а он, Мартынюк, примет со своей стороны для этого все надлежащие меры.
Закончив разговор и опомнившись, он понял, каким гибельным для себя и своих солдат обещанием он себя связал. Но сделать было уже ничего нельзя. Оставалось только выполнять.
И Мартынюк, раскаиваясь и казнясь в душе, принялся выполнять. Не подавая виду, скрывая, что он сам первый не верит в успех дела, он дал приказ штурмовать утром южную оконечность города. Казнясь, но опять даже ближайшим сподвижникам не открывая себя, приехал он на своем вездеходе и сюда, на лесную поляну, навстречу подходящей дивизии...
– Когда твои люди в последний раз ели? – после длительной паузы, не снижая своего грозного тона, обратился к Остроухову Мартынюк.
– По-настоящему, горячую пищу – двое суток назад, в эшелоне. На марше получали только сухари, сало и по пятьдесят граммов сахара.
– Кухни с тобой?
– Подходят.
– Сколько надо на кормежку и отдых?
Остроухов продолжал в хмурой сосредоточенности обрывать с ветки листья.
– До рассвета.
– Когда должны прибыть артиллерия и третий полк?
– Не раньше полудня.
– Поздно. Почему такой разрыв в движении?
– Так следовали эшелоны.
– Чем тянут орудия?
– Лошадьми.
– Сивками-бурками, вещими каурками!.. – И Мартынюк прибавил для соли крепкое выражение. – Пошлем навстречу грузовики за пехотой и автотягачи. Кровь из носу, а к утру пушки должны быть на позициях!..
– Дороги в лесу скверные, узкие. Есть крутые балки, топкие места. Тягачи там не пройдут. Лошадьми вернее.
– Ничего, тягачи у нас тоже не плохи. Где поставить орудия – прикинул уже?
– Это смотря по тому, какой будет назначен дивизии исходный рубеж...
– Карта у тебя есть? Карту! – бросил Мартынюк в пространство адъютанту.
Поспешно расстегнув планшет, тот достал смятую, потрепанную на сгибах карту местности в разноцветных карандашных пометках.
Лица командиров, окружавших Мартынюка и Остроухова, как дивизионных, так и тех, что сопровождали генерала, медленно светлели, тень, лежавшая на них, сползала. Хотя Мартынюк был все еще грозен и каждую свою реплику бросал с рыву, все уже почувствовали, что Остроухов победил, что генерал уже отказался от своего первоначального решения, которое никто не одобрял и в его штабе.
Остроухов тоже достал свою карту, раскрыли планшеты и другие командиры дивизии: командиры обоих полков, начальники полковых штабов; кружок вокруг генерала сомкнулся плотнее, натянутая обстановка несколько разрядилась, стала посвободнее; присев на край канавы, где сидел генерал, расстелил на коленях план местности и подполковник Федянский...
Разговор пошел по-деловому: в каком построении расположить полки, где поместить командные и наблюдательные пункты, как лучше проложить связь между подразделениями и от того оврага, где решили поместить штаб дивизии, до командных центров армии, до НП Мартынюка. Дивизионные командиры спрашивали о противнике, метили свои неиспятнанные свежие карты значками, нанося немецкий передний край, пулеметные точки, расположение артиллерии, минометных батарей. Сведения о противнике были скудны и нечетки. Спутники Мартынюка, среди которых был и начальник оперативного отдела штаба армии, знали, что в выступе, образованном немецкими войсками с занятием города и имеющем протяжение с севера на юг до двадцати километров, ведут боевые действия две дивизии – механизированная и пехотная, но не знали их численности, не могли сказать также ничего точного о танковых группах, находящихся в районе города.
Самые смутные сведения были о северной окраине, на которую должны были наступать полки. Мартынюк и его штабисты высказали твердое убеждение, что немцы здесь выдохлись окончательно, ибо, заняв здание больницы, они резко сбавили свою активность, не делали попыток продвинуться дальше, а только укрепляли свой передний край.
Но вот это-то известие и показалось Остроухову наиболее тревожным: что именно и в каких местах успели они соорудить? Какими средствами усилили свою оборону? Мартынюку это не казалось столь уж важным: что там они могли нарыть за несколько часов? Но Остроухов знал немцев, их инженерную сноровку, знал, во что превращаются улицы и дома, если в стенах появляются амбразуры, а на перекрестках – бетонные колпаки с прорезями для пулеметных стволов, знал то, чем могло все это стать для наступающей стороны. Недовольный скудостью информации, тем, что Мартынюк, пренебрегая нужными сведениями, не позаботился о разведке, о наблюдении за противником, Остроухов, разглядывая карту, хмурился и покусывал кончик карандаша...
Горячность постепенно остывала в Мартынюке. Тон у него сохранялся еще сердитый, с ворчливыми нотками, но уже без той властности и категоричности, как поначалу. Этой своей сердитой ворчливостью Мартынюк явно старался создать впечатление, что он делает не что иное, как только уступку, послабление упрямому Остроухову, тогда как делать этого никак нельзя. Он даже настолько простер свою терпимость, что согласился назначить точное время наступления позднее, когда определится главное – как скоро сможет прибыть и занять намеченные для него огневые позиции артиллерийский полк.
Часы эти можно было примерно высчитать, и по ним выходило, что дивизия пойдет на штурм города не раньше середины следующего дня...
Начальник штаба дивизии подполковник Федянский за свою тридцатидвухлетнюю жизнь сменил немало всевозможных увлечений, стремлений, интересов. В детстве, учась в девятилетке, живя в городе, возле которого не было даже приличной реки, мечтал о необыкновенном – стать капитаном дальнего плавания. Потом под влиянием книг о путешественниках он хотел быть ученым, исследователем восточных культур, забытых уголков мира, извлекать на свет тысячелетние тайны могильников и курганов. Видел он себя и дипломатом, влияющим на судьбы народов, врачом, избавляющим человечество от болезней, знаменитым писателем. Биография его сложилась иначе. В двадцать лет – тогда было неспокойно на ДВК, и комсомол бросил призыв: лучшую молодежь на укрепление командных кадров армии и флота – Федянский, подходивший по общеобразовательному уровню и соцпроисхождению (из трудовой семьи – отец служащий заводской конторы, мать – учительница начальных классов), пошел на военную службу, на специальные командирские курсы. Последовали годы сурового армейского быта, снова всякие курсы. Море, корабли, пирамиды – все это вспоминалось уже только с улыбкой. Но одно все-таки осталось в Федянском от детства и юности – зависть к людям сильной воли, больших судеб, борцам и героям и желание самому походить на те сильные, яркие, благородные характеры, которые были в любимых им книгах. Это желание было для Федянского не только одним из его жизненных стимулов, но еще и главным образом источником его частого недовольства собою, источником его частых внутренних терзаний, ибо действительными своими качествами Федянский далеко не походил на того человека, каким хотел себя видеть. Он хотел обладать мужественной прямотою во всем и всегда, прямотою, которая ни перед чем не отступает, ничего не боится, не знает унизительных компромиссов, которая выглядит так привлекательно и красиво, когда ее являет людям чья-нибудь сильная человеческая душа, хотел обладать той чистотою совести, когда даже строгая саморевизия не может обнаружить ни единого пятнышка грязи, хотел быть чуждым всяким низким страстям – карьеризму, себялюбию, тщеславию, корысти... А был таким – нестойким и нетвердым, когда нужны были крепость и сила характера, пасующим перед наглостью и злом, постоянно обремененным мелочными, суетными заботами честолюбия, неравнодушным к служебным успехам других, способным покриводушествовать и полицемерить, даже прямо солгать, если инстинкт нашептывал, что в личных интересах так будет удобнее и выгоднее. Он хотел быть добрым и великодушным с подчиненными, ему импонировала роль заботливого, справедливого начальника, которого искренно любят и уважают, но почти всегда он бывал с подчиненными холоден и резок, мог сорвать на них раздражение, не умел удержаться от того, чтобы не подчеркнуть разделяющую его и их дистанцию. Подчиненные признавали его знания, профессиональную подготовленность, ум, но боялись его, сникали в его присутствии, и той любви, которую он хотел к себе видеть, в них не было. Он хотел быть добрым и простым товарищем в среде равных по званию, по положению, но и это у него не получалось – он не мог сдержать в себе иронию, насмешливость, часто демонстрировал свое интеллектуальное превосходство; людей это обижало, они инстинктивно, в целях самозащиты, стремились от него отгородиться, и фактически в среде сослуживцев он пребывал в одиночестве, близких друзей среди них у него не было. Он нравился женщинам своей красивой внешностью, элегантностью, остроумием, у него было немало романов и связей, но он не спешил жениться, банальное и обыкновенное в этой сфере чувств удовлетворить его не могло, он все ждал, что придет нечто особенное, той силы, той утонченности, какие требовала его натура. Но когда в жизни Федянского появилась такая женщина и чувство к ней захватило Федянского до головокружения и понесло, как половодье, как умеет нести только оно, когда нельзя опомниться, разобрать – куда, зачем, на какой будешь вынесен берег и будешь ли вынесен вообще или бурлящая пучина захлестнет, поглотит тебя, – Федянский первый же испугался слепой стихийной силы, во власть которой попал, испугался неизвестности впереди, того, что этой неизвестности надо отдать себя целиком и полностью и ни о чем не спрашивать, не ставить никаких условий... Для него всегда была трогательна забота взрослых детей о своих старых родителях, он умилялся, если читал об этом в книгах, видел на сцене, но своим родителям писал редко, скупо, даже нерегулярно посылал деньги; если же получал отпуск, то ехал на Кавказ, в Крым, проводил там время с большим для себя удовольствием; в тот же город, где родился, в тот дом, где уже много лет не был и где его ждали так, как не ждали нигде на свете, посылал лишь пару-другую открыток с видами моря и гор и какой-нибудь простенький сувенир, из тех, что во множестве продаются в пляжных киосках... Всякий раз, сорвавшись и осознав потом свой проступок, свою слабость, свое падение с моральных высот, на которых он хотел пребывать, Федянский остро мучился, корил себя, давал зарок, но проходило время, выпадал другой случай, и Федянский непроизвольно оступался вновь, чтобы потом вновь внутренне страдать, презирать себя и вновь давать самому себе клятвенные обещания...
Когда накаленный Мартынюк спросил его мнение, считает ли он возможным для полков выступить на штурм немедленно, и он ответил утвердительно, то ответил так не потому, что действительно так думал. В действительности он, кадровый военный, человек с фронтовым опытом, был убежден в обратном и думал согласно с Остроуховым. Он ответил утвердительно потому, что его недремлющее и верное чутье, на внутренних весах уже взвесившее ситуацию, подсказывало ему, что именно такой ответ нужен от него генералу и будет наиболее благоприятен своими последствиями для него, Федянского, ибо отстранение Остроухова от должности казалось уже совершенно очевидным.
Потом, когда отстранение не состоялось, Федянскому стало стыдно перед Остроуховым за свой ответ. Комдив должен был понять и, конечно, понял истинные причины, по которым Федянский скриводушничал. Это чувство стыда перед Остроуховым присутствовало в Федянском все время, пока на поляне над картами шло совещание. Из-за этого чувства Федянский даже избегал прямо взглядывать Остроухову в лицо, избегал к нему обращаться и с внутренним смущением ждал того неизбежного момента, когда дело потребует от них, чтобы они заговорили друг с другом.
Солнце закатывалось, его последние слабые лучи розовато красили только верхушки деревьев, а вся поляна была уже в синеватой тени. Город, которого не видал еще никто из дивизии, глухо, протяжно погромыхивал за зеленью леса обвалами стен и этажных перекрытий выгорающих зданий; сухо и мелко потрескивала где-то на южной окраине ружейная перестрелка.
Генерал уехал, предоставив Остроухову и командирам дивизии самим заниматься приготовлениями к завтрашнему дню. Генеральский вездеход на гусеничных траках пошел по лесу напрямик, без дороги – было долго слышно, как он взревывает могучим мотором, как трещат подминаемые его стальными гусеницами кусты и молодая древесная поросль.
Солдаты обоих полков, исчернив весь лес ячейками и щелями, которые было приказано им отрыть, кому как пришлось спали между деревьями на земле, положив под головы шинельные скатки или вещевые мешки. Каждый овраг, каждая балка были едва ли не сплошь выстланы недвижными телами спящих, и лишь там, где находился оставленный часовой или от сильной усталости и ломоты в ногах не шел к человеку сон, глаз улавливал живое шевеление, струйку махорочного дымка.
Уже подъехали кухни, расположились в самых глубоких, затененных оврагах; в их топках пылал огонь, повара черпаками помешивали в котлах закипающее варево.
Казалось, ничто не способно пробудить, поставить на ноги спящих солдат – так явственна была давящая тяжесть усталости, что свалила их на землю, так непреодолим и глубок был их сон.
Но вот забегали связные, зазвучали голоса старшин: «Па-ады-майсь!» И лес снова наполнился неясным, смутным шумом присутствия большого войска. Подчиняясь командам, солдаты, вначале полусонно, вяло, в бессознательности привычных движений, но затем все более оживая, вставали с земли, отряхиваясь от приставшего к одежде сора, надевали на плечи скатки, лямки вещевых мешков, становились в строй. Роты одна за одной оставляли временно приютившие их овраги и балки с нарытыми и так и не понадобившимися окопчиками и ямами и передвигались поближе к опушке леса, где в неглубокой канаве, за которой темнело открытое поле и виднелся горящий город, в бездеятельности, томясь даже не отвечая противнику на выстрелы, затиснувшись в узкие стрелковые щели, лежали бойцы, последние из тех, что вступили в В-ское сражение с самого его начала, те немногие счастливцы, которым довелось выжить, уцелеть, они уже знали, что подошло подкрепление, что их сменят, и с нетерпением этого дожидались.
– Охо-хо, когда же все-таки поумнеем! – с сердцем сказал мрачный, злой, озабоченный Остроухов, поговорив с командирами отходящих в тыл частей и убедившись, что и они ничем особенно не могут пополнить его сведений о противнике и дивизии предстоит действовать почти вслепую, ничего конкретно не зная о немецкой обороне. – Когда ж наконец возьмем в толк, что война – дело серьезное! Во что только нам это уже обошлось! А все самохвальство проклятое, если вникнуть, – все это от него... Считалось – моральную силу укрепляем. А оно – бедой нашей стало!.. Как, лейтенант, ты вот на своей шкуре испробовал – верно я говорю?
Молоденький младший лейтенант, усталый, грязный, с потеками пота на запыленном лице, сменивший в утреннем бою возле городской больницы последовательно три должности – командира взвода, командира роты и сейчас числившийся командиром батальона, неопределенно и стеснительно улыбнулся в ответ с поваленного дерева, на котором сидел напротив комдива, и промолчал, не решаясь вступать в обсуждение таких сложных проблем. Младшему лейтенанту хотелось сейчас одного – напиться досыта чистой прохладной воды, скинуть с горячих ног сапоги, пропревшие портянки и завалиться куда-нибудь спать, под куст, в солому – все равно куда, лишь бы не на передовой, чтоб впервые за много суток отдаться сну полностью, без невольного, инстинктивного прислушивания ко всем звукам вокруг, без всякой памяти о войне, превращающей короткие пятиминутные подремывания на передовой во что-то похожее на болезненные помрачения сознания.
Остроухов склонился над картою, которую держал сидевший рядом с ним Федянский, некоторое время внимательно вглядывался в значки и линии, потом указал пальцем:
– Вот тут обозначена среди леса сторожевая вышка, – цела она? Направьте туда людей, пусть выяснят. Сколько до этой вышки отсюда?
Федянский приложил к карте масштабную линейку:
– Шестьсот метров.
– Будет с нее виден город?
– Думаю – будет. Высота ее не указана, но по рельефу видно – стоит на возвышенном месте.
– Если цела – пусть дадут к ней связь. Полезу, погляжу своими глазами, где нам воевать... И вы со мной, вам это тоже пригодится...
– Хорошо, Устин Иванович... – готовно ответил Федянский. Не прекословя, он исполнил бы сейчас любое приказание комдива, полез бы с ним не только на вышку, но и к немцам на передовую, лишь бы обелить себя в его глазах.
А Остроухов вел себя, будто и не собирался ни в чем укорять своего помощника, то ли поглощенный своими заботами, то ли намеренно решив промолчать, оставить у него на совести стыдный для него эпизод.
Вышка оказалась цела. Когда комдив и Федянский подъехали к ней на верховых лошадях, связисты уже подняли на смотровую площадку полевой телефон, а саму площадку для маскировки обгородили зелеными ветками.
– Видать город? – спросил Остроухов у старшего над связистами, сержанта, белобрового, крепкого сибиряцкого сложения паренька, отдавая ему поводья.
– Видать, товарищ полковник, – сказал сержант, приматывая поводья к одной из бревенчатых опор вышки. – Только дымящем все позакрыто, как в тумане... А конек-то ваш голодный, глядите, как он к веткам тянется. Спутать его, что ль, чтоб он тут пока попасся?
– Ну, спутай, спутай, – отозвался Остроухов, занятый своими мыслями и явно пропуская мимо сознания то, что говорит ему сержант про коня.
Длинную отвесную лестницу на площадку давно не чинили, иных ступеней в ней не хватало. Остроухов потряс ее, проверяя прочность, полез вверх. Был он не тяжел, но лестница от его веса и движений зашаталась, заскрипела снизу до самого верха.
Следом за ним, немного выждав, отправился Федянский, от непривычки лазить по таким лестницам неловко перебирая руками и неуверенно ставя ноги, с тайной неохотой расставшись с землею, где частые древесные стволы и густая зелень давали чувство защищенности.
Город, придавленный дымной, до черноты ночи сгустившейся у нижнего края тучей, неподвижно стоявшей в половину всего вечернего небосвода, казался значительно более удаленным от леса, чем показывала карта. В дыму желтели, взблескивали языки пламени, медленно лизавшие костяки зданий, уже выглоданных изнутри огнем, сквозивших пробоинами, пустыми дырами окон.
Ближе всех других строений сквозь дым и белесый вечерний туман, растекавшийся из котловины парка по голому пустырю перед городом, могучим монолитом, угловатой несокрушимой скалою высилось здание городской больницы. Тусклый закат отсвечивал в сохранившихся кое-где стеклах, но в целом громадная, молчащая масса бетона и камня выглядела темно и мрачно, зримым воплощением той грозной, беспощадной силы, что затаилась внутри, господствуя надо всем обширным окружающим пространством.
Остроухов поднес к глазам бинокль. Крепость! Ах, что было бы, если бы у него не хватило характера восстать против генеральского приказа! Выйти против такой твердыни без артиллерийской поддержки! Нет, пока пушкари как следует не поработают – пехоте туда и близко нельзя соваться!..
И еще одно небольшое событие, оставшееся известным лишь малому числу лиц из немецкого командования и рядового состава, но косвенно отразившееся на дальнейшем ходе военных действий в районе города, произошло в этот день 18 июля.
Рано утром, в то время, когда головные колонны дивизии Остроухова еще тянулись по лесным дорогам далеко к северо-востоку от города, медленно к нему приближаясь, с западной стороны, из глубокого немецкого тыла, по пыльному шоссе в городские пределы мягко и почти бесшумно въехала на большой скорости низкая, приплюснутая к земле легковая автомашина, как все фронтовые автомашины, по-тигриному испятнанная желто-бурыми полосами и разводами, с пучками сухих и свежих веток на крыше и по бокам. Специальное тавро на ее бортах указывало, что машина принадлежала штабу армейской группировки, к которой относились и сражавшиеся в районе захваченного города войска.
В начале первой же городской улицы машину остановил патруль во главе с рослым унтер-офицером, украшенным знаком участника зимнего сражения под Москвой. Рассмотрев поданные ему из машины документы, он, с дружелюбием и интересом обратив глаза на единственного пассажира, помещавшегося на переднем сиденье рядом с шофером, отдал ему честь – не просто как воинское приветствие, но выразив свою особую почтительность, и жестом показал солдатам, чтобы те отвели в сторону полосатую перекладину шлагбаума, преграждавшего дорогу. Машина, покачиваясь на неровностях булыжной мостовой, касаясь земли концами свисавших веток и пыля ими, покатила дальше, среди других автомашин, преимущественно грузовых, въезжавших в город и выезжавших из него.
Через минуту шоферу пришлось резко сбавить ход и с осторожностью провести машину в узкую брешь, специально для проезда транспорта проделанную в баррикаде из ящиков и мешков с песком. Такие баррикады, развороченные снарядами, подтверждавшие всем своим видом, как упорно обороняли русские город и как нелегко было его взять, встречались на городских улицах почти на каждом перекрестке. Одна из баррикад хранила следы особенно ожесточенной борьбы Пассажир остановил машину, вышел и со вниманием осмотрел баррикаду с обеих сторон, устроенные в ней узкие бойницы для винтовочных и пулеметных стволов, немецкий танк, как видно, пытавшийся на полном ходу протаранить толщу мешков с песком и застрявший в них, валяющиеся русские и немецкие каски, пустые патронные ящики, неиспользованные ручные гранаты, гильзы, автоматные диски, разбитое, искривленное, негодное оружие.
Единственный пассажир машины, одетый в форму офицера полевой армии, сшитую и пригнанную к его спортивной фигуре с большим искусством, чем это доступно обычным армейским портным, светловолосый, не старше тридцатипятилетнего возраста, в дымчатых очках, втопленных в глубь широких глазниц, под крутые надбровные дуги, с пристальным интересом воспринимавший картину разгромленного города, – был популярный военный журналист Густав Эггер, прибывший сюда из Берлина, через ставку командующего армией, со специальным, особо важным заданием. В Берлине факт овладения городом расценивали очень высоко. По распоряжению фюрера отличившимся в боях было роздано большое количество железных крестов. На Густава Эггера возлагалась почетная и ответственная миссия: побывать на отвоеванной территории и затем в статьях и фотоснимках еще раз показать немецкому народу оправданность несомых им тягот и жертв – показать, сколь крупна и значительна последняя победа на Восточном фронте, Сколь блестяще она опять демонстрирует высокую боевую доблесть немецкой армии, какие тяжкие, невосполнимые потери вновь понесли большевики, какой удар совершен по их экономике, по их военно-производственному потенциалу с отнятием у них такого мощного промышленного центра, – где многие тысячи рабочих с предельным напряжением днем и ночью трудились для обеспечения нужд советской армии.
В Министерстве пропаганды перед отлетом из Берлина на фронт Эггера предусмотрительно снабдили подробными справочными сведениями, которые могли понадобиться для составления корреспонденции и которые ему рекомендовали обязательно использовать, чтобы подчеркнуть значительность русского города и тем самым значительность нового успеха германских вооруженных сил. В стройном порядке, по разделам, в записную книжку Эггера были переписаны данные о географическом положении города (более тысячи километров от границы – вот как далеко уже пронес немецкий солдат свою власть!), о его героическом прошлом (в русской истории еще не было эпизода, чтобы этот город подвергся иностранной оккупации), о месте и значении в системе других городов Советской России (такое-то место по производству каучука, такое-то – по производству электроэнергии, авиамоторов, железнодорожного подвижного состава, прочих стратегически важных средств). В блокнот Эггера были также вписаны названия всех существовавших в городе заводов с подробными указаниями на характер и количество выпускаемой продукции и на численность обслуживавших их рабочих.
Кроме этих данных, Эггер также получил список командиров и солдат передовых частей, награжденных фюрером и достойных того, чтобы их боевые заслуги нашли отражение на страницах печати как примеры образцового выполнения воинского и патриотического долга.
Теперь сухим, кратким записям предстояло обрести в глазах Эггера зримую реальность, превратиться в кадры его фоторепортажей, которых с нетерпением ожидали в редакциях полдюжины берлинских иллюстрированных журналов и газет.
Чем дальше к центру, тем все гуще и удушливей несло гарью и дымом, зловонием разлагающихся в развалинах зданий трупов, тем все чернее делалось над головою небо, сумрачнее гас свет утра. Машина подвигалась медленно, шофер зорко смотрел вперед и с осторожностью выбирал дорогу, потому что мостовые и тротуары были усеяны кирпичными обломками, перегорожены сломанными деревьями, рухнувшими столбами городской электросети, опрокинутыми трамваями, издырявленными пулями и осколками, грузовыми автомашинами, военными фургонами и повозками, которые бросили при отступлении советские войска.
Не в первый раз видел Эггер отбитый русский город, но этот, пожалуй, не шел ни в какое сравнение с другими – так был он истерзан, изранен. В кварталах, составлявших его центр, все дома подряд были лишены стекол, на штукатурке, точно свежие кровоточащие раны, краснели глубокие борозды от полоснувших осколков. Так же кровоточаще, лучистыми звездами разной величины алел вырванный до половины кладки кирпич в тех местах, где пришелся прямой удар мины или снаряда; там, где удар был посильнее, зияли дыры, окруженные трещинами, змеисто разбегавшимися по плоскости стен. Крыши, испытавшие попадания авиабомб, кривились горбато, сдвинуто, развороченное железо свисало с них рваными лоскутами. Многие здания, выжженные изнутри, представляли пустые, зачерненные копотью коробки, едко вонявшие гарью. Иные дома только загорались, неохотно поддаваясь огню, другие горели во всю силу, жарко, уже неостановимо, клубя в и без того черное небо облака жирной сажи; горящие головешки отрывались от оконных рам, огнисто-золотых ребер стропил, падали, рассыпая искры, внутрь и снаружи зданий, к их подножиям – в битое стекло, в бело-розовый щебень крупными пластами осыпавшейся штукатурки.
Во всем чувствовалась близость фронта, близость войны. В черном небе над городом моментами повисал свист снаряда, выпущенного с советской стороны, и заканчивался трескучим разрывом, который городские стены повторяли многозвучным эхо. Громыхая по булыжному покрову улиц стальными шинами несокрушимо крепких колес, влекомые могучими, откормленными русскою пшеницею конями, куда-то двигались санитарные фуры, пустые и наполненные ранеными, повозки тыловых служб с разным военным имуществом, патронами, снарядами, минами. Эггер видел саперов, что-то делавших среди развалин, телефонистов, починявших поврежденные и прокладывавших новые линии связи, подносчиков пищи, торопливо пробиравшихся в дыму вдоль обугленных стен с тяжелыми термосами за спиною, видел шагающих в сторону передовой солдат – в полном снаряжении, с автоматами в загорелых, обнаженных до локтей руках, в низко надвинутых на глаза касках, с гранатами на деревянных палках, засунутых за пояса и в голенища сапог.
На пути встретился скверик, засаженный молодыми березками и кустами сирени. Из кустов под крутым углом торчали вверх тонкие парные стволы скорострельных зенитных пушек, возле них виднелись обтянутые пятнистой маскировочной тканью каски орудийной прислуги, наблюдавшей за воздухом.
Одной из сторон сквер выходил на перекрестье улиц, сходившихся с разных направлений. Здесь, по-видимому, разыгрался один из драматичных эпизодов ожесточенной борьбы за город: площадь была загромождена обгорелыми, продырявленными танками в крестах и звездах, сомкнувшимися вплотную, лоб в лоб, с дулами пушек, в упор уставленными друг в друга или повернутыми туда, куда был дан последний выстрел. От плотного, едкого запаха горелой резины и краски, солярового масла можно было задохнуться. Что-то еще дотлевало – в двух-трех местах из-под гусениц вился прозрачный синеватый дымок. На ближайшем танке был приоткрыт башенный люк. Наполовину из него высунувшись, головою вниз, по броне башни свисал раздутый разложением труп танкиста в кожаном шлеме – с негритянским черно-бурым лицом, невероятно увеличенными в размерах, страшно выпяченными, почти вылезшими из орбит пронзительно-голубыми белками глаз. Над ним, жужжа, споря из-за добычи, вились жирные сине-зеленые мухи...
Среди зданий, расположенных по окружности площади, Эггер заметил почти не пострадавший, непонятно каким образом даже сохранивший стекла всех своих витрин павильон, на котором висела белым по черному вывеска: «Похоронное бюро». Невдалеке от этой вывески алело вылинявшее кумачовое полотнище с хорошо знакомым Эггеру меловым лозунгом: «Смерть немецким оккупантам!» Эггер улыбнулся звучанию вывески и плаката, которое они приобретали в столь близком соседстве, и, приказав шоферу приостановиться, достал фотокамеру, испытывая профессиональную радость по поводу такой удачной находки, заключающей в себе богатые возможности для разнообразного и остроумного комментирования.
Командный центр дивизии, которая первой вступила в пределы города, вытеснила из него русские войска и за эти свои успехи была отмечена в специальном благодарственном приказе фюрера, помещался в глубоком подвале многоэтажного, свежей постройки, здания школы. В верхние этажи попало несколько авиабомб и крупных снарядов, немецких и русских, но благодаря железобетонной конструкции здание стояло еще крепко, надежно защищая сверху подвал. Взамен дневного света, не проникавшего снаружи, в коридорах и отсеках подвала ярко горели электрические лампочки, питаемые аккумуляторами. Под низкими сводами было вполне комфортабельно: солдаты в изобилии натащили из окружающих домов отличную мебель, ковры, даже картины, бронзовые статуэтки и комнатные цветы в фаянсовых плошках.
О приезде журналиста штаб был заранее предупрежден, Эггера ожидали. Генерал принял его тотчас же и, так как это было время утреннего завтрака, пригласил к своему столу.
Генерал, имевший боевой опыт первой мировой войны и еще тогда удостоенный своего генеральского звания, был уже стар годами, но крепок и молодцеват на вид, как могут быть молодцеваты старики, следящие за своим здоровьем, неукоснительно соблюдающие предписанную врачами диету и, невзирая на неудобства военной обстановки, начинающие свой день с физических упражнений и холодного душа. Он принадлежал к старинной аристократической фамилии, был тринадцатым в своем роду генералом – число это, считающееся несчастливым, нисколько не смущало рациональную, не подверженную мистике душу генерала. Тем более что весь долгий жизненный путь генерала был прямым и красноречивым опровержением этого поверья – во всех своих предприятиях, как в частной жизни, так и в военных делах, генерал до сих пор был неизменно удачлив.
Даже находясь в непосредственной близости к рубежам боевых действий, генерал не считал нужным отказываться от заведенного за столом порядка и привычных удобств: чистая белая скатерть была сервирована по всем правилам, для вина были поставлены узкие бокалы на длинных ножках – в тонком хрустальном стекле искристо дробился и сверкал множеством ослепительных точек свет сильных аккумуляторных ламп. Генерал сам своею сухой костистой рукою налил густое, как кровь, темно-рубиновое французское вино, той марки, которая, по преданиям, появилась во времена еще первых французских королей и насчитывала тысячелетний возраст. Один из сыновей генерала, в чине полковника служивший в оккупационных войсках на территории Франции, недавно сделал генералу прекрасный подарок – прислал несколько бутылок этого вина, зная, как будет приятно отцу, понимающему в винах толк.
Стены подвала иногда вздрагивали от близких разрывов; резонируя, бокалы отзывались на каждое сотрясение чуть слышным певучим звоном.
Генерал не располагал временем, но из уважения к имени гостя и пославшим его лицам он, закончив завтрак, за которым говорилось не о делах, а о берлинских новостях, последних концертных выступлениях, которые интересовали генерала, любившего музыку, в особенности старинную, отдал беседе с журналистом более часа, пока тот не исчерпал своих вопросов.
Беседуя с генералом, выслушивая его ответы, Эггер с профессиональной ловкостью заполнял блокнот значками стенографической скорописи. Золотое автоматическое перо, которым он легко и бесшумно скользил по страницам, было своеобразным уникумом. Эггер гордился и дорожил им, как никакой другой вещью из своего дорожного багажа. Это перо сопутствовало ему во всех его корреспондентских поездках по фронтам, оно заносило на бумагу слова фюрера и главнейших в государстве лиц, сообщения видных военных руководителей и прославленных своими победами полководцев. Эггер таил в себе честолюбивую мысль, что когда-нибудь впоследствии, когда будет учрежден музей военной журналистики, как признание неоспоримых заслуг немецкой печати в организации военных достижений государства, этому его потрудившемуся перу будет предоставлено право заслуженно занять там место среди других почетных экспонатов.
Выйдя от генерала, Эггер не пожелал отдыхать, чувствуя свои силы после генеральского вина и кофе на самом высоком подъеме, а сразу же в сопровождении специально прикомандированной к нему охраны отправился в длительную экскурсию по городу, чтобы ознакомиться с достопримечательностями уже как можно подробней и обстоятельней. Он с удовольствием поместился в коляску на пружинное сиденье одного из двух мощных мотоциклов с турельными пулеметами, гордый своей приобщенностью к окружающему его суровому миру войны, миру сильных людей в стальных шлемах и грубом военном обмундировании. С детства воображение, Эггера было пленено поэзией Киплинга: жизнь знаменитого англичанина, отдавшего свой талант романтике войны и солдатского подвига, манила Эггера как увлекательный пример, как высокий образец, и всякий раз, посещая фронт, Эггер не мог удержаться от того, чтобы не поволновать приятно мысленными сравнениями свое тщеславие...
Стрельба вокруг города притихла – это было как раз то время, когда бой за овладение больницей закончился, а атака на южную окраину еще не начиналась.
В осматривании поверженных русских городов у Эггера был свой разработанный метод. Вначале журналиста медленно провезли по центральной улице с расположенным на ней театром, про который в припасенных Эггером сведениях говорилось, что он основан сто сорок лет назад и что в нем играл приезжавший на гастроли известный у русских актер Мочалов. И Эггер, разглядывая дореволюционные строения и дома, воздвигнутые в недавние годы, с удовлетворением отметил, что в сопоставлениях можно отыскать подходящий материал для обвинения большевиков в утрате прежней культуры, в упадке архитектурного искусства, в приверженности к тому стилю, который немецкие газеты получили указание называть наглядным выражением внутренних принципов созданного большевиками общества, «казенно-казарменным» стилем «еврейско-комиссарской» эпохи.
Потом Эггер приказал отвезти себя к городской тюрьме и очень обрадовался, увидев неподалеку от нее монумент, изображающий человека в шинели. Он сфотографировал монумент и тюрьму, совместив их в одном кадре так, чтобы это выглядело неким символом отношений между советским правительством и народом. Половина тюремного здания была разрушена, от груды кирпичей с торчащими в разные стороны балками тянуло трупным смрадом, как, впрочем, и от многих других обрушенных зданий. Эггер записал в блокнот, что НКВД бесчеловечно взорвало тюрьму вместе со всеми находившимися в ней людьми, чтобы только не оставлять недовольных советским режимом арестантов немецким частям. Обвал обнажил внутренние стены нескольких камер; взобравшись на кирпичи, Эггер поискал, нет ли на стенах каких-либо надписей, которые обличали бы большевистский режим и которые можно было бы подать в печати как неоспоримые фотодокументы. Но тюрьма, как видно, использовалась исключительно под уголовников: на стенах были выцарапаны только бранные слова и изображения половых органов.
На одной из улиц Эггеру встретились городские жители – из того числа, что не покинули город с отступающими советскими войсками, остались в своих жилищах и теперь по приказу немецкого командования выселялись на запад, чтобы, как было сказано в расклеенных объявлениях, не мешать действиям немецких боевых частей и не нести напрасных жертв. Женщины, подростки, дети, несколько мужчин пожилого возраста тащили на себе узлы, катили тачки с имуществом. Немецкие солдаты, сопровождавшие шествие, громкими голосами подгоняли толпу. Люди трусили с покорной торопливостью, налегая на оглобли тачек. Но дорогу преграждали завалы, шествие подвигалось медленнее, чем хотелось солдатам, и они, покрикивая, хватались за оглобли тележек и волокли их вперед, заставляя впряженных людей убыстрять шаг.
Остановив мотоцикл, Эггер, не выходя из него, поймал своим фотоаппаратом, позволявшим снимать с дальнего расстояния, одну из таких сцен – обвешанного оружием солдата, волокущего тачку с хрупкой, седоволосой, растрепанной женщиной в оглоблях, – вновь испытав при этом чувство профессионального удовлетворения. Советская пропаганда не устает кричать на весь мир о варварстве немецких солдат. Прекрасный снимок для немецких газет: вот он, один из этих солдат! Добрый и человечный рыцарь, он в своем природном великодушии готовно помогает мирным жителям чужой страны, затронутым военными бедствиями...
Сопровождавший Эггера офицер рассказал, что в городе есть церковь, превращенная советской властью в место осмеяния религии. Эггер пожелал ее осмотреть. Ущемление большевиками религиозных чувств своего народа составляло постоянную тему официальной немецкой печати.
Действительно, церкви было придано прямо обратное назначение: в ней были выставлены картины, опровергающие религиозные предрассудки и верования. Они изображали движение солнца и планет, животных доисторических эпох, косматых обезьян, от которых, по Дарвину, произошел современный человек. Эггер был сведущ в устройстве православных храмов – портреты Маркса, Коперника, Галилея и других разрушителей религиозных учений висели на тех местах, где прежде находились иконы и лики святых. Эггер щелкал затвором фотокамеры, досадуя, что под сводами церкви недостаточно светло и такие ценные снимки могут не получиться.
Теперь надо было увидеть то, что было серьезной потерей для большевиков и крупным стратегическим выигрышем для немецкой стороны – военные заводы. Их осмотр и фотографирование заняли основное время дня. Неторопливо, стараясь ничего не пропустить и все запомнить, ходил Эггер по цехам, остановленным в разгар своих рабочих процессов. Из-за стремительности немецкого наступления большевики почти не успели вывезти оборудование и лишь немногое взорвали или повредили.
Острыми, наблюдательными глазами вглядывался Эггер сквозь стекла очков в металл, застывший в погасших печах, в подъемные краны, продолжавшие держать не донесенные до места назначения грузы, в конвейерные ленты со скелетами рождавшихся на них приборов, аппаратов, машин и замерших в расстоянии нескольких минут, а то и секунд от момента своего окончательного рождения. На заводе, который в записях Эггера значился как производящий железнодорожные вагоны, цеха были тесно заставлены поврежденными танками. По всему было видно, что их спешно чинили до самой последней минуты.
Да, город был богатой добычей. Эггер пересчитывал станки, механизмы. Жизнь их еще не закончена, им предстоит еще поработать. В блокноте росли колонки цифр, знаменующих собой дополнительную силу, что вольется в немецкое производство. В сопровождении соответствующего текста цифры эти будут выглядеть еще эффектнее. Внушительная и умело поданная цифра – козырная карта в руках журналиста, Эггер знал это по опыту. В цифрах есть что-то неоспоримое, они всегда действуют на читателя с наибольшей убедительностью...
Близился вечер, но Эггер был по-прежнему деятелен и бодр. Его тренированный спортом организм обладал как раз той беспредельной энергией и выносливостью, которые так необходимы в профессии журналиста.
Посещение боевых частей не входило в программу дня, это предполагалось сделать завтра. Но до наступления темноты еще оставалось время, и Эггер, верный своему правилу – собирать как можно больше впечатлений, не тратить даром ни минуты, решил все же навестить одну из частей – ту пехотную роту, что занимала здание городской больницы. В этом районе сейчас было достаточно спокойно, чтобы без особых помех встретиться с солдатами, которые своим утренним успехом, как похвально отозвался о них генерал, значительно упрочили общее положение дивизии.
Несмотря на затишье, подъезжать на виду у противника через открытый, доступный обстрелу пустырь представляло явный риск, которому не стоило подвергать гостя из Берлина. Сопровождавший Эггера офицер распорядился оставить мотоциклы в конце одной из окраинных улиц, и вся группа двинулась к больнице извилистым путем, под прикрытием заборов и строений, по дну глинистых канав для стока дождевой воды, сейчас сухих и вполне проходимых.
По всей территории северо-восточной окраины велись спешные саперные работы, чтобы превратить местные улицы в неприступную линию обороны. Это делалось по приказу свыше, о котором при условии сохранения тайны Эггеру сообщили еще в армейском штабе, а более подробно он узнал во время утренней беседы у генерала.
По этому приказу наступательные действия в районе города прекращались. Высшее командование считало, что первая фаза общего оперативного плана осуществлена полностью, и теперь наступательная активность передавалась армиям, которые действовали вдоль правого берега Дона в направлении на юго-восток и имели задачу замкнуть в котел и уничтожить русские войска в большой донской излучине, а затем выйти к Сталинграду и на Кавказ. Как полагали в ставке фюрера, захват всего юга Европейской России, ее самых хлебородных земель, а главное, советских нефтяных источников на Кавказе поставит большевиков перед окончательным крахом и принесет Германии победоносное завершение всей войны.
Улицы, которые видел Эггер, дворы и огороды были перекопаны траншеями, перегорожены противотанковыми надолбами, пауками из сваренных крестообразно рельсов, перевезенных сюда с оставленных русскими оборонительных рубежей. Искусно замаскированные, зловеще чернели бойницами врытые в грунт бетонные бункеры. На этих окраинных улочках без мостовых и тротуаров, поросших травою, имевших совсем деревенский вид, с общественными водяными колонками на перекрестках, жили в основном любители земледелия, садоводства. Редкий дом не имел при себе огородного участка или сада с тщательно побеленными известкой стволами. Была самая пора налива, садовую зелень пронизывали румянец и белизна зреющих яблок и груш, в изобилии уродившихся в этом году. Солдаты, все почти до пояса обнаженные, а кое-кто и в одних трусах, рубили топорами мешающие обзору деревья, разбирали заборы, вбивали колья, опутывая их колючей проволокой. Специалисты саперы, которых легко было отличить по черному цвету одежды, закладывали в землю мины, способные подорвать любых размеров танк. Каждый дом приспосабливался для круговой обороны: в низких кирпичных фундаментах зияли узкие продолговатые дыры, через которые, укрываясь в подвале, можно было вести пулеметный и винтовочный огонь.
К зданию больницы через пустырь была проложена изломанная зигзагами траншея, вырытая еще не на полную глубину – идти по ней надо было пригибаясь. Хотя противник, отогнанный на край темневшего в отдалении леса, не проявлял никаких признаков присутствия, Эггеру предложили надеть каску, и он охотно послушался совета – не из предосторожности, а потому, что в своем киплингианстве, в своей плененности военной романтикой всегда испытывал влечение ко всяким воинским аксессуарам и при случае с радостью надевал на себя солдатскую амуницию, брал в руки оружие.
Утренний бой, обещавший поначалу быть жестоким и трудным, но неожиданно скоротечный, даже без серьезных ранений, с результатами, которые превосходили расчеты командиров, оставил у солдат, захвативших больницу, приподнятое, бодрое, воинственно-оживленное настроение, не погасшее в них на протяжении всего дня и даже сейчас, к вечеру. Они знали, что в глазах всей дивизии совершили геройство, чувствовали себя героями и выглядели ими – настоящими матерыми бойцами...
Имя Эггера большинству было известно, и встретили его с воодушевлением.
Двадцатилетний командир роты Гофман, черноглазый, с проступающим темным пушком на верхней губе, всей своей внешностью, живостью глаз и движений похожий больше на итальянца, чем на немца, в маскировочной куртке поверх френча, с коротким штурмовым ножом на поясе, сказал Эггеру, что недавно, перед началом наступления, когда рота стояла еще в одной из курских деревень, ему пришлось прочитать книжку Эггера, распространяемую службой пропаганды среди солдат для поднятия боевого духа и веры в победу. Книжка содержала репортаж о действиях Роммеля в Северной Африке. Гофман сказал, что она произвела на него сильное впечатление, особенно понравился ему стиль изложения – энергичный, сжатый, напоминающий язык военных донесений.
Эггеру было приятно услышать одобрительное суждение о своем творчестве, и он, чтобы в свою очередь сделать приятное лейтенанту, сказал ему, что его фамилия известна в Берлине, находится в списке лучших боевых офицеров, составленном Министерством пропаганды, и передал те выражения, в каких генерал оценивал утреннюю атаку роты.
Из тыла только что доставили горячую пищу, и Гофман, как радушный хозяин, предложил Эггеру и его спутникам разделить с ротою ее скромный солдатский обед. Эггер давно уже был голоден и не стал отказываться.
Обстановка солдатской трапезы не имела ничего общего с той, в какой Эггеру довелось завтракать утром. Здесь не было ни удобных столов, ни белых скатертей, ни хрустальных бокалов, ни серебряных приборов, украшенных монограммами. Эггер сидел на деревянном ящике с гранатами, железная ложка, которую ему дали, была кривой, на одном черенке с вилкой и ножом. На коленях он держал помятый алюминиевый котелок и ел прямо из него, рискуя закапать супом свой щегольской френч и брюки из тонкого высококачественного лионского сукна.
Крупяной суп с говядиной отдавал дымом походной кухни, хлеб был недостаточно свеж, вино, разлитое из металлической фляги по манеркам, – терпким и кисловатым, с привкусом металла. Но Эггер с большим аппетитом ел и суп, и хлеб, пил кислое вино. В этом обеде на передовой позиции, в кругу фронтовиков, еще сегодня утром дравшихся с противником в жаркой схватке, для Эггера было заключено совершенно особое наслаждение, полное непередаваемой, волнующей его поэзии. Эггеру нравилось, что он сидит на ящике с боевыми гранатами, что на коленях у него поцарапанный котелок, пронесенный по многим фронтовым дорогам, что под ногами пустые винтовочные и автоматные гильзы, а вокруг – только каски, гладкие серебристые погоны, сине-зеленые, грубо простроченные френчи, пятнистые маскировочные куртки, самое разнообразное оружие – в руках, за плечами, составленное пирамидами. Он находил наслаждение даже в том, что суп, который он черпал кривой ложкой, пропах дымом полевой кухни, а хлеб – черств, каким и должен быть настоящий хлеб суровых тружеников войны, позабывших, что такое дом, уют, удобства.
Все солдаты, составлявшие роту Гофмана, гарнизон превращенного в крепость больничного здания, разместившись кто как – кто, подобно Эггеру, на ящиках с боематериалами, кто на обломках мебели, кто просто на корточках вдоль стен, за исключением лишь тех, что дежурили у пулеметов или наблюдали за противником, – занимались едою. Под козырьками касок Эггер видел одни молодые безусые лица – рота целиком состояла из молодежи не старше двадцати лет. Это были те самые молодые немцы новой формации, которыми Германия была вправе гордиться, которые несли в себе главную ее силу, ее будущее. В их идеологии, в их психике не было ничего случайного, отклоняющегося от того эталона, образца, по которому они были созданы, сознательно произведены государством, чтобы быть в его руках пригодным и послушным инструментом для исполнения планов, выдвинутых в качестве первостепенных жизненных задач всего немецкого народа. Все средства, не только прямые, но и косвенные, так или иначе могущие служить, были мобилизованы на это беспримерное в истории создание человеческих душ определенного, нужного типа. Ежедневная печать, кино, радио, литература, изобразительное искусство – все участвовало в этом процессе, соревнуясь в изобретательности, в методах и формах воздействия. В десять лет эти мальчики уже маршировали в колоннах гитлеровской молодежи, призванные туда в обязательном порядке, под черно-красными знаменами, по-солдатски печатая шаг, по-солдатски держа в рядах равнение, и громким хором пели песни, в которых возвещали, что настанет пора и они пройдут по всему миру маршем победителей, так что земля будет дрожать у них под ногами. Они прочно усвоили – как аксиому, как главную заповедь, – что каждый из них – всего лишь частичка огромного целого, именуемого родиной, и потому должны безраздельно ей принадлежать, целиком и полностью подчинить себя ее интересам, уничтожив в себе все личное, без колебаний жертвуя даже жизнью, если это нужно для ее блага. Они выросли также в сознании, что святой и наивысший долг – это любить фюрера, не рассуждая, с радостью ему повиноваться, ибо один он знает, в чем истинные цели и благо нации, и один решает за всех, куда и какими путями идти немецкому народу. Им было внушено, что солдатский мундир – наилучшая одежда, что быть солдатом – это завидное счастье, которое должен хотеть каждый настоящий патриот.
Теперь их предназначение стало фактом, воспитываемые в них мечты – явью. Они были солдатами, теми молодыми бесстрашными волками с острыми клыками и крепкими когтями, какими хотели их видеть. Усилия воспитателей не пропали даром. Встречаясь с молодыми фронтовиками, Эггер всегда отмечал это про себя, невольно приходя в патетическое состояние, с чувством восхищения своею родиной, железной поступью идущей к вершинам величия и могущества под водительством мудрых вождей. Ему было приятно сознавать, что в молодом поколении Германии есть доля и его воспитательных усилий и энергии. Да, это племя достойно тех великих идей, которые вызвали его к жизни! Они уже немало сделали, эти ребята с юношескою свежестью лиц и сердцами закаленных воинов, и сделают еще больше. Они исполнят все, что приказала им родина в своем напутствии, которое маленькой книжечкой солдатской памятки лежит в каждом заплечном ранце. «Ты, немецкий солдат, – обращаясь к каждому из них, сказала родина, провожая в боевой путь, – должен ничего не бояться. Ты сделан из немецкого железа. Действуй решительно, без колебаний. Уничтожь в себе жалость и сострадание. Ни одна мировая сила не устоит перед германским натиском. Мы поставим на колени весь мир!»
Внутри больничного здания, особенно на нижних этажах его, царил невообразимый хаос. Койки, матрацы, крашенная белой эмалевой краской мебель, тюки с одеялами, постельным бельем, ящики с медицинскими приборами, картотеками громоздились грудами, как попало, загораживая коридоры, лестничные площадки. Можно было явственно вообразить, в какой поспешности и суматохе происходила тут эвакуация больных и имущества, прерванная приближением немецких частей. Бой, разыгравшийся в здании, еще более усилил общую картину беспорядка и хаоса.
Эггера провели по нескольким этажам, он увидел большой операционный зал круглой формы с куполообразным потолком, представляющим мощный электрический рефлектор, устроенный так, чтобы от человеческих фигур возле операционных столов, от рук хирургов не возникало теней. Эггер увидел также палаты, в которых содержались больные, – просторные, с высокими потолками, широкими окнами. Большинство палат было пусто, но в некоторых стояли койки, и на них под простынями и одеялами лежали люди с бинтовыми повязками на теле, стриженные под машинку – как принято в России стричь находящихся на больничном излечении или рядовых солдат. Люди эти, лежавшие в разных позах, кто на спине, кто на боку, кто – свесив с койки руку, голову или часть туловища, – были мертвы.
Лейтенант Гофман, исполнявший при осмотре роль гида, порывисто-подвижный, с оживленным блеском глаз, склонный к шутливости и остроумию в объяснениях, заметил, что Эггер заинтересовался лежащими в кроватях людьми, и сказал, не вдаваясь в подробности, как о мелком и не стоящем более длительного внимания эпизоде, что это – раненые красноармейцы, которых не успел вывезти русский медперсонал и которых пришлось добить из предосторожности, чтоб не оставлять у себя за спиною. Известно, какие среди русских попадаются фанатики, – даже раненные, они постарались бы наделать немецким солдатам вреда.
Перо Эггера задержалось над блокнотной страничкой, на которую он на ходу вносил заметки для памяти. То, что приказал сделать Гофман, несомненно, было разумною мерою, в его положении Эггер, вероятно, поступил бы точно таким же образом, не видя в этом ни преступления, ни большого зла, а только печальную, продиктованную жестокой военной обстановкой необходимость. Но... читатели, далекие от фронта, не знакомые с тем, что на войне свои особые законы, держащиеся в своем восприятии общих моральных принципов, вряд ли сумеют правильно понять этот эпизод, сочтут поступок немецких солдат не рыцарским. Будет лучше, подумал Эггер, помечая для памяти, представить этот эпизод чуть-чуть иначе: немецкие солдаты применили оружие потому, что раненые оказались не ранеными, а русскими красноармейцами, из тех, что обороняли здание, а потом спрятались под больничными одеялами, чтобы, выбрав момент, нанести немцам коварный удар в спину.
Гофман захотел показать окружающую местность, над которой после захвата больницы немецкие войска получили полный контроль, и для этого пригласил Эггера подняться на самый верх здания, на плоскую бетонированную площадку, устроенную вместо крыши над одним из корпусов, чтобы больные могли принимать солнечные и воздушные ванны. Площадка имела совсем пляжный вид, даже вызвала у Эггера воспоминание о мирных днях, воскресных загородных прогулках, поездках на морское побережье с женою и детьми на собственном маленьком «оппеле». Половину площадки прикрывал полосатый парусиновый тент на каркасе из металлических прутьев, правильными рядами стояли под ним разноцветные топчаны, раскладные шезлонги. Под защитою бетонного парапета в одном из шезлонгов, удобно и вольно вытянув отдыхающие ноги в тяжелых пыльных сапогах, сидел солдат-наблюдатель, без каски, с ярко-рыжей головой, и смотрел в окуляры стереотрубы, что двумя рогами чуть подымалась над краем парапета. Возле шезлонга, сбоку от наблюдателя, на бетонном полу стояла лабораторная реторта с питьевой водой, на случай жажды, от ящика полевого телефона, змеясь, убегал в сторону оранжевый шнур, и, как большая болотная черепаха, круглилась серо-зеленая каска.
Солдат, совсем мальчишка, в кителе, обвисающем на его узких, острых от худобы плечах, был поглощен своими наблюдениями и не сразу расслышал появившихся на площадке людей. Оторвавшись от стереотрубы, он встрепенулся и, слегка смущенный присутствием незнакомых офицеров, доложил, что только что обнаружил на бревенчатой вышке, выступающей над верхушками леса в северо-западном направлении, наблюдательный пункт русских, оборудованный, по-видимому, для корректирования артиллерийского огня. Гофман сам припал к окулярам, а затем дал посмотреть и Эггеру.
Сквозь рассеянный в воздухе дым и вечерний туман цель виднелась на сетке линз неясно, расплывчато, расстояние до нее было велико, но Гофман все же решил немедленно ее обстрелять. Он просто рад был случаю продемонстрировать известному корреспонденту и офицеру дивизионного штаба, как ловко, расторопно, с какой отличной выучкой действуют его ребята, как быстро и точно исполняют они боевые приказы.
Он сказал несколько слов по телефону, и почти немедленно на площадке появилась кучка солдат с тяжелым крупнокалиберным пулеметом, годным для стрельбы по танкам, бронированным тягачам, самолетам-бомбардировщикам – по всем труднопоражаемым и далеко отстоящим целям.
Пулемет установили, просунув ствол в фигурный вырез в парапете, и пулеметчик, каждый раз тщательно прицеливаясь сквозь специальное оптическое устройство, послал несколько длинных очередей. Пустые гильзы, выброшенные механизмом пулемета, со звоном сыпались на бетонный пол и раскатывались в стороны. Гофман поднял одну из гильз, длиною в ладонь, еще горячую, покрытую белесой пленочкой порохового нагара, и подал Эггеру – как память о посещении передовых позиций.
Имел ли обстрел какой-либо результат – осталось неизвестным: вечерний сумрак, усиленный дымной мглою, стал уже так плотен, что даже в стереотрубу не было видно далей.
Проводить Эггера собралась большая группа. Эггер, дружески улыбаясь, пожал всем руки, с особой сердечностью – маленькому Гофману, который ему очень понравился и к которому он чувствовал искреннюю симпатию. Солдаты, унтер-офицеры провожали Эггера тоже дружескими улыбками, пожеланиями благополучия, выражениями надежды встретиться с Эггером еще не один раз, при новых его корреспондентских поездках, просьбами прислать журналы, в которых будут напечатаны репортажи Эггера с В-ского фронта. Эггер обещал непременно это исполнить.
В небо уже выползла луна и рдела, безуспешно пытаясь разгореться ярче в пластах дыма, нависших над городом. Огромное здание больницы, внутри черное, снаружи – розовато-белесое от слабого лунного света, было наполнено тишиной. Молчал и окрестный полевой простор, плотно закутанный мглою.
Безмолвствование противника, тишина, сковавшая все окружающее больницу пространство, у солдат, засевших за ее толстыми, почти крепостными стенами, создавали отчетливое впечатление, что только они остались полновластною силою на здешней земле.
И если бы кто-либо мог предугадывать события и вдруг прорицательно сказал бы провожавшим Эггера молодым, крепким, здоровым людям, полным ощущения жизни, своей силы, своего превосходства над врагом, какая участь ждет их всех через несколько часов в этих стенах, которые выглядели как самое надежное, самое безопасное место на всем восточном германском фронте, – этому предсказанию просто-напросто никто бы не поверил: таким показалось бы оно каждому неправдоподобным и невозможным...
Одною из пуль, посланных в присутствии Эггера с крыши больничного солярия и, как самые низкие контрабасные струны, прогудевших возле бревенчатой дозорной вышки, был ранен комдив Остроухов.
Федянский и вызванный им наверх сержант с невероятным трудом, намучившись до жаркого пота, спустили Остроухова на землю. Невеликое и худощавое его тело, безвольно обмякшее, точно налилось дополнительной тяжестью, и казалось, что оно значительно превышает вес, какой должно было бы иметь по своим размерам. Остроухов не стонал, не охал. Цепляясь руками за перекладины, он помогал, как мог, себя спускать. Лицо его было без кровинки.
Только уже на земле, расстегнув ремень и задрав на Остроухове гимнастерку, Федянский увидал, что ранение комдива смертельно. Полуторастограммовая, одетая в бронебойную оболочку пуля пронзила его насквозь – ударила в левый бок и вышла из правого, раздробив кости таза.
Федянский, потрясенный тем, что он был от комдива в полуметре и сам мог получить такое же страшное ранение, растерялся. У него задрожало внутри, задрожали руки. Он нервно закричал на солдат, чтобы подвели лошадь.
Лошадь подвели, однако оказалось – ни посадить, ни положить на нее Остроухова нельзя. Тогда Федянский крикнул, чтобы кто-нибудь бежал за носилками. Сержант, тоже взволнованный, но не потерявший рассудительности, возразил:
– Да понесемте так, а то пока пробегаем – они кровью изойдут...
Один из солдат находчиво отворотил от вышки пару жердин, поперек накидали хвороста, уложили Остроухова и быстро понесли, приостанавливаясь только затем, чтобы поправить его тело, когда оно начинало от тряски сползать.
Федянский, все еще в состоянии потрясенности, с головою, как бы наполненною туманом и звоном, лишавшими сознание полной ясности, торопя бойцов и сам помогая нести комдива, не представлял, однако, толком, куда надлежит им его нести и что они будут делать дальше. Медсанчасть дивизии со всеми врачами и средствами, нужными сейчас Остроухову, находилась еще где-то далеко в тылу, на дорогах, даже неизвестно где, с полками в этот пригородный лес пришло лишь несколько девчонок-санинструкторов с двумя десятками подвод для транспортировки раненых и запасом перевязочных материалов, годных для оказания только самой неотложной первой помощи.
Путь по лесным зарослям с тяжелыми неудобными носилками был нелегок; одолев один за другим два оврага и спустившись в третий, солдаты окончательно выбились из сил, все в поту, запаленно дыша раскрытыми ртами.
Это была уже зона расположения полков, и проще и скорее было вызвать санитаров сюда, чем мучить Остроухова, волоча его на кривых жердях дальше.
Федянский велел опустить носилки на сухой травянистый бугорок и послал солдат разыскать и немедленно доставить сюда санитаров с их старшей фельдшерицей Галей Самойловой. Он строго предупредил, чтобы солдаты не разглашали о ранении комдива, известили о нем – и то по секрету – только тех немногих лиц, фамилии которых Федянский назвал. Он считал, что в полках не должны знать о ранении Остроухова, факт этот нужно держать в тайне, чтоб не нарушилось, не пострадало моральное состояние.
Солдаты спешно ушли, а Федянский и сержант, которого он на всякий случай оставил, склонились над Остроуховым.
– Устин Иванович, как? – спросил Федянский, осторожно касаясь руки Остроухова.
Остроухов чуть слышно проскрипел зубами.
– Потерпите немного, сейчас врачи придут... – сказал Федянский, напряженно думая, что бы еще такое успокоительное сказать Остроухову и не находя слов. Все внутри у него было облиго холодом и сковано от сознания, что ничто, никакие врачи и никакие средства не в состоянии спасти Остроухова, даже хоть сколько-нибудь оттянуть неотвратимое. Вот так же осенью прошлого года во время боев под Вязьмою был ранен начальник политотдела дивизии, в которой служил Федянский, сильный, могучий, атлетического сложения мужчина, и умер, его даже не успели перевязать...
– Жаль... ах, жаль!.. – мучаясь в единой боли тела и души, как бы для одного себя, негромко, с тихим стоном выдохнул Остроухов и пошевелился на подстилке из хвороста – в каком-то таком движении, которое было вызвано даже не столько страданиями тела, сколько болью в его так же сильно и нестерпимо страдающей душе.
– Может, воды им дать? – спросил участливо сержант, снимая с пояса фляжку. – Родниковая...
– Устин Иванович, может, воды хотите? Родниковая! – сказал Федянский, зная, что раненым в область брюшины давать воду не полагается, и думая про себя, что правилом этим можно пренебречь – все равно уж...
На склоне оврага затрещали ветки, послышались голоса – это возвращались солдаты с Галей Самойловой. За ними следовало трое или четверо старших командиров дивизии, всполошенных полученным известием.
Федянский передал им Остроухова, а сам, не медля, отправился на КП дивизии, чтобы сообщить о происшествии Мартынюку.
Связь с его КП была уже налажена, действовала.
– Что? Кто говорит? – зарычал в трубку Мартынюк, хотя Федянский в самом начале ясно и четко назвал себя. – Как – ранен? Почему – ранен?
Казалось, он дальше возмутится: да кто ему это позволил?!
Но вместо этого Мартынюк лишь длинно, забористо выругался.
– Зачем он туда полез-то, чего его туда понесло?!
Федянскому захотелось кольнуть Мартынюка, сказать, что, если б его штаб не пренебрегал разведкой, им с Остроуховым не пришлось бы лезть на эту проклятую вышку и с комдивом не случилось бы того, что случилось. Но это была уже такая дерзость, которую Федянский, избегавший в отношениях с начальством остроты, никогда бы не решился себе позволить.
– Значит, серьезно? – спросил Мартынюк.
– Серьезно, товарищ генерал-лейтенант. Если говорить с абсолютной точностью – безнадежно.
– Ах, ты! – И Мартынюк снова запустил длинное выражение.
Он был по-настоящему, до крайности раздосадован. Федянский не ожидал этого, его даже удивила такая неподдельно острая реакция генерала. Он не знал того, что Мартынюк способен не только на один гонор, что стычка с Остроуховым на поляне, когда на глазах множества подчиненных пострадали генеральский авторитет и самолюбие Мартынюка, оставила в нем, кроме неприятного осадка, еще и другие чувства. Опытный нюх подсказал генералу, что хоть Остроухов и ершист, зато он умен и, как мало кто из подчиненных, не склонен к раболепному, покорному принятию начальственной воли, без разбора, только потому, что она начальственная, что Остроухов обладает крепким характером, знает дело и положиться на него можно вполне. Это осмотрительный, инициативный, с чувством подлинной ответственности за людей, за дело военачальник, из тех, на каких только и держатся фронты и каких становится все больше и больше, потому что горький военный опыт постепенно освобождает силу и ум людей от скованности, заставляет думать, быть иными, иначе действовать, сам выковывает новый тип командиров, без которых не достичь перелома в войне. В глубине души Мартынюк был даже рад, что во главе свежей дивизии, которую он получил в свое распоряжение, оказался именно такой человек.
Продолжительное время в трубке только однотонно звенел электрический ток.
– Дрянь дело, дрянь! – сказал Мартынюк после раздумья. – Вот уж, право, чего совсем не ждешь... Ладно, принимай пока дивизию. Врачи-то ваши где? Есть там кому перевязать и все прочее?
– Фельдшер только и санинструкторы. Медчасть отстала, и близко еще нет... А если бы срочно прооперировать, может, что и вышло...
– Налаживайте тогда Остроухова в Лаптевку, в армейский госпиталь. Я туда позвоню, чтоб приготовились, сделали все, что только в силах. Есть на чем везти?
– Одни конные повозки.
– Хорошо, я скомандую, чтоб машину подогнали. Передай там Остроухову от меня – мол, сожалею, пускай поправляется... За дивизию пусть не думает – все сделаем, как надо...
– Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант.
– На исходные полки вывели?
– Размещаем, товарищ генерал-лейтенант.
– Побыстрей нужно. Немец как – тихо?
– Да в общем – тихо...
– Значит, не учуял еще. А то б уже пробомбил. Но ты – того, тишине не доверяй. Смотри в оба!
– Я хотел разведку выслать, прощупать их.
– Не надо. Обнаружат, что лазаем, щупаем, сразу поймут: что-то готовим, затеяли. А насторожатся – считай, главное упустил. Внезапность – она лучше! У врага учись, как они внезапность применяют.
– Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант.
– Ну, ладно, действуй! Доложи через час обстановку.
Когда Федянский вернулся в овраг, уже совсем стемнело.
Остроухова, чтоб не светить под открытым небом, поместили в блиндажик, отыскавшийся на склоне. Связисты с сержантом сидели на земле у входа, курили, пряча огоньки самокруток в ладонях. Федянский подумал отослать их ко взводу, чтоб не сидели просто так, без дела, но вспомнил, что придет машина, надо будет поднимать, устраивать на нее Остроухова и солдаты могут пригодиться.
Отстранив плащ-палатку, которой был завешан вход, Федянский, низко сгибая свою высокую фигуру, протиснулся в блиндаж. В нем горели батарейные фонари, отбрасывая на стены и потолок черные, как тушь, тени, освещая Галю, толстого, бритоголового дивизионного комиссара Иванова, еще чьи-то лица – Федянский не стал всматриваться, чьи, – и Остроухова. Комдив был уже перевязан и прикрыт до подбородка плащ-палаткой. Его гимнастерка, в пятнах крови, свернутая в тугой валик, была подсунута ему под голову, чтоб голова лежала повыше, не на земле; в ногах, отставленные в угол, стояли сапоги – не новые, чиненные дивизионными ремонтерами, с подбитыми на каблуки железными подковками. На ногах Остроухова это были нормальные, обыкновенные сапоги, а сейчас, отдельно от него, они выглядели жалко осиротевшими и обращали на себя внимание малыми, почти подростковыми размерами. Никогда больше им уже не служить Остроухову, служба их у него кончилась навсегда, и вид этих осиротевших и в какой-то наглядной отрешенности от Остроухова отставленных в сторону сапог почему-то больнее, чем что-либо другое, задел у Федянского сердце.
В блиндаже говорили почти шепотом, и Федянский тоже шепотом спросил у Гали, устремляясь взглядом в лицо Остроухова:
– Без сознания?
– Нет, он слышит, – отозвалась Галя. Все, что могла и умела, она уже исполнила и теперь просто сидела на земляном, покрытом прелыми листьями полу, в изголовье у Остроухова, подобрав под себя ноги, и пристально, молчаливо и скорбно глядела в его белое, заострившееся, покрытое бисеринками пота лицо. В глазах ее искорками дрожала влага. Всеведущие языки трепали в дивизии, что Галя «сохнет» по комдиву. Гале было двадцать, Остроухову – за сорок, всем было известно, что он женат, примерный семьянин, любит свою жену, сыновей. Но, видно, говорившие не выдумывали...
Услышав голос Федянского, Остроухов раскрыл глаза.
– Устин Иванович, – сказал Федянский осторожно и некрепким голосом, с таким ощущением, что если он скажет погромче, то звук непременно увеличит болевые страдания Остроухова. – Вы извините, я у вас не спросил разрешения... Командующего армией я поставил в известность.
Остроухова как раз ударил очередной приступ боли, лицо его напряглось, дернулось, он закрыл, но через секунду снова открыл глаза.
– Генерал-лейтенант очень разволновался, сожалеет... Просил ни о чем не беспокоиться, пожелал вам выздоровления... Сейчас придет машина, отправим вас в госпиталь. Там очень хорошие врачи, есть все медицинские средства.
Остроухов молчал. Лицо его имело выражение, как будто он удалился уже куда-то далеко-далеко, где все земные его дела уже не имели для него ни интереса, ни значения, и было даже трудно определить, слышит ли он обращенную к нему речь или нет.
Федянскому оставалось сказать еще самое основное из разговора с Мартынюком.
– Устин Иванович!
Взгляд Остроухова стал яснее.
– Командующий армией приказал мне принять дивизию... – произнес Федянский как бы с извинением за это распоряжение Мартынюка.
Остроухов, прикрывая веки, сделал чуть приметное кивающее движение головой в знак того, что понял и дает свое согласие.
Галя вдруг всхлипнула, поспешно отвернулась и вытерла глаза скомканным комочком марли, которой отирала Остроухову увлажненный лоб. Федянский почувствовал, как у него защипало веки. И, чтобы побороть невольные слезы и прогнать царапающую горло сухость, он мелко и негромко покашлял, взмаргивая ресницами.
Никогда прежде Федянский не испытывал к Остроухову никакой особенной любви или даже просто дружеской привязанности. За месяцы, что провели они вместе, комплектуя и готовя в тылу дивизию, они лишь свыклись друг с другом, как свыкаются люди, которых необходимость поставит рядом делать общую работу. Слишком разные были они с Остроуховым, слишком далек был Остроухов от Федянского всем складом своей натуры, ума, привычек, чтобы у Федянского могло возникнуть к нему искреннее расположение. Внешне Федянский держался с комдивом безупречно – всегда был корректен, вежлив, даже почтителен. Но почтительность эта означала лишь одну воспитанность Федянского, его дисциплинированность и относилась лишь к должности, а не к личности самого Остроухова. Про себя же Федянский не уважал его, как и многих других из своего окружения, с кем вынужден был жить и работать, втайне насмешничал над ним, с удовольствием, умея не показать этого открыто, встречал его промахи, старался при случае о них незаметно напомнить, обратить на них внимание тех, кто еще не заметил или не знал, был не в курсе. Все это он делал потому, что считал Остроухова ниже себя – и по развитию, и по уму, и по образованности военными науками, и по всем другим качествам, считал плохо отесанным, простоватым, неинтеллигентным. А интеллигентность, начитанность, культура речи, культура внешнего поведения – это было основное, что определяло в глазах Федянского цену человека. Очень непохожи были они и в своем отношении к бойцам, хотя нельзя было сказать, что Федянский проявлял о них меньшую заботу, чем Остроухов. Но Федянский заботился о солдатах, имея целью, чтобы они были довольны своим положением, своими командирами, всегда боеспособны, всегда пригодны для дела. Остроухов же заботился о них потому, что видел в солдатах прежде всего товарищей, таких же, как сам, людей. Он не проводил между ними и собою никакой особой грани, был для них «своим», во всем понятным человеком – не подлаживаясь, не подстраиваясь. Ему и не надо было подлаживаться. Большинство солдат пришло в армию из деревень, а Остроухов до шестнадцатого года, когда его призвали на германскую войну, сам крестьянствовал, жил в деревне, тою самою жизнью, какую его солдаты оставили дома. Все вкусы, склонности, пристрастия, интересы были у него простые, народные – он любил русские протяжные песни, любил кислые деревенские щи, картошку с салом и луком, из курева предпочитал махорку и охотно менял на нее свои мундштучные папиросы, которые получал в пайке. Если изредка среди службы выпадал свободный вечер, Остроухов уезжал на рыбную ловлю, «позоревать». Это составляло его любимое занятие, его слабость, которой он даже немножко стыдился, как чего-то недопустимого в его положении, да еще в такое для страны время.
На память Федянскому пришло, как совсем недавно, в один из последних дней июня, почти перед самой отправкой на фронт, Остроухов загорелся желанием порыбачить («Когда-то доведется еще!»), подбил компанию, увлек даже Федянского, по-городскому совершенно равнодушного к таким предприятиям, и сам, раздевшись до трусов, не страшась ключевого холода воды, таскал по камышистому степному озерку взятый у местного старика бредень и радовался, как мальчишка, выбирая из ячеек сети, из черно-буро-зеленой гущи ила, травы и тины серебристую трепещущую рыбешку.
Федянский вспомнил эту рыбешку, дым костра, как Остроухов сыпал в котел с кипящею ухою соль, как, блаженно причмокивая, пробовал жижу, дуя на ложку, и в памяти, по связи с этим, всплыло другое – как к Остроухову, тоже незадолго перед отправкой на фронт, откуда-то с верхней Волги приезжала проститься жена с младшим десятилетним сыном – маленькая невзрачная женщина, поразившая других командирских жен тем, что держала себя совсем невидно, стеснительно, даже робко, так, будто совсем не сознавала факта, что она жена полковника, самого главного в дивизии командира. В стареньком чемодане она привезла Остроухову каких-то домашних пышек, ватрушек, и все те несколько дней, что прожила в обшитой тесом землянке Остроухова, в лагере дивизии, раскинутом в голой, безлесной приобской степи, перестирывала и гладила его белье, штопала его носки, собирая ему вещи в дальнюю дорогу, как, верно, готовила его еще молодой на деникинский фронт, а потом – в ежегодные летние лагеря, на полевые учения, на маневры, потом – на польскую, на финскую и на эту – страшную, кровопролитную Отечественную, сначала под Брест в июне сорок первого года, затем, после госпиталя, под Киев, затем, снова после госпиталя, уже зимою, под Москву... Остроухов их тогда познакомил. Маленькая смуглая женщина с гладким крестьянским зачесом волос, собранных назади в пучок с проволочными шпильками, стеснительно улыбнувшись, обнажив в улыбке неровные редковатые зубы, неумело протянула ему дощечкой узкую, жестковатую руку, огрубевшую от всякой домашней работы, приборок, готовок, бесконечных стирок на троих подрастающих ребят, и негромко, стеснительно назвала себя, так что Федянский едва расслышал: «Мария Петровна...»
Теперь Федянскому, по долгу ближайшего помощника Остроухова и очевидца, предстояло писать этой Марии Петровне письмо и описывать, как погиб ее муж, и придумывать, какие слова в последние свои минуты сказал он о ней и что завещал своим детям, утешать ее фразами, что вся дивизия до последнего человека поклялась отомстить за своего командира и что светлый его образ никогда не изгладится из памяти тех, кто его знал...
Федянский даже скрипнул, зубами – такую боль вызвало в нем воспоминание о маленькой скромной женщине, умело, без шума наводившей порядок в землянке Остроухова, собиравшей его в дорогу на фронт, в дорогу, которая так скоро окончилась, и об Остроухове в те дни, возле жены – чистеньком, ухоженном, тихо-счастливом от ее домашних, женских забот...
Но Федянский не был бы самим собою, если бы подле умирающего Остроухова думал и чувствовал одно это... Он не только относился к Остроухову свысока, с сознанием собственного превосходства, он еще и завидовал ему, как не завидовал никому другому, глубоко пряча это в себе. Завидовал, что Остроухов командует дивизией, тогда как по всем данным он, Федянский, имеет на это больше прав и лучше подходит для этой должности. А Остроухову, считал он, следовало бы самое большее быть командиром батальона, но ни в коем случае не такого сложного механизма, как дивизия, да еще на современной войне, с ее совершенно новой, не похожей на то, что знали в прошлом, тактикой, с ее разнообразными техническими средствами.
И вот теперь, искренне потрясенный тем, что произошло, по-человечески жалея Остроухова, его семью, детей, Федянский подо всеми этими чувствами ощущал еще и гревшую его изнутри радость, что исполнилось его давнее, упорное, затаенное, страстное ожидание и управление дивизией наконец-таки целиком и полностью переходит в его руки...
Украдкой Федянский взглянул на часы – близилось время, назначенное Мартынюком, и надо было подготовиться к докладу, как происходит построение батальонов в боевой порядок.
– Устин Иванович! – негромко и опять вкладывая в свой голос интонацию извинения, окликнул Федянский Остроухова. – Я отойду, надо кое за чем присмотреть, распорядиться... Сейчас командующий будет снова звонить. А машина подъедет – я приду, провожу вас.
Веки Остроухова были опущены. Он приподнял их, поблуждал глазами и, найдя Федянского, остановил на нем взгляд. Не такой, каким смотрел обычно, какой был знаком Федянскому, а совсем чужой, пристально-сосредоточенный. Взгляд этот был подобен последнему лучику света откуда-то из сгущающейся с каждой минутой тьмы и заключал в себе что-то крайне важное, что Остроухову непременно хотелось сказать, прежде чем сгущающаяся тьма окончательно сожмет, погасит его сознание. Рука его, шевеля пальцами, выползла из-под края прикрывавшей Остроухова плащ-палатки и поднялась, согнувшись в локте. Было похоже, что Остроухов хотел поманить Федянского ближе, но скорее всего он поднял руку как знак, чтоб Федянский с полным вниманием воспринял его слова. Федянский наклонился, вытянул шею.
– К-стантин Фед-дыч... – произнес Остроухов, с усилием выталкивая звуки изо рта. Губы и язык его были сухи, слушались уже плохо, звук речи был шипящ и невнятен, шел отрывисто, вместе с дыханием. – Может, не ус...пеешь...
Он передохнул, пожевал сухими губами, пытаясь смочить их слюною.
– Не н-наглупите там... сделайте всё с умом...
Рука его, стоявшая торчком с вяло повисшей кистью, снова зашевелила пальцами – она как будто куда-то тянулась или что-то искала. Движения были непонятны, выглядели бессознательными. Но Федянский догадался. Это Остроухов искал его руки – для последнего пожатия...
Дивизионный комиссар Иванов выбрался из блиндажа следом за Федянским. Короткотулый, приземистый, со зрением, слабевшим в потемках, он неловко поворачивался в темноте своим тучным телом. Грудь его в излишнем количестве пересекавшихся крест-накрест ремней шумно вздымалась, он дышал с одышкою – от духоты в блиндаже, от усилий, которые затратил, чтобы вскарабкаться наверх по крутым земляным ступеням, и от волнения.
– Как же теперь будем-то? – спросил он у Федянского подавленно.
Иванов не был военным, никогда прежде не служил в армии, в комиссары его произвели совсем недавно из административных работников, – сейчас были первые его часы на фронте, впервые своими глазами видел он кровь, боль, страдание от тяжкой раны.
Федянский помолчал в темноте молчанием, которое должно было показать Иванову странность и неуместность такого вопроса в устах человека с комиссарским званием.
Впрочем, что еще можно было ожидать от Иванова, человека сугубо штатского, с натурою рыхлою, нерешительною, приученного на своей штатской службе во всем оглядываться на вышестоящее начальство и потерявшего в этих оглядываниях всякую самостоятельность, характер, способность к волевым поступкам. В дивизии, где все старшие командиры были кадровыми, а средние и младшие – выпускниками военных училищ, где понимали, что такое военачальник, что такое настоящее командирское слово, жест, как много значат для бойцов даже такие детали, вроде осанки, интонаций голоса, – Иванова никто, как начальство, всерьез не принимал. Про него слагали смешные анекдоты, любили вспоминать, как первое время, выходя к политработникам, поставленным в строй, он веселил их своими командами: «Прошу – вольно!», «Прошу – смирно!», «Прошу повернуться налево!» Федянский, более чем кто-либо другой из командиров ощущавший в себе «военную косточку», более других замечал и чужеродность Иванова в армейском организме, отсутствие в нем тех качеств, какими должен обладать человек в комиссарской должности. Но так как Иванов, сознавая свою некомпетентность, держался скромно, без апломба, в командование дивизией не лез, занимался одними политбеседами с бойцами, ротными рукописными агитлистками, то Федянский старался его щадить, по возможности меньше задевать самолюбие Иванова. Бог с ним, не мешается – и ладно, другим он не станет...
Однако растерянность комиссара, паническое его состояние были слишком уж явными. А момент и та главенствующая роль, которая Федянскому теперь принадлежала, требовали от него примерной для других твердости духа. И Федянский после паузы все же сказал Иванову со строгой наставительностью, вкладывая в свои слова укор ему за непозволительную, недостойную и комиссара, и мужчины, и этого момента в жизни дивизии слабонервность:
– Будем, как положено советским воинам, – вот как будем!
Сам себе, произнося эти слова, Федянский казался очень волевым и сильным. Именно тем военачальником, какой, по его представлениям о себе, был в нем заключен и каким он стремился быть с тех самых пор, как попал на военную службу, и, заставив его позабыть все прежнее, во всей притягательности, во всей своей соблазнительной заманчивости ему явилась и полностью овладела им цель: выдвинуться, снискать имя и славу, достичь в армии большого командного положения.
Мартынюк отозвался сразу же, как только Федянский приказал телефонисту вызвать КП командующего. По первому же звуку его голоса, густому, с хрипотцой, плотно наполнившему телефонную трубку, Федянский почувствовал, что Мартынюк не просто ожидал его звонка, а в нетерпении, и что у командующего приготовлено для него что-то важное. Но вначале Мартынюк спросил про Остроухова – как он?
– Плох, товарищ генерал-лейтенант. Надо бы поскорее везти...
– Машина сейчас подойдет, уже отправляется, мне доложили. Пошли бойца навстречу, чтоб шофер в лесу не блукал. Немцы что – тихо?
– Примолкли, – ответил Федянский, поднимая над краем окопа голову с телефонной трубкой, прижатой к уху, и всматриваясь вперед, туда, где над чернотою низких кустов, оторвавшихся от леса и выдвинувшихся в поле, розовело, мерцая и подрагивая, зарево городских пожаров. Свет этого зарева, несмотря на немалое расстояние, достигал леса, слабым багрянцем красил листву, стволы и сучья деревьев, фигуры и лица снующих меж стволов людей, придавая всему вокруг что-то неестественное, нарочито-сделанное, театральное.
– Даже ракет не бросают, – сказал Федянский, поглядев и послушав некоторое время.
– Зачем им ракеты – им и так видно. Да и спят, сволочи. Они ведь по режиму воюют, не как-нибудь... Полки исходные заняли?
Мартынюк спросил это уже совсем по-деловому, озабоченно, так, будто в нем уже не осталось никакой памяти об Остроухове, даже без следов того настроения, с каким он принял печальную весть и какое еще звучало в нем минуту назад, когда он справлялся о комдиве.
– В основном – заняли, товарищ генерал-лейтенант, – ответил Федянский.
– Это ты как – по донесениям говоришь или сам проверял?
– По донесениям, – ответил Федянский, слегка удивленный этим вопросом Мартынюка. В дивизии с самого начала дело было поставлено так, так были все вышколены Остроуховым, что никогда не случалось, чтобы донесения низших командиров оказывались ошибочными или не совсем точными.
– Надо самому проверять! – наставительно и недовольно сказал Мартынюк. – Люди – они, знаешь, и наврать могут...
– Хорошо, – сказал Федянский, задетый недоверием к дивизионным командирам и подавляя в себе это чувство. – Я проверю еще раз, сам.
– Бойцов накормили?
– Часть накормили, часть еще нет.
– Чего так долго возитесь? Эдак до утра не кончите.
– Кухни лимитируют, товарищ командующий. Одной закладки на всех не хватило, сейчас котлы загрузили снова.
– Ну, поторопи там, поторопи... На фронт прибыли, понимать надо...
Мартынюк поспрашивал еще, чем заняты в батальонах, и когда он спросил про водку, есть ли в запасе водка и хватит ли хотя бы по сто граммов на всех бойцов, Федянский окончательно догадался, что кроется за устроенным ему опросом.
– Ну, вот что... – сказал Мартынюк вязким басом и выдержал небольшую паузу. – Время наступления – пять ноль-ноль. Оповести весь комсостав, и чтоб все было готово.
– Но, товарищ генерал... – растерянно сказал Федянский, с такою бессознательною силою прижимая телефонную трубку, что даже стало больно уху.
– Никаких «но»! – тут же перебил Мартынюк. – Немцы свежие части в город вводят! Промедлим, себе хуже сделаем. Тебе же самому хуже будет и всему твоему народу. Немцев здесь и так порядком, а вольют подкрепления – тогда их нипочем не сковырнуть. Пять ноль-ноль, зарубил? Собери комсостав, оповести, поставь конкретные задачи. Ось направления – на больницу. Прежде всего больницу надо взять – она, проклятая, выперла наперед, весь город собой закрывает. Нацель на нее один батальон полностью, пусть у него эта задача будет главной. С людьми поработайте, чтоб прониклись, объясните всю важность...
– Но ведь было же договорено... С таким расчетом мы...
– Договорено, с расчетом!.. А теперь обстановка изменилась, понял? Тем расчетом теперь только ж... подтереть!
Голос Мартынюка был уже предельно полон грубого напора и на последних словах почти что сорвался в крик. Одновременно в голосе генерала угадывалось, слышалось и что-то нервное, беспокойное. Походило на то, что Мартынюк боялся, как бы Федянский не вздумал упираться так же, как Остроухов. И, боясь этого, он и нажимал заранее на тон, чтобы с самого же начала оседлать, подчинить Федянского и в зародыше подавить в нем движение сопротивляться.
Никаких точных данных о свежих немецких частях, про которые упоминал Мартынюк, у него не было. Подкрепления эти были всего лишь предположением штаба армии, ничем не подтвержденным и даже не вытекающим из общей ситуации, потому что все говорило, что В. перестал быть для немцев главным направлением и, следовательно, перебрасывать сюда какое-либо значительное количество войск им уже незачем.
Другое заставляло Мартынюка нервничать и снова настаивать на немедленном наступлении на город, – благо, Остроухов теперь уже не мог помешать. Предстояло доносить по прямому проводу о принимаемых мерах, и Мартынюк, от минуты к минуте впадая во все большее волнение, не находил себе места из-за того, что уступил Остроухову и уступка его непременно будет расценена как промедление в исполнении директив, как его личная слабость, как неспособность осуществлять волевое и энергичное руководство на вверенном участке... Расценена с соответствующими в отношении него выводами и мерами наказания. А Мартынюк хорошо знал и не раз видел на судьбах иных своих товарищей и сослуживцев, какого рода выводы умел делать и какие меры наказания мог применять тот, чей голос звучал на другом конце прямого провода...
– А как же артполк, товарищ командующий, ведь он же еще не прибыл? Как же с артиллерийским обеспечением? – забормотал Федянский в трубку. Ему сделалось нестерпимо жарко, душно, даже заколотилось сердце, точно его по самую шею погрузили в горячую ванну. Засунув за воротник гимнастерки палец, он потянул, чтоб расслабить петли, чтоб было свободней дышать. – Кто же нас будет поддерживать?
– Не бойся, одни не останетесь. Поддержкой обеспечим. На этот счет мы тут уже крепко подумали. Все стволы резерва тебе придаю. Батарею тяжелых гаубиц тебе за спину передвигаем. Постараемся и эрэсов пару-тройку на твои позиции дать. Это ли не сила? Да еще соседи своим огнем помогут. Доволен? Или, скажешь, мало? А? Ну, что ты там – заснул?
– Нет, я слышу... – отозвался Федянский. Чувства и мысли его неслись в каком-то вихревом, карусельном кружении. И только одно стояло в нем отчетливо и ясно, как бы центром всего этого сумбура и кружения: остро, до пронзительного ощущения во всем теле хотелось ему сейчас, чтобы на его месте был кто-нибудь другой и этот другой, а не он, Федянский, разговаривал бы с Мартынюком, выслушивал его приказания и брал на себя обязанность их выполнять. Вот она, давняя, заветная, томившая его соблазном мечта – быть на высокой командной должности! Никакой нет в этом для человека радости, а лишь один давящий на душу и тело гнет...
– Без артполка... – проговорил Федянский, пытаясь остановить сумбурный бег своих мыслей, придать им ясность. Он представил себе, какую необъятную массу работы еще предстоит проделать, если выступать в пять, как назначает генерал, и ужаснулся. Не успеть! И половины не успеть! А главное – поддержка огнем! Ведь это же все ерунда, что перечислил Мартынюк, так, хлопушки в таком деле, – батарея гаубиц, пара эрэсов, которых, возможно, даже и не будет вовсе... Ну, соседи с флангов постреляют... С боезапасом у них туго, чтоб еще и на чужих расходовать, известно, как они будут стрелять – лишь бы только считалось... А ведь это же город брать, не хутор какой-нибудь из девяти дворов на безымянной высотке!..
– Товарищ командующий, все-таки следует подождать артполк!
– Ну и голос у тебя – скучней не бывает! Да ты, может, дрейфишь, немцев боишься? – закричал Мартынюк, так что мембрана возле уха задребезжала. – Вы что, все, что ль, в дивизии такие подобрались – робкие? Зря, выходит, про вас, сибиряков, слава идет! Пойми, голова; нельзя дальше тянуть. Ведь чем рискуем? Учуют немцы, какая сила войск против них собралась, – они ж на тебя всю свою авиацию бросят, раздолбают в два счета – и мокрого места не останется. Без всякой пользы людей погубим. Нас же потом с тобой к стенке поставить – и то мало будет! Ты слышишь? Алло! Считай за счастье, что они не унюхали, да ведь так долго не будет... Что? Да что ты там все талдычишь – артполк, артполк! Зато ударим внезапно, это же главный фактор – внезапность! Немцы глаз со сна продрать не успеют, как мы их уже на штыки подымем. А артполк твой поспеет, чего зазря беспокоишься? Транспорт за ним и пехотой уже пошел, вступят с ходу. Давай, давай, готовься. Я сейчас с твоими соседями согласую поточней насчет поддержки, а потом приеду, сам погляжу, проверю все...
– Значит, окончательный приказ? – спросил Федянский.
– Приказ! – не сказал, а точно выстрелил в ухо Мартынюк.
– Тогда разрешите получить его в письменном виде, товарищ командующий! – подумав, сказал Федянский.
– Ладно, получишь. Отстукаем.
Еще секунду подумав, Федянский спросил, знает ли об этом приказе Мартынюка находящийся в штабе армии член Военного совета, каково его мнение, но ответа уже не получил, трубка была уже пуста, потому что Мартынюк, считая на своих последних словах разговор завершенным, отошел от телефона.
Тишина короткой ночи была хрупкой и нестойкой. То и дело ее ломал хруст далеких винтовочных выстрелов или хлопок немецкой ракеты, рассекавшей черноту выгнутой, прерывистой, золотисто-розовой трассой и распускавшейся на ее конце сверкающей звездой – зеленоватой или ослепительно-белой.
После полуночи небо пробудилось от недолгой дремоты – ночные бомбардировщики наполнили его разнотонным гудением. Те, что шли группами, ревели моторами так натуженно, так неистово, в такой напряженности, что казалось – их обнимает не воздушная среда, а нечто плотное, вязкое, труднопреодолеваемое, твердое, как сама земля. Зенитные батареи шарили в вышине бледными конусами прожекторных лучей, начинали стрелять – и тогда во мраке, обложившем горизонты, мелькали, метались быстрые всполохи белого пламени, а небо дырявилось колючими искорками разрывов. Но самолеты были неуязвимы и продолжали гудеть – назойливо, вызывающе. Горизонты озарялись новыми вспышками, высокими, яркими, когда, выйдя к цели, они сбрасывали свой бомбовый груз, и по округе, как днем, но гораздо звучнее, раскатывались волны тяжкого, какого-то подземного гула.
По широкой дуге, в обход, на город зашли советские бомбардировщики. В спокойном тлении пожарного зарева полыхнули яркие языки, точно туда подбавили топлива, послышался продолжительный обвальный грохот. Снизившись, чтобы стать недоступными для зениток, бомбардировщики, покрыв лес густым ревом, проплыли на обратном пути над самыми макушками дубов медлительными черными тенями. Это были ТБ, знаменитые гигантские четырехмоторные ТБ, которыми так гордились до войны, показывали их на парадах, в кино, в которых видели главную мощь и силу авиации и которые на поверку оказались так непригодны, уязвимы – настоящими мамонтами неба, тихоходными, неуклюжими, безнадежно слабыми при всей внушительности размеров и кажущейся мощи...
Лейтенанту Ивану Платонову, как и всем его связистам, в эту последнюю перед боем ночь не пришлось сомкнуть глаз ни на минуту. В проложенной связи не все ладилось, приходилось снова и снова проверять телефонные аппараты; прозванивать провода, подвязывать их повыше на деревья, чтоб не задела и не порвала пехота при своих передвижениях, уточнять таблицы кода, по которым во время боя будут вызывать друг друга и переговариваться подразделения. Спотыкаясь в потемках о корневища, ветки, расстроенный неполадками, очень желающий сделать так, чтобы в хозяйстве, за которое он ответствен, все было исправно и действовало отлично, как на показательных учениях, Иван Платонов бегал от КП Федянского на КП своего полка, а оттуда – дальше, в батальоны, злым шепотом, сдерживая голос, ругал телефонистов, сыпал приказания, сам подключался к проводам и запрашивал разные пункты – как слышно. Моментами его даже знобило от нервной горячки – так он взвинтил себя своею беготнёю и хлопотами. Всего больше его заботило главное – чтобы связисты были готовы с началом наступления двинуться вперед вместе с батальонами, быстро наращивать телефонные линии и без промедления включаться в связь с каждой новой позиции.
Лес, даже далеко в глубину слегка розоватый от зарева пожаров, в качании теней и мерцании световых бликов казавшийся живым и беззвучно шевеливший ветвями и листвою в тревожном и бессонном ожидании утра, был всплошную, особенно вблизи опушки, заполнен солдатами и так же всплошную изрыт окопчиками, которые начальство приказало снова устроить, как только войска переместились сюда. Никто уже ничем не занимался, все были сыты, патроны и гранаты розданы, упрятаны в брезентовые поясные сумки. В самую пору было поспать, дать отдых телам, отяжеленным усталостью, но мало кто мог сейчас предаться сну. Кучками сидя и лежа под деревьями, на краю окопчиков и щелей, воронок, отдававших сыростью свежей, глубоко вывернутой земли, на травяных склонах западинок, солдаты, потягивая в ладонях и передавая по кругу махорочные, измоченные на губах «бычки», вполголоса вели разговоры. Кто о чем – о доме, о прежней жизни, о завтрашнем бое... Провода полковой связи пересекали лес, точно тонкая, хитро сплетенная паутина, сбегали в заросшие орешником балки, тянулись по склонам оврагов, по дну глинистых водостоков, промытых буйными весенними ручьями, и всюду, куда бы ни заводили Ивана Платонова эти протянутые связистами провода, где бы ни доводилось ему проходить, пробегать, пробираться, делая свое срочное, ответственное дело, всю эту ночь слышал он приглушенные солдатские голоса, ведущие в кругу тесно сгрудившихся, не различимых во мраке тел разговоры, – голоса мужчин и совсем еще не окрепших ребят, голоса, наполненные самыми различными красками, оттенками – грустью, задумчивостью, тихой, спокойной серьезностью и веселой бодростью, озорной бесшабашностью, вызовом молодой удали, которая еще ничего не попробовала, не испытала и потому ничего не боится на свете...
– ...постановил я иструб шесть на десять, что твоя картинка – прям вот и счас в глазах! Кабы знатьё, успел бы и полы настелить, и кровлей покрыть, – железо у меня уж куплено было, в сарайчике лежало. А печку баба как-нибудь и без меня сладила... Тот же Илья хромой бы склал, он – все, что хошь, и по печкам тоже мастер...
– ...я ведь не слепой, говорю, все вижу. Не хотишь, как верная жена жить – за подол не держу. Имущества у нас с тобой – сито с обечайкой да веник с шайкой, – забирай, чего своим считаешь, и – на все четыре стороны...
– ...ты ее пробовал-то, рабочую жизнь? Это тебе не колхоз твой, где схочу – пошел на работу, не схочу – дома задницу почесываю. – Да, почеши, а бригадир на что? Он тебе почешет! – Бригадир! Кажному из них цена – полбутылки... Ты вот шахту испробуй! Гудок прогудел – табельную доску на запор. Не успел свой номерок повесить – все, прогульщик, нет тебе спасения, засудят по указу...
– ...видал я этот фильм, у нас в клубе показывали. «Волга-Волга» чудней. Я разов пять глядел. Там от одного Игоря Ильинского живот порвешь...
– ...должность у меня была вроде маленькая, а разобрать – так всё на мне: и продукты, и стрепня, и лошади, и весь инструмент геологический. Сколько мы этих тыщ километров по тайге исходили! И все по бездорожью, по глухомани, по болотам, где самая человеку погибель...
– ...восемнадцатого у нас последний был – по географии...
– ...зато в сороковом – по десять кило на трудодень. Иные семейства тонн по двенадцати получили. Забогатели сразу, аж головы кругом! Я дочку замуж выдавал, так у меня за столами...
– ...не, думаю, поищите еще какого дурака. Какой больно работать любит, а исть не просит. Штоб я за такую жалованью...
– ...будешь ты со мной спорить! Я ж на курсах учился, документ имею!
– ...в ту войну им только хлеб наш нужон был, эшелонами его к себе гнали. В тот год, восемнадцатый, посля ранения я у брата жил на Украине, помню это дело, своими глазами видал. А теперь они позлей стали, одного хлеба-масла им теперь мало, они теперь хотят, чтоб вообще только одна Германия, а всех других известь...
– ...не налил бы он мне тот стакан – и ничего б, сошло. А тут, конечно, вышел – слепому заметно. Подхожу к машине, только за дверцу, и мильтон, вот он...
– ...доходит до меня очередь, а кассирша из окошка: «Только в мягкий остались!» Ладно, думаю, хрен с тобой, давай в мягкий. Первый раз в жизни на курорт еду, можно себе такое буржуйство позволить. Посчитал по расписанию – как раз двадцать второго должен уж на месте быть. И скажи, – ну хоть бы какое предчувствие...
– ...в Тамбове письмо кинул, в Мичуринске кинул, два сразу – второе сестре, в Рубцовку, она там за паровозным машинистом замужем. А теперь вот уж не знаю – придется ль написать...
– ...на должность старшего механика броня полагается. А пришел из военкомата пакет – всем есть, мне одному – нету. Спрашиваю Железнова – почему? А моя где? «Тебе отказали». И глаза отводит. Вычеркнул меня, гад, когда списки представлял. Отмстил, что я тогда на собрании про то его дело рассказал. Сволочь пузатая!
– ...если б только у нас самолетов побольше! Артиллерия у нас сильней, танки у нас лучше ихних, винтовка наша трехлинейная первая в мире. А вот самолетами они пока что побеждают. Количественно. Но это временный фактор. Как товарищ Сталин сказал? «Есть временные факторы, а есть постоянные...»
– ...если махорка – то верно, пятьдесят, а если легкий табак – тридцать грамм только. Не знаешь, а на старшину взлаялся...
– ...сколько уж людей наших побили, земли нашей захватили сколько! Неужто ж они и вправду такие сильные, а мы такие перед ними слабые? – Выходит, что сильные. – Выходит... А почему так выходит – ты ответить можешь? А, брось, – техника! Не в ней дело. Я действительную перед самой войной служил. Техники у нас не меньше было запасено...
– ...комроты из хохлов, на одно ухо контуженный. И тоже в лаптях. Тогда ведь обмундировки никакой не давали. Что с беляка снял...
– ...немцы его сбили! Боялись, что он им делов наделает, как с нами воевать начнут. Сам Геринг этой операцией командовал. Машина у него тяжелая была, четырехмоторная, ахнула об лед, проломила – и на дно. Вот и никаких следов. И еще Чкалова они боялись...
– ...ну и что – промышленность, ископаемые? Без людей это мертвый капитал. У них сколько миллионов – семьдесят? Ну, сателлиты там... Пускай с ними сто наберется. Пускай – сто двадцать. А у нас сто восемьдесят. Мы какую угодно войну выдержим, хоть еще пять, хоть десять лет...
– ...а я разве другое говорю? И я то же: наше дело правое, и победа наша будет. Но только ж ведь можно было так изготовиться, чтоб ему через границу и шагу не ступнуть? Можно ж так было? И не пришлось бы тогда народу столько губить, страдание такое нести...
– ...сверху оно видней. Кто там сидит – они, брат, побольше нас с тобой понимают. А наше дело – помалкивать. Мы люди маленькие. А то если каждый рассуждать примется – что ж это выйдет? Как сказано – так, значит, и есть, точка, шабаш. И не нашими мозгами разбирать – прямо оно или криво...
– ...а то был еще художник Репин...
– ...пулей, да если в руку или в ногу, – так это совсем ерунда! Мне в двадцатом году колчаковской пулей под коленкой ногу пробило – вот, можешь пощупать, чуть-чуть следок остался, и всё...
– ...кровь во мне закипела, встал я. Как, говорю, у вас ни стыда, ни совести! Вам барыш, а невинному человеку отвечать, под суд, может, итить! Нет, говорю, в этих ваших поганых делах я не участник, не затянете меня...
– ...довел до калитки. А уж самая ночь. Она в туфельках, застыла на ветру, ежится зябко, а уходить домой – не уходит. Вы, говорит, такой культурный, такой воспитанный, редко такого встретишь. Ага, говорю, это во мне присутствует. А сам соображаю – как бы это половчее к ней руки протянуть...
– ...в Москве я два раза бывал. И на метре ездил, и по всем улицам, и Кремль кругом обшел...
– ...чтоб у нас танков не было? Да ни за что не поверю! Сколько к войне готовились, сколько про эту подготовку шумели... Это просто их в лезерве сохраняют. Кутузов в двенадцатом году...
– ...мать – и та мне говорит: ты б выпил, Ваня, может, сердцу полегчает. А я, верите ли, не могу... И желания такого во мне нету. Днем – ничего, работаю, а к вечеру – тоска... Выйду за деревню, в поле, на кладбище уж и не захожу, а так – издали. Крест ей поставили березовый, белеется в сумерках...
– ...знаю я твою повадку! Лишний раз лень копнуть. Лопата – она жизнь хранит. А ты – сколько уж ее кидал? – И ничего не кидал, просто забыл раз на привале... – Забыл! Котелок-то ты не забыл!
– ...встал против меня вот так-то, набычился, ну, прямо боднет... «Хоть вы и начальство, а с людьми поступать так не имеете права! И «ты» им говорить!» Ах, думаю, сопля ты жидкая! Диплом заимел – так и нос дерешь, уважение тебе подавай!
– ...с гектара? Ну, это ты брось! – Чего брось? Вон у Котова спроси, он с наших краев, он тебе скажет, брешу я ай нет...
– ...все равно, говорю, ты от меня никуда не денешься, не стращай. Не испугаюсь. А в дому я хозяин...
– ...на этом прииске я как фон барон жил. Кажный месяц на книжку по пяти сот клал, другой бы кто в таком раю век сидел бы да радовался. А я потерпел год, другой... Тошно. Ну, «Яву» курю, кажный день выпиваю, капитал нарастил... Так разве ж в этом и вся жизнь? Я и куском хлеба могу обойтись...
– ...старшему десять, потом девочка семи лет и еще девочка – пяти. А самый последний в ноябре прошлого года народился, мне как раз повестку принесли...
– ...я этот патрон с фамилией, что нам выдали, завтра, как в бой пойдем, выкину к чертовой матери. Пусть уж лучше про меня домой никакой вести не доходит, чем похоронная. А запросит баба – пропал неизвестно куда... Будет с детишками ждать, надежду хранить, – мол, еще отыщется, придет... Все лучше...
– ...а вот еще один, – как муж жену во время этого самого дела застал. Приходит, значит, муж со службы...
В середине ночи, когда связисты уже освоили переговорные таблицы, попривыкли к ним, начальник дивизионной связи вздумал изменить кодовые обозначения. На всякий случай – вдруг немцы уже подслушали и раскрыли коды? Подслушать они не могли, раскрыть коды – тем более, но в отношении бдительности начальник связи был совершенно одержимым человеком. Зная его, можно было ожидать, что до утра он еще не раз все переменит.
Когда Платонов явился на зов, деятельность на командных центрах дивизии поразила его своим лихорадочным накалом, своими темпами. В батальонах и ротах тоже спешили, но там была просто спешка, просто торопливость, а здесь во всем присутствовала нервозность, все было точно на какой-то предельно натянутой струне.
При тусклом свете синих фонариков, не видном уже с десяти шагов, саперы, вонзая в землю лопаты и кирки, копали между деревьями глубокие ямы под блиндажи, рыли соединительные траншеи. Хрипели пилы, разрезая длинные древесные стволы на бревна для блиндажных покрытий. В тех блиндажах, что были уже кое-как состроены и освещены батарейными лампочками, большей частью тоже синими или фиолетовыми, толклись, теснились люди, занятые различной, но одинаково суетливой работой. Беспрерывно сновали порученцы, на ощупь выбираясь из-под бревенчатых накатов и ныряя в ночь, сталкиваясь в траншеях с другими такими же темными фигурами, пробиравшимися из тьмы ночного леса в штабные блиндажи. Человеческая речь звучала обрывисто, на таких тонах, будто все были раздражены, злы друг на друга.
Начальник связи, майор, в больших роговых очках, обосновался в углу одного из блиндажей, на который саперы еще продолжали класть накат, с грохотом сдвигая бревна над головами наполнявших квадратную яму людей, постукивая по дереву топорами. От майора пахло спиртом, хотя он был непьющим, и табаком, хотя и курящим Платонов прежде его никогда не видал. Но это Платонова не удивило, удивляться было нечему: всех эта ночь преобразила, все были непохожи на самих себя, вели себя необычно, несвойственным образом.
– Кури! – размашистым жестом сунул майор Платонову разорванную папиросную пачку, из которой он щедро угощал всех подряд, кто был возле него. Платонов чуждался курения, табачный дым всегда бывал ему неприятен, но он не стал отказываться, неловкими пальцами выковырял из пачки кривую папиросу, ронявшую табачные крошки, и, точно это было сейчас почему-то совершенно необходимо, обязательно, закурил от зажигалки, которую ему протянула чья-то рука.
Возле майора, склонясь к фиолетовой лампочке, тесным кружком сидели командиры связистских подразделений, лейтенанты и младшие лейтенанты, все одногодки, сверстники Платонова, и переписывали новые позывные, пристроив на коленях кто блокнот, кто тетрадку. Платонов достал бумагу и тоже придвинулся к свету.
Пригибаясь, укорачивая свой рост, в блиндаж вошел Федянский, повел по сторонам острой бородкой, оглядывая неровные земляные стены со следами кирок и лопат, потолок из бревен, по которым снаружи ходили саперы, что-то сказал сопровождавшим его военинженерам и быстро вышел. До Платонова донеслось, как Федянского назвали «комдивом». Он еще ни о чем не слышал, ничего не знал. Ему объяснили, и он просидел целую минуту, прежде чем смог писать дальше...
Ординарец майора, пронырливый, расторопный малый, казах, побывал у кухонь и притащил ведро горячего, крепкого чая. Нашелся хлеб, нашелся сахар. К ведру потянулись с кружками, и тесный, полутемный блиндаж сразу показался уютнее, каким-то уже обжитым, обогретым. Даже захотелось: остаться бы в нем вот так и никуда больше не выходить...
Но, допив чай, все направились по своим местам, и, шагнув от порога раз, другой, Платонов снова попал в непроглядную ночь, в черный лес, битком набитый невидимым, неразличимым в темноте народом...
– ...рожь на ссыпку возил? Возил, все могут подтвердить. А на мельнице пять дён грузчиком работал? Тоже все могут подтвердить. Так почему за это не начислено? Мне с колхоза ни зерна лишнего не надо, но что я своим горбом заработал – отдай сполна...
– ...раненый тебе говорил. А я сам в газетах читал. Ты вот в них не глядишь, на курево только пускаешь...
– ...уполномоченный этот городской побелел аж весь и ладонью об стол: «За такие настроения в подкулачный список тебя запишу! И пойдешь на выселение, в Турухан. А то и подале...» Фролка, черт, и тут не сробел. «Ваша власть – ваша воля. Только что ж так низко – в подкулачный список? Уж лучше в кулаки. Иль прям в государи-амператоры, – сразу стенка»...
– ...знал бы, что ты такой, я б тебе и цепку для ножика не давал. Сахаром с тобой, жмотом, делился... – Когда? – Забыл уже? Коротка ж у тебя память!..
– ...»выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой...» Ну ее, эта уже надоела, давайте другую – про синий платочек...
– ...это просто старая слава его такая. А сейчас на Сахалине уже все по-другому, как всюду – колхозы, промысла – рыбу добывают...
– ...если правильно подвернуть – никогда не натрешь. Ты вон у тех, кто постарше, поучись, как они подворачивают. Вон у Меркулова. Меркулов! Научи его. Ты ведь уже на какой, на третьей, кажись, войне-то? Сапог этих самых солдатских поизносил – числа, наверно, нет...
– ...сам ты все по географии позабыл! Главный город там Берн. Мне даже на экзамене в билете этот вопрос достался...
– ...бес-кунак эти дни у них называются. Бес – это пять, а кунак – друг. Пять друзей, значит. А почему такое название – это у них легенда такая есть...
– ...сколько себя помню – все карточки, очереди. За хлебом очереди, за сахаром очереди, за ситцем... Чтоб пару галош купить – всю ночь у магазина стой. Последние года я не хаю, верно, и продукты появились, и товары кое-какие, вздохнул народ... Так на ж тебе – новое разоренье, война, будь она проклята...
– ...а дружбу с ними зачем было затевать? Только в обман дали себя завесть, и боле ничего...
– ...поляки, сербы, чехи там всякие – все они одной с нами крови, славяне, одного теста. Только что речь разная...
– ...до чего ж радостно было глядеть, когда из трубы дым повалил! А ведь какая глухая тайга была, медведи ходили...
– ...так только иной раз в газетах пишут, дескать, от одного вида русского штыка немцы сломя голову бегут. Хрена они бегут. У каждого автомат, патронов до черта – что ему такая техника: штык? Это ж не времена очаковские...
– ...вдруг на него письмо тайное поступает: приглядитесь, неспроста он на станции день-ночь. Никакой он не кипятильщик, а самый настоящий шпион. Поезда списывает. И передатчик радио у него в костыле...
– ...Что Сибирь? Простору в ней много. А страна не ей, Россией жива...
– ...теперь уж и вовсе не заснешь. Слышь? Петух где-то издаля-издаля... Опять... Значит, скоро светать зачнет. Давай-ка, что ль, еще по одной закурим...
Ночь, и верно, клонилась на убыль. Предвещая рассвет, с поля чуть приметно тянуло сыроватой свежестью от уже выпавшей росы. Зарево города утомленно сникло, багровые отсветы его уже не доставали до леса, и тьма под деревьями стала глуше, теперь все в ней тонуло неразличимо. Но небо мало-помалу серело, на нем сначала смутно, затем отчетливей проступили верхушки дубов. Потом в восточной стороне стали зеленеть просветы меж стволами, зазвучал птичий щекот. Зеленая полоса ширилась, в нее вливалась янтарно-розовая, рубиново-огнистая кровь зари – шло неотвратимое, неизбежное утро...
Около пяти часов позади пехоты оглушительно громыхнули гаубицы. Тут же загромыхало слева, справа, близко и подальше; из орудийного грома рванулось шипение снарядов, устремившихся над лесом к закутанному во мглу и туман городу, на немецкие позиции. Бойцы, запрокидывая головы, глядели вверх, некоторым даже мерещилось, что они видят тупорылые чугунные чушки, стремительно прорезающие воздух. Пушечный гром радовал, в нем была грозная мощь, сила, которую всегда так приятно чувствовать за своею спиною пехоте, в нем было возмездие врагу.
Но минут через пять артобстрел оборвался.
– И это что – все? – спросил с недоумением комиссар Иванов. Даже ему, штатскому человеку, лишь на лекциях слышавшему о тактике артиллерии, и то было ясно, что такая короткая, малым числом стволов артподготовка только предупредит немцев о наступлении, но не подавит их огневые средства, не расчистит пехоте путь через их рубежи.
Бойцы в полках об этом не думали. Никто из них не разбирался в сложностях тактики и стратегии, они мало что знали об общей обстановке и совсем ничего не знали о том, какими соображениями руководствуются их главные начальники, никто не был посвящен в разногласия между комдивом и командующим армией. В полках даже не было известно, что ранен Остроухов и вместо него дивизией командует подполковник Федянский, осунувшийся за эти несколько часов под бременем свалившегося на него командования, закуривающий папиросу за папиросой, но старающийся казаться окружающим его людям воплощением хладнокровия, воли, трезвого, ясного рассудка. В полках было чувство полного доверия к той власти, которая ими управляет и посылает в бой, уверенность, что она, эта власть, умна, мудра, все зорко видит и все верно решает, что во всех ее распоряжениях заложена забота о наибольшей для бойцов выгоде, о наибольшей пользе для успеха. Все происходившее воспринималось как должное, без всяких сомнений в правильности, оружие, что было в руках, выучка, которую получили солдаты, наконец, их многочисленность, артиллерия, что только что гремела из ближайшего тыла, внушали ощущение собственной и немалой силы, само дело, оттого что лишь редкие единицы по личному опыту знали войну, казалось легким, простым, и поэтому, когда пришла минута выступать, бойцы снялись с места охотно, готовно, бодро, даже весело. С оживленным говором, словно радуясь, что уже можно не приглушать свои голоса, с дробным стуком сапог по земле, в звяканье, лязге оружия, привешенных к поясу лопат, гранат, алюминиевых фляжек, подсумков взводы, роты выкатывались из леса, переваливали через канаву на его краю и выходили в поле, затянутое бело-розовым туманом, рассыпались в густые цепи. Строясь эшелонами, цепи бодро, ходко двигались по наклону поля к лощине перед больницей, одна за другой входили в густоту тумана и скрывались в нем.
Лес пустел, затихал. Чтобы облегчить солдат от ненужной им в бою тяжести, было приказано не брать с собою шинельные скатки и вещевые мешки, и они остались висеть в обезлюдевшем лесу на сучках, грудами лежать под кустами. Солдаты не бросили их, как попало, напротив, каждый устраивал свое имущество хозяйственно, запоминая место, чтобы не перепутать, сразу отыскать потом, как будто всем без исключения предстояло вернуться из боя на эту опушку и забрать свои вещи...
Последние цепи развернулись на поле и двинулись в туман, к лощине.
Огромную необстрелянную солдатскую массу, таких же необстрелянных взводных и отделенных командиров удивляло, даже озадачивало, что начало боя, то, как выглядело движение навстречу противнику, совсем не совпадает с теми представлениями о войне, которые были у каждого по газетам и книгам, по кино, по рассказам других. Удивляла тишина над кочковатым полем, которое всегда было пашней, но в это лето не было ни вспахано, ни засеяно и густо затравянело, поросло кустиками репейника, удивляло, что цепи спокойно идут в полный рост, что немцы не стреляют, хотя туман редеет с каждой минутой и вражеские наблюдатели, конечно, уже заметили, какие многотысячные человеческие массы появились на пространстве между лощиною и лесом. Еще не изведавшие войны солдаты не знали, что все, что они видели, все, что происходило вокруг и казалось им совсем не похожим на войну, было самой настоящей войною, выглядело и происходило именно так, как только может выглядеть и происходить на настоящей войне.
Те, кто уже спустился в лощину, на территорию городского парка культуры и отдыха, с интересом и чувством чего-то странного, почти невероятного в это время и для места, на котором развернулась война, глядели, проходя мимо, на круглые, ярко расписанные охрой и киноварью шатры детских каруселей, на деревянных лошадок, застывших в беге, с резво поднятыми копытцами, на остроносые лодки качелей, фанерные киоски с надписями «Соки-воды», на дощатую веранду для танцев и голубую раковину оркестра, на волейбольные площадки с натянутыми на столбы сетками – так что хоть бери мяч и играй, на плетеные кресла-качалки под парусиновыми зонтами с разноцветными фестончиками, как бы приглашающие посидеть и покачаться, на замкнутые в штакетник газончики ярко-зеленой декоративной травы, на ровные, чистые, посыпанные желтым песком аллеи и дорожки, на хоровод гипсовых пионеров в центре большого фонтана, в котором только не шумели струи, но в должном объеме была вода и морщинилась легкой рябью... Вчерашняя скоротечная схватка разыгралась в основном над лощиною и на ее склонах, а в парке почти не оставила следов. Только кое-где можно было заметить белый отщеп на древесной коре, задетой пулей, валяющиеся стреляные гильзы да на главной аллее, возле клумбы, празднично пестревшей узорами цветов, грудью на своей винтовке лицом вниз лежал мертвый боец, вкрючив в золотой песок аллеи черные пальцы.
Пройдя лощину, передовые цепи стали подыматься по другому ее склону, с треском и шуршанием продираясь сквозь заросли боярышника и молодого дубняка, почти по земле стелившего свои широко раскинутые нижние ветви.
И сейчас же, как только бойцы выдвинулись за гребень склона, за сплошную зелень лесной поросли, какою-то веселою скороговоркою захлопали выстрелы, возвестив о том, что батальоны столкнулись с передовыми немецкими постами.
Лесистый склон, весь в росе, прохладе и свежести утра, накрытый дремучим пологом черно-зеленой листвы, затененный пластами синеватого, как снятое молоко, тумана, неохотно всплывавшего над зарослями и медленно таявшего в лучах солнца, был довольно крут, изрезан овражками, распадинками. Множество тропинок, сходясь, расходясь, петляло меж кустами, прорезало частый, переплетенный ветвями дубняк. Это были единственные дороги наверх, никаких других, пошире и поглаже, на склоне не существовало. Бойцы, следовавшие за передовыми цепями, так же, как и те, кто прошел первым, лезли, цепляясь за ветки, сучья, помогая взбираться товарищам, которые несли на себе противотанковые ружья, ручные пулеметы, широкие, как трубы, стволы минометов. Надсаживаясь, бодря себя руганью и криком, какие-то чужие артиллеристы, видно, приданные полку из соседней части, в грязных, замызганных, белесых от соли гимнастерках, с треском приминая кусты, тащили вверх по склону тонкоствольную пушчонку на резиновых шинах.
В одной из распадинок, подпертый земляной плотиной, чернел глубокой водою продолговатый пруд с нависшими над ним старыми дуплистыми тополями. Пока цепи проходили мимо пруда, обтекая его с длинных сторон, бойцы, шагавшие узкими бережками по серой, потрескавшейся на паркетные плитки корке грязи, успевали наклониться над водой и, зачерпывая ее горстями, сделать по нескольку торопливых глотков. Перед выходом из леса все были напоены, но лесное озерко манило, и каждый к тому же знал, что не скоро теперь придется хлебнуть чистой ключевой водицы. Да и придется ли...
Повыше пруда, под гребнем откоса, в выемке, загороженной спереди толстым стволом старого тополя, комполка решил поместить свой командный пункт и приказал Ивану Платонову располагаться здесь с телефонной аппаратурой и немедленно налаживать связь – со штабом дивизии и вперед, с батальонами.
Но как только загремела перестрелка, полковой командир, курчавый среднеазиат со смуглым широким лицом, человек непоседливый, доверявший только своим глазам, уже дважды раненный с начала войны и потому при ходьбе опиравшийся на суковатую палку, вылез из ямы и, забрав с собою телефониста с аппаратом, ушел вперед, на винтовочную трескотню – чтобы быть в непосредственной близости от батальонов и видеть все происходящее в натуре. За ним, не желая отсиживаться в укрытии и бездействовать, потянулось и все остальное полковое начальство – комиссар полка, начальник штаба, помначальника штаба. В яме, превратившейся в центр полковой связи, остались лишь трое телефонистов и Платонов.
Минут через пять после ухода полковых командиров снизу зашуршали кусты и появился комиссар дивизии Иванов с несколькими политработниками. Подъем по круче вогнал Иванова в пот, он большим платком отирал красное распаренное лицо и шею. Выглядел он беспокойно, вертел головой – ему казалось, что он уже в пекле сражения и подвергается большой опасности. Он заметно расстроился и помрачнел, узнав, что полковой командный пункт перенесен и надо лезть под самые пули, чтобы на него попасть. А находиться на поле боя, вблизи солдат, их боевых порядков Иванов считал для себя, как для комиссара, необходимым и обязательным. Ему казалось недопустимым, полным подрывом авторитета, если эти ответственные для дивизии часы он проведет в тылу, на КП возле Федянского.
С минуту он медлил. Было почти зримо видно, как боязно ему вылезать за гребень. Но так как впереди ничего страшного как будто не творилось, а, напротив, потрескивали лишь красноармейские винтовки, свидетельствуя, что пехота продвигается, теснит врага, и так как бывшие с Ивановым политруки, народ молодой, горячий, были настроены приподнято, воинственно и стремились к пехоте – Иванов преодолел свои колебания и полез по кустам дальше, шумно пыхтя и отдуваясь.
Дивизионный пункт связи ответил сразу же, слышимость была отличной, без помех. С батальонами удалось связаться не так быстро, оттуда отвечали, что они в движении, еще все на ходу, пехота подтягивается, накапливается, минометчики уже заняли позиции, готовятся стрелять, немцы из больницы отвечают, но слабо, из города тоже слабо – видно, их мало и оборонительных средств у них мало, а то б они, конечно, уже показали себя...
Голоса знакомых ребят звучали возбужденно, пресекаясь от волнения, но было в них больше радостного, чем тревожного, того, что должно быть в голосах людей в подобной обстановке. Платонов слушал их тоже с какою-то необычной, ни на что не похожей радостью, которой трудно было подыскать название. Нервы его были взвинчены, напряжены, но как-то празднично, он испытывал состояние непонятного восторга, смешанного с такими же сильными, томительными замираниями души – замираниями пред тем, что должно было вот-вот начаться, уже начиналось, началось, пред тою неизвестностью, какую несло это начавшееся судьбе всех и в том числе – его судьбе... Не больше пятисот метров отделяло его от тех канав, рытвин, чахлых, обглоданных коровами кустов, в одиночку и островками разбросанных по открытому пустырю перед больницей, откуда вели передачу батальонные телефонисты. Платонов хорошо знал, помнил и мысленным зрением видел сейчас всю местность, на которую, поднявшись из лощины, выдвинулся его полк, чтобы штурмовым броском ринуться вперед, на немцев, на город. Но оттого, что на этой хорошо знакомой ему земле в лоскутках огородов гремели сейчас настоящие выстрелы, оттого, что где-то там, совсем близко, были иноземцы, чужой, враждебный мир, говорящий на непонятном языке, живущий своими, совсем другими законами, обычаями, правилами, отсюда, из этой тихой защищенной котловинки над черным лесным прудом, эти подгородные рытвины, буераки, кусты казались Платонову каким-то совершенно иным, совершенно особым местом, ничего общего не имеющим с тем, что сохранял он в памяти, с той землею, по которой он когда-то бегал и ползал под командою училищных командиров. Казалось даже, что и воздух сейчас там совсем иной, не такой, какой он был всегда и есть всюду, не такой, какой тут, на пункте связи, в пятистах метрах...
Едва Платонов переговорил с батальонами, как включился дивизионный КП. Платонов узнал голос Федянского.
– Седьмого, срочно!
– Он впереди, с батальонами.
– Кто там возле?
– Никого, все с пехотой.
– Связь как – действует?
– С батальонами есть, но пока прервали, меняют места. А от седьмого телефонист не вызывал, вероятно, еще тянет линию...
– От вас там видно что? Почему пехота медленно собирается к рубежу атаки? Чего ждут – пока минами накроют? Уже их авиация пошла!
– Я не в курсе, товарищ третий... – признался Платонов сконфуженно, переживая, что не может ответить Федянскому, хотя не его дело было знать, что там происходит с пехотой, и он понимал, что Федянский сыплет свои вопросы только затем, чтобы выговорить кипящее в нем недовольство.
– Ищи мне седьмого, срочно. Давай его на провод!
– Слушаюсь, товарищ третий! – отчеканил Платонов, отметив мысленно, про себя, перемену, которая произошла в начальнике штаба с его передвижением на должность комдива. И раньше Федянский был взыскателен и строг, но таким колючим, властным тоном все же не разговаривал...
– «Чайка», «Чайка»! – стал вызывать телефонист в решетку мембраны.
Платонов взял у него трубку, по профессиональной привычке всех связистов нагнулся над телефонным ящиком пониже – почему-то всегда кажется, что если склониться ближе к аппарату, то на другом конце провода будет слышней и скорее ответят.
– «Чайка»! Алло! «Чайка»? Громче! Седьмого на провод!
Солдат-телефонист, следивший за выражением лица Платонова, угадав по движению бровей и глаз, что надлежит ему делать, протянул руку к коммутатору и соединил откликнувшегося командира полка с Федянским.
– Как обстановка? – спросил Платонов находившегося с командиром полка телефониста, когда линия освободилась. – Где устроились? Назови координаты по двухверстке.
Телефонист, недолго помедлив, поискав на своей карте, назвал, употребляя кодовые обозначения. Платонов карандашом отметил в планшете место.
Потом он вызвал по очереди батальонные пункты связи, узнал, где они расположились, и предупредил, чтоб все время были на проводах, не бросали больше линии. Если же батальоны двинутся дальше и надо будет снова передвигаться вместе с ними, наращивать кабель, опять менять места – нынешние пункты не свертывать, пусть работают, пока не включатся новые.
На рассвете, умученный хлопотами и сильно проголодавшийся, Платонов съел полкотелка жирной гречневой каши с мясом, которую горячей приберег ему ротный старшина, и теперь его мучила жажда. Он дважды прикладывался к фляжке, запрятанной, чтоб не носить на поясе, в вещевой мешок, и, когда приложился в третий, воды оказалось только на донышке. Одним глотком он влил ее в себя и решил, пока тихо, спуститься к пруду, напиться и наполнить флягу про запас. Можно было бы послать кого-нибудь из телефонистов, но Платонову хотелось еще и умыться – после бессонной ночи лицо просило освежить его водою.
Туман, покрывавший лощину и лесные заросли на ее склонах, уже весь рассеялся, растаял, съеденный солнечным теплом, и только над серединою пруда еще сохранялось небольшое облачко, нежное, кремовое сверху, где его грели, просвечивая почти насквозь, солнечные лучи, и чуть синеватое снизу, где оно, провиснув, касалось зеленовато-черной глади пруда.
Платонов засмотрелся на облачко, невольно привлеченный, тронутый его воздушностью, его нежнейшей окраской, его свечением, отраженным в гладком темном мраморе воды, всей его красотой, тонкой и какой-то совсем сейчас не нужной, находившейся как бы в совершенной противоположности всему тому, что совершалось окрест. Облачко походило на испуганного, растерянного ягненка, пугливо спрятавшегося здесь, в распадинке, под нависавшей листвою, от злого грома войны, гремевшего все сильнее, и сильнее над лощиною, над верхушками леса. Его хотелось приласкать, защитить, укрыть понадежней и укромней, как захотелось бы сделать это Платонову с настоящим ягненком, если бы такой вдруг встретился ему в этом лесу.
Вода в пруду была чуть горьковатой от листьев, что каждую осень падали в нее с окружавших тополей. Платонов напился, умыл лицо, шею; опустив фляжку в воду, подождал, пока она с бульканьем наполнилась.
– Сынок! Сынок!
Вздрогнув от неожиданности, Платонов обернулся недоуменно и не сразу нашел глазами, откуда исходит окликнувший его голос.
Сзади, на полугоре, в частой поросли тонкого осинника стояла пожилая женщина, по-деревенски повязанная белой косынкой, голубея в листве и зеленоватых стволиках ситцевым платьем. Простое ее бабье некрасивое лицо, коричневое от загара, имело выражение испуга, томления, внутренней муки, выражение, возникшее не только что, а, как видно, многодневное, застарелое, ставшее уже для ее лица постоянным, прочно с ним сжившимся.
– Сынок, родной, долго еще стрелять-то будут? Детишки наши от страха прямо заходятся, никакой уж мочи нету терпеть...
– Что вы тут делаете? – выпрямился Платонов. Наверное, вряд ли что еще смогло бы его так удивить здесь, в этих местах, как эта в ситцевом платье женщина, возникшая в осиннике и вопрошавшая в тоне плача и причитания.
– Да разве я одна тута? Нас девятнадцать семей, семьдесят три души. Одно бабьё да детишки малые. В земляночке хоронимся, уж который день...
– Как, то есть, в земляночке? Почему? Зачем вы тут остались?
– А куда ж было деваться-то, милый? Мы все тутошние, парковые рабочие, по баракам жили. Никто нам не сказал, отступать ай нет. Начальник наш как седьмого дня в город уехал, так с той поры не видать его. Да и куда идти-то с дитями на руках? У кого двое, у кого трое, а есть и по четверо...
Следом за женщиной Платонов поднялся по горе и в чащобе осинника увидел черное отверстие дверного проема, ведущее в какой-то подвал или погреб, – наружу выступала только двухскатная крыша, присыпанная толстым слоем свежей земли.
Согнувшись в низком дверном вырезе, Платонов шагнул за порог. В лицо ему ударил густой смрад – запах человеческого пота, детских пеленок, сырой тяжелый воздух подземелья, из которого выдышан уже почти весь кислород. Внутри была тьма, показавшаяся Платонову вначале кромешной. Но все же он разглядел, что подвал уходит далеко вглубь, в середине его узкий проход, а по сторонам – то ли ящики, то ли дощатые нары, и на них полно людей. В потемках блестели глаза, слышался говор и надсадно, истошно, в несколько глоток голосили маленькие дети.
Когда Платонов, за́стя свет, появился в дверях, внутри подвала, в темноте, послышались испуганные восклицания женщин и такой шум, будто все шарахнулись куда-то дальше в глубину; детский плач мгновенно усилился, стал предельно пронзительным.
– Наш это, бабоньки, наш! – громко сказала женщина в голубом платье, протискиваясь под низкий свод землянки следом за Платоновым. – Свой солдатик, не бойтеся. Вчера тут немцев полным-полно было, – пояснила она Платонову, как бы извиняясь за испуг баб и детишек. – Вокруг все шныряли и по-своему – лай-лай! Так и думали, заскочит какой сюда, и всем конец...
– Ну и выбрали себе нору! – подивился Платонов, приглядываясь.
– Да куда ж было деваться-то, милый! – проговорила женщина опять в певучем тоне бабьего причитания. – Мужиков наших нету, всех на войну побрали, никому мы не нужные, всеми кинутые... Бараки наши на голом бугре, разве ж там спасешься? Кажная бонба, кажная пуля туда метит. Вот и позабились сюда, в нору-то в эту. Складом она у нас называется, тут завсегда краски, кисти, струменты садовые хранились... Всё тут ненадежней. Кровля, верно, ветхая, так мы сверху бревен накидали и земли насыпали...
– Фортификация! – усмехнулся Платонов. – Никакой
– Известно, бабы, чего мы понимаем! – охотно согласилась женщина. – Вот кабы при нас мужики наши были!
– Да вы с ума сошли! Вас же тут всех позадавит! – воскликнул Платонов, разглядев, какими ветхими были стойки, укосины, каким гнилым было все потолочное дерево. Он ударил кулаком по одной из балок, составлявших каркас кровли. Она была тонка, стара, в трещинах, и даже глазу было видно, в каком напряжении держит она тяжесть наваленного снаружи земляного слоя. От легкого удара кулаком балка скрипнула, в щели потолочных досок посыпались древесная гниль, труха, комочки земли.
– Уходите отсюда немедленно! – загорячился Платонов. – Да вы понимаете, что вы наделали? Залетит одна какая-нибудь мина, трахнет – и достаточно, вся эта ваша покрыша так на вас и завалится! Давайте, давайте все отсюда! Пока еще можно – по кустам, по лощине, в лес, а там овраги, куда-нибудь в овраг, на дно... Все лучше, – ведь это ж вы себе могилу саму настоящую устроили!
– Что ты, милый, – с дитями под пули! Ишь ведь как свишшут! Да мы все со страху поумираем. Какой там лес, разве до него добежать? Поле ведь чистое, ему, врагу окаянному, как на ладошке все видать!.. – запричитало, перебивая друг друга, сразу множество голосов. – И тут страшно, а наружи оно еще страшней. Чуешь, – уж по всему парку палит... Что там где, что тут – все одно смерть нам. Будем уж тут сидеть. Вчерась отсиделись, можа и нынче господь милует. Только вы, родные, немцев сюда больше не допущайте, уж такой от них страх, такой страх! Больно громко ихний инвентарь бьет!..
– Бабьё вы чертово! – сердясь, закричал Платонов. – Да есть у вас головы-то? Добром вам говорю – уходите, пока целы. Пока не поздно! Бойца в провожатые дам, он вас до леса доведет, покажет, где схорониться...
В ответ еще громче раздались причитания, поднялся такой вой и стон, что Платонов, не имея времени спорить, доказывать, убеждать, не стал больше уже ничего говорить, не стал слушать, а, с сердцем махнув рукою, полез из землянки.
– Ты про нашу укрытию плохо не думай, – сказала ему в спину женщина в голубом платье. – От пули в ней защита верная, а мина ее не тронет, они все дальше перелетают, за парк, на энтот бок...
Пока Платонов находился в землянке, стрельба за гребнем лощины зачастила в совершенно сумасшедшем темпе, а потом в момент, сразу, точно распахнули какие-то удерживающие заслоны, превратилась в сплошной воющий грохот. Над парком ревело и стонало, словно обрушился неистовый, сокрушающей силы ураган. Железо, сталь и свинец, нацеленные немцами в советскую пехоту и пролетевшие мимо, со всею заложенною в них яростью, во всем бешенстве своего разгона встречались с деревьями парка, рвали и кромсали их, сбивали листву и сучья. Литые болванки снарядов, насквозь, с визгом сверлившие чащи зарослей, отрубали, отваливали от старых могучих стволов тяжелые, крупные ветви; задевая в своем падении соседние деревья, с треском ломая тонкий лесной подрост, они шумно рушились на землю. За лощиною, на другом склоне, куда ударяли перелетавшие немецкие снаряды, тоже грохотало почти беспрерывно, – вся котловина парка гремела и была окружена пальбой, так что, даже зная расположение войск, можно было сбиться в определении того, где идет сражение, и посчитать, что оно охватило лощину со всех сторон.
Со склона, на который выскочил из подземного убежища Платонов, в прогалы листвы было частями видно поле перед лесом. Его покрывала розовато-серая пыль от разрывов. Пока Платонов смотрел, – а это был краткий миг, – на поле вскинулось и опало еще несколько высоких земляных взбросов.
Сильный, вплетенный в наземный грохот гул моторов, стонущих от предельной форсировки, заставил поднять голову. В клочьях дыма над парковой котловиной, завалившись на крыло в крутом вираже, чертил стремительную дугу «юнкерс», нацеливаясь на что-то на земле и хищно приспуская тупой нос.
Платонову стало страшно, как никогда еще не было страшно в жизни, до слабости и бессилия в коленях, – от несущегося над парком железного урагана, от «юнкерса» над головою, затемнившего простертыми крыльями свет неба, но больше всего – от того, что сейчас, в эти минуты, он не на пункте связи, не на своем рабочем, боевом посту и что из-за его отсутствия, возможно, уже произошла или происходит какая-нибудь беда для всего полка или даже для всей дивизии.
С этим страхом в сердце он бросился по склону вверх, к выемке под тополем, скользя и срываясь на крутизне.
Как ни плотен, тесно сомкнут был грохот, от которого дрожал, тугими волнами бил в уши воздух, а в обрывистых местах склона даже отваливались и сыпались струйками сухие комочки земли, Платонов все же уловил в нем еще и тонкий, слабый призвук, похожий на далекое пение, какое-то – «а-а-а...». Оно шло из самого эпицентра грохотания, становясь явственней, различимей в промежутках между взлетами грома, и Платонов догадался, что это тонкое, далекое звучание, пение, тонущее в пальбе сражения, – «ура!» поднявшихся в атаку батальонов.
Телефонисты, сгрудившись, стиснув головы возле одной телефонной трубки, слушали, бездыханно открыв рты, с бледными, возбужденными лицами.
– Немцы бегут! – в три голоса закричали они Платонову. – Наши возле больницы! Бросают гранаты в окна!
Платонов, задыхаясь от бега, волнения, вырвал у них трубку. На проводе были все три батальона. Заглушая друг друга, батальонные телефонисты кричали что-то сумбурное, в их оглушительном хоре мало что можно было понять, лишь отдельные слова и обрывки фраз.
Настойчиво заявлял о себе дивизионный пункт связи, требовал ответить. Платонов поспешно отозвался, ожидая услышать Федянского. Нет, это просто телефонисты, снедаемые любопытством, по собственной инициативе спрашивали, что видно с полкового пункта, правда ли, что пехота уже в городе? Федянский и весь его штаб не отрываются от стереотруб, на КП радостная суета, пущен слух, что немцев сломили одним ударом, полный успех.
У Платонова не достало терпения дослушивать до конца.
Счастливый от того, какую может сообщить он весть, захлебываясь словами, точь-в-точь, как батальонные телефонисты, он закричал в трубку, повторяя то, что слышал: что немцев опрокинули, они бегут, наши уже ворвались в больницу, обошли ее, наступают дальше, еще немного, еще чуть, и будет взять весь город...
Грохот боя после атаки отодвинулся от края лощины ближе к городу, приглох, упал, стал раздробленней и мельче. Уже не громыхало по всему фронту, стрельба теперь частила попеременно то в одном, то в другом краю. Над парком уже не свистело всплошную, ураганно, летящая буря разбилась на множество отдельных голосов – свирельно-тонких и грубых, басовитых, пронзительно-высоких, сверлящих и каких-то фыркающих, захлебывающихся, чмокающих. Отчетливо и резко, точно ломали сухую кость, пощелкивали о деревья осколки. Иногда снаряды проносились над самым укрытием связистов, совсем низко, – телефонисты инстинктивно пригибались, втягивали головы в плечи. Несколько мгновений после этого казалось, что воздух по следу пронесшегося снаряда свернулся в тугой звенящий жгут и медленно, не переставая звенеть, раскручивается, распрямляется.
Снова над лощиною, так же наклонив в вираже крылья, скользнул бомбардировщик, возможно, тот же самый, что в первый раз, и снова хищно ринулся с высоты к земле и круто взмыл, взревев моторами. Было ясно видно, как из его брюха, точно дрова, посыпалось множество мелких бомб, когда он, пикируя, устремился на выбранную цель.
Телефонный провода не оставались немыми ни на секунду. Батальоны переговаривались между собою, запрашивали, где командир полка, требовали с ним связи.
Полковой командир из воронки, в двухстах метрах позади батальонов, подступивших к окраинным улицам, каждые пять минут вызывал тылы, ругал артиллеристов за то, что молчат, не помогают пехоте, предоставили ее самой себе. В другой жилке провода не умолкал высокий нервный голос Федянского, то распекавшего командиров полков, то что-то кричавшего в батальоны. Названия местности, кодовые обозначения частей, команды, приказания, угрозы, просьбы, самый причудливый цветистый мат – непрерывным клокочущим потоком неслись по проводам из конца в конец: достаточно было послушать десять минут, чтобы от напряженного гудения мембраны начало так же громко гудеть в самой голове...
Развернув карту, Платонов отыскивал и метил места, что назывались в телефонных донесениях, чтобы представить, как далеко продвинулись батальоны, какие занимают они позиции. Ипподром, кирпичный завод, стадион «Динамо»... Выходила ломаная, языкатая линия. Она подступала вплотную к городской черте, кое-где пересекала ее, отдельные подразделения сумели захватить десяток-другой окраинных домиков, куски улиц, вклиниться в оборону немцев на приусадебные огороды, в чащи садов, в путаницу разделяющих дворы изгородей, но до захвата всего города было еще далеко, карта показывала, что главная часть работы впереди, ее еще только предстоит делать.
В районе кирпичного завода, справа, где был стык с другим полком, пехоте приходилось особенно туго. Немцы засели за толстыми стенами цехов, за кирпичной оградой с прорубленными амбразурами, на верхушке тридцатиметровой заводской трубы прятался наблюдатель, который сверху отлично видел всю местность и наводил огонь минометчиков. Комбат отчаянным голосом кричал командиру полка, что надо ко всем чертям разрушить, повалить артиллерией трубу и снести кирпичную ограду, а если нет снарядов на то и на то – обязательно, скорее, во что бы то ни стало трубу: из-за нее батальон прижат к земле, все время под прицельным огнем и потери уже такие, что страшно подсчитывать.
На крайнем левом фланге, в районе стадиона, наступление тоже приостановилось, не дав значительного успеха. Командир батальона, которого не оставили ни его уравновешенность, ни его природный юмор, доложив, что «захопыл» северную трибуну и уже одни ворота – «так що можно ставыть голкыпера», о новых приобретениях больше не доносил, помалкивал. Когда же комполка стал его распекать, что он теряет инициативу, топчется на месте, он с ядовитой иронией возразил, что совсем не топчется, а успешно продвигается и уже хозяин не только над воротами, но и над штрафной площадкой. А будь в его распоряжении хотя бы одна 76-миллиметровая батарея, чтоб подавить немецкие «эм-га» под бронеколпаками, которых у него на пути что коровьих лепешек на лугу, так он давно бы уже владел всеми трибунами и даже кассой у входной арки. И наверно, уже глядел бы футбольный матч: в батальоне каждый второй спортсмен, две команды сыскались бы мигом...
Неяснее всего было в центре, в секторе батальона, который штурмовал больницу. Из того, что неслось по проводам, было понятно только, что больницу обошли со всех сторон, фронт батальона возле самого города, но немцы в здании не сдались и не сдаются, на этажах идет бой. Каково там положение – в точности не знал никто, даже сам командир батальона: никакой связи с солдатами, что проникли в здание, не имелось и установить ее было невозможно – немцы не только ожесточенно сражались внутри, но, оправившись от короткого замешательства вначале, частью своих сил сумели создать круговую оборону и никого не подпускали к зданию.
По лощине в тыл уже тянулись раненые – в кровавых бинтах, хромая, кто поспешно, торопливо, а иные не спеша и не очень обращая внимание не секущее кусты и ветки железо, точно после того, как они вышли с передовой, здесь с ними уже ничего не могло случиться.
Один из раненых, с головой, толсто обмотанной бинтом, ярко-красно намокшим спереди, с голой, тоже толсто забинтованной рукою, продетой в висящий на шее ремень, голой потому, что солдат отрезал или оторвал рукав по самое плечо для удобства перевязки, набрел прямо на телефонистов, сел на край выемки, свесив ноги в спустившихся обмотках и грязных ботинках из грубой кожи, и бодрым голосом попросил закурить. Одежда на солдате была так попачкана кровью, что он выглядел раненым не только в голову и руку, но еще во множество мест.
У Платонова от ярких пятен свежей крови все внутри даже как-то охолодело и сжалось в немом тихом ужасе. Торопясь и от торопливости не очень ловко он скрутил из бумаги цигарку и подал ее солдату незаклеенной, чтобы тот заклеил ее уже своей слюной, и готовно подержал бензиновую зажигалку, пока солдат, приставив цигарку ко рту здоровой рукой, не раскурил как следует махорку.
Старательно и торопливо услуживая солдату, Платонов, кроме чувства совсем братской близости, которое с начала боя остро и явственно вошло в него ко всем однополчанам без различия званий и положений, испытывал еще и что-то стыдливое, неловкое. Ему было совестно перед этим малым, побывавшим в самом пекле, за то, что он здоров и невредим, что он, такой бравый на вид лейтенант с двумя «кубарями» в петлицах, вроде бы отсиживается здесь, в этой яме, почти в полной безопасности, тогда как весь полк под огнем.
Малому было лет двадцать пять. Он курил с жадностью, выдыхая дым и тут же затягиваясь всею грудью снова. В этом его жадном курении было заметное глазу, переживаемое им сейчас наслаждение жизнью, радость всего его существа, что он вышел оттуда, где уже многие сделали свой последний вздох, и хоть и покалечен, но живет и будет жить дальше.
Дыша дымом, сплевывая с сухих, потрескавшихся от жажды губ крошки махорки, парень рассказывал про то, как «дали» немцам, рассказывал весело, упоенно, с жаром, – бой представлялся ему сокрушительною победою. Но где именно происходило то, про что он рассказывал, куда наступала его рота – Платонов и телефонисты так и не смогли понять, как ни расспрашивали солдата. Он совсем не разглядел местности, на которой шел бой, не засек памятью ни одного приметного ориентира. В сознании его с подавляющей все остальные впечатления силою отложилось только то, как густо чиркали по будылью немецкие пули и как он бежал с цепью по огородным грядам с картошкой, а впереди бежал немец, удирая, без винтовки и ранца. Тонкие его ноги вихлялись в широких голенищах сапог, на ходу он сбросил каску; падая за спиною, она ударилась о каблук его сапога и подскочила, точно мяч.
– Я ему кричу: не уйдешь, гад! – несколько раз повторил парень, весь так и наполненный этим эпизодом, переживая его снова и снова. – Все поддаю, поддаю за ним, все хочу его штыком, штыком. А сам уж запалился, в груди дерет – никак мне его не догнать. В стволе у меня патрон, только нажать, а я, ну, как вроде рассудок куда делся, все хочу непременно штыком. А потом уж гляжу, он шибче меня бежит, уходит, гад. Я тогда шаг сбавил, приклад к плечу и – ах! Он только башкой, гад, мотнул и тоже с бега на шаг. Ну, думаю, смазал, счас я тебя еще! Затвором – раз-раз, а он вдруг стал, постоял малость и спиной об землю – бух! И руки так-то вот раскинул... И тут – ж-ж! Мина. Кабы я лег, она б меня не тронула, подлюка, шагах в тридцати лопнула, далеко. А я как посередь поля был, так и остался – к немцу этому, гаду, шел, на него поглядеть...
Солдату дали напиться. Запрокинув голову, он сделал из фляжки несколько звучных хлебков и, докуривая цигарку, спаленную почти до самых губ, пошел по лесу дальше, в тылы.
Случайно поглядев на циферблат, Платонов обнаружил, что час уже далеко не ранний. Он удивился – куда же делось время? Он совсем не чувствовал его хода.
По-прежнему все линии, все каналы были наполнены клокотанием возбужденной, хриплой человеческой речи, криками, руганью, однотонными повторениями позывных. По-прежнему с передовой в тыл, на КП дивизии, на КП артиллеристов неслись просьбы о помощи, просьбы поддержать огнем там-то или там-то, туда-то и туда-то кинуть хотя бы пару-тройку снарядов. Изредка в ответ на умоляющие и бранные просьбы из леса начинала стрелять артиллерия и, недолго погромыхав, замолкала. Видно, боеприпасов у пушкарей было в обрез...
Связь действовала бесперебойно, Платонову можно было гордиться. Пока его никто и ни в чем не мог упрекнуть. Свое дело он сделал и продолжал делать хорошо. Но каждый раз, когда на коммутаторе соединяли линии, он с неприятной теснотою в сердце ждал – откликнутся ли с концов? С такою же, даже с большею тревогой, написанной на лицах, ожидали этого телефонисты. Если линию перебьет – кому-нибудь из них вылезать из укрытия, идти под пули, искать и чинить обрыв...
Еще один раненый пехотинец забрел к связистам. Его только чуть царапнуло в плечо, да на руке была неглубокая ссадина неизвестного происхождения, даже уже не кровоточившая. Но настроен он был не в пример первому – уныло.
– Разве их вышибешь? – сказал он, махнув безнадежно рукою на вопрос связистов, как там, впереди. Солдат был возле ипподрома, командир его взвода был разорван миною, из четырех отделенных двое убиты, один тяжело ранен и лежит сейчас там, где ранило, истекает кровью. А вынести невозможно, двое пытались, полезли – убило. Взводом командует младший сержант, но какой это взвод – только название, из сорока человек в нем осталось всего десять-двенадцать.
– Я их, немцев-то, по правде сказать, и не видал глазами – по щелям сидят. Мы в открытую прем, а они только из пулеметов татакают. У них там дот на доте, все пристреляно, одной проволоки сколько понатянуто. Только кто подымется – сразу со всех сторон: та-та-та... Так секут – даже трава и та как под косой ложится... Надо их танками давить. А то что ж – нас одних пустили, пехоту. Что я против их дотов этим вот самопалом сделаю? Все одно, что коровьими катяхами в них кидать... – и солдат зло пнул ногою приклад трехлинейной винтовки, которую положил возле себя на траву, садясь под тополем передохнуть.
– Оставь-ка ее нам, – сказал Платонов. – Все равно уже не солдат, в госпиталь идешь. А нам она пригодится. Видишь, у нас облегченные карабины только...
– Не... – подумав, сказал солдат и придвинул винтовку к себе поближе, как будто ее у него могли взять самовольно.
– Почему – не?
– А сказано ж было – личное оружие не бросать, выносить с поля боя при себе. Без винтовки прийти – это же... Меня расстреляют...
– Да ну, сказанул тоже, – усмехнулся Платонов. – Чтоб за винтовку раненого расстреливать?
– А то нет? Иш как! В трибунал – и не оправдаешься... – угрюмо, с полною верою в свой страх сказал солдат, поскребывая свое грязное, худое личико с острым, заросшим щетинкою подбородком. Был он годами еще молод, лет тридцати, но выглядел куда старше, потому что имел какое-то стариковское сложение – сутулое и некрепкое. Маленькие глазки его в воспаленных безбровых веках, после всего того, что ему пришлось повидать на поле боя, глядели мутно, шало, диковато. Он тоже попросил закурить, ему дали махорки и бумаги, и, пользуясь возможностью захватить побольше чужого курева, он свернул такую нескладно-великую цигарку, какую никогда бы не скрутил из собственного табака.
Поперек лощины от города низко, медлительно плыли клубы черного дыма. Дым этот появился с полчаса назад и постепенно делался все чернее и все ниже, отяжеленней прижимался к земле. От него у телефонистов уже першило в горле, пощипывало глаза.
– Город-то расчадился, прямо терпежу нету... – сказал Яшин, один из телефонистов, более всех страдавший от дыма. Запрокинув голову, он с недовольным выражением последил глазами за тем, как меж верхушками тополей разорванными сгустками ползет и оседает в котловину жирная копоть.
– Это не город, – поправил Яшина раненый солдат. – Это вон там, – показал он рукою за кусты. – Здоровенный такой домина.
– Больница? – спросил Платонов.
– Не знаю, больница или что. Но шибко горит, пламя так и хлещет. Ближе́й и вовсе тошно. Я полем, канавами полз, так чуть не задохся.
– Там же ведь наши! – вырвалось у Платонова.
– Поймешь там что! – сказал солдат с безразличием. Он уже отвоевал свое, то, что осталось позади, за спиною, уже его не интересовало. – Там и внутри стрельба, и возле, и со всех сторон...
Двумя днями позже, когда в штабе дивизии составляли для командования армии и фронта пространный документ, подводивший итоги наступательной операции 19 июля, в него включили и несколько абзацев с описанием того, что произошло в районе городской больницы.
В этих абзацах было сказано, что атака батальона на больничное здание, благодаря стремительности, отваге бойцов и командиров, имела успех, хотя немцы, оборонявшиеся в самом здании и в расположенных возле него окопах, пустили в ход все оружие, какое только у них было: по атакующим били десятки пулеметов, скорострельных пушек, и все пространство, по которому двигался батальон, было покрыто густыми разрывами снарядов и мин. Немецкая пехота, находившаяся на поле, не выдержав натиска, бежала, в здание удалось ворваться группе красноармейцев численностью до ста человек во главе с лейтенантом Зыкиным. Считая группу Зыкина достаточной, чтобы справиться с блокированными немцами, а судьбу их – решенной, хотя угадывалось, что они намерены упорно сражаться, командир батальона, оставив больницу у себя в тылу, повел солдат дальше, к окраине города, вдогон за противником.
Отчет о боевых действиях составлялся дивизионным штабом без участия тех, кто сражался с немцами внутри здания, ибо никого из группы Зыкина в живых не осталось, и поэтому бой с немецким гарнизоном был представлен в общих чертах, без подробностей – так, как смогли рассказать о нем наблюдавшие этот бой со стороны, те, кто находились поблизости от больницы и в продолжение многих часов слышали доносившиеся из нее крики, стрельбу, взрывы гранат.
Группа Зыкина встретила сопротивление более серьезное, чем можно было предполагать, зная примерно, сколько немцев осталось в здании. Но основные силы батальона были скованы в черте города немцами, засевшими в домах и за домами, в приусадебных садах, за рядами колючей проволоки, натянутой на колья или спиралями распущенной по земле, резервами комбат не располагал, и оказать группе Зыкина поддержку было решительно нечем. К тому же из пулеметов, установленных на крыше больницы, немцы осыпали свинцом все подходы и подступы к зданию, и если бы даже у комбата имелся резерв – его все равно вряд ли удалось бы перебросить Зыкину.
Однако группа Зыкина все же теснила немецкий гарнизон. Стрельба, начавшаяся внизу, в первых этажах, медленно распространялась по зданию, поднимаясь все выше с этажа на этаж. Красноармейцы выбивали немцев из засад, очищая коридоры, один лестничный переход за другим. Упорной обороне немцев способствовали масштабы больницы, запутанность внутренних ходов, то, что немцы успели хорошо познакомиться со всем зданием, освоиться в нем, тогда как красноармейцы двигались наугад, вслепую, руководствуясь лишь смекалкой и чутьем.
Внутри здания было немало горючего материала – мебели, матрацев, набитых ватою, мочалом, дощатых ящиков со стружками, приготовленных для эвакуации медицинских приборов. От взрывов гранат, вспышек ракетниц, которые в изобилии были у немцев, здание загорелось. Едкий дым быстро наполнил этажи, в окнах зарозовело пламя. Сражавшиеся оказались в центре пожара. Выстрелы звучали теперь в непроницаемом дыму, сквозь гул и треск огня, сливавшего свои языки в один гигантский костерище.
Очевидно, обе стороны понесли уже значительные потери – стрельба в здании заметно ослабела. По звукам также можно было понять, что превосходство перешло к немцам и теперь они стали теснить красноармейцев. Их автоматы тыркали там, где прежде раздавались выстрелы винтовок и очереди советских ППШ. Даже в нижних этажах, что показывало, что немцы, которых все время отжимали наверх, просочились вниз и зажали бойцов Зыкина в середине здания.
Командир батальона, не на шутку встревоженный таким оборотом дела, посовещавшись с командиром полка, добился от него разрешения снять с передовой два взвода и бросить их на помощь Зыкину. Он расчитывал, что под прикрытием дыма, окутавшего больницу и расползавшегося от нее по всему пустырю, взводы сумеют пробиться сквозь заградительный огонь немецких пулеметов. Связной, пригибаясь, побежал с приказом в назначенные для этой цели взводы. Но тут из-за городских домов выдвинулись танки с крестами на башнях и повели частую прицельную стрельбу. Вторя им, захлопали скорострельные пушчонки, рассыпая над полем визжащие снаряды. И одновременно с этим под прикрытием танков и пушек, перебегая от куста к кусту, от выемки к выемке, треща автоматами, двинулась на батальон немецкая пехота, оправившаяся и усиленная резервами.
В те минуты, когда Иван Платонов разговаривал с раненым в плечо солдатом, возле больницы снова были немцы.
Командир немецкого батальона, сам лично руководивший солдатами, пробившимися на выручку к осажденным, с горячим от стрельбы автоматом, в мундире, иссеченном осколками красноармейской гранаты, разорвавшейся у него почти под ногами, пожал Гофману руку.
– Вы дрались несколько часов в окружении и сумели удержаться. Вы и все ваши товарищи будете награждены.
– Хайль Гитлер! – ответил Гофман. – Я рад, если мы заслужили эту честь.
Разговор происходил в одном из залов нижнего этажа, наполненном угарным смрадом, гулом гремевшего вокруг боя, шумом воды, хлеставшей этажом выше из перебитых водопроводных труб. Пол в зале был засыпан разноцветной штукатуркой, обвалившейся с потолка и стен, посередине в вертикальном положении покачивалась на единственной уцелевшей цепи бронзовая люстра. И совсем мирно и нетронуто, удивляя этим своим мирным видом, среди полного разгрома, постигшего пышно убранный зал, над изломанными стульями, креслами, опрокинутыми столами высились по углам в кадках, окрашенных в зеленое, старые, величественные пальмы...
Лицо Гофмана было черно от копоти, обожжено. Пятнистая маскировочная куртка дымилась. Трудно было понять, тлела она от залетевшей в ткань искры, или это Гофман был так густо напитан дымом и теперь дым постепенно выходил из складок его одежды.
– Сколько русских солдат еще находится в здании? – спросил командир батальона.
– Тридцать или сорок, – ответил Гофман. – Мы перебили больше половины.
– Сколько нужно вам времени, чтобы уничтожить их всех?
– Двадцать минут, – сказал Гофман, подумав. – Если ваши солдаты возьмут на себя внешнюю оборону. Я тоже потерял много людей.
Составители штабного отчета, называя сражавшихся в больнице бойцов группой лейтенанта Зыкина, не знали, однако, того, что сам Зыкин был убит в первые же минуты штурма, когда солдаты еще только врывались в здание и Зыкин, с автоматом, в лихо сбитой на затылок фуражке, в желтых кожаных перчатках, надетых тоже для лихости и шика, для геройского вида, по примеру того, как он видел однажды в журнале кинохроники на фронтовых командирах, перелезал через подоконник в зал нижнего этажа. В штабе не знали и того, что младший лейтенант Губанов, второй после Зыкина в группе по званию, тоже был убит несколькими минутами позже, что потом был убит старшина Боков и что таким образом схватившиеся с немцами солдаты с самого же начала остались без командиров. Впрочем, если бы даже они и были, это вряд ли могло существенно отразиться на действиях бойцов, ибо было крайне трудно, если не сказать – совсем невозможно осуществлять какое-либо командование в лабиринте коридоров, лестниц, бесчисленных комнат и залов, в дыму пожара, как-либо управлять людьми, множеством группок рассыпавшимися по всему необъятному, запутанному зданию, не связанными между собою никакими средствами связи и перемешанными до полной неразберихи с такими же группками немцев.
К тому моменту, когда на помощь роте Гофмана к зданию больницы пробился немецкий батальон, от «группы Зыкина» действительно уцелело уже не больше сорока человек, стесненных в длинный, протянувшийся изломами коридор третьего этажа, из которого не было выхода, потому что на обоих концах находились немцы и бдительно сторожили каждое движение внутри коридора. Если кто-либо показывался в зоне, доступной их автоматам, они в то же мгновение принимались строчить в несколько стволов длинными очередями.
Стоять в коридоре в рост было нельзя, потому что его наполнял плотный, удушливый желто-белый дым где-то по соседству горевших перин и подушек. Только в самом низу, вблизи пола дым был пореже, хоть как-то, но там можно было дышать, и бойцы мостились в коридоре кому как было терпимо: кто на корточках, кто сидя на полу, а кто лежа.
– Что, сержант, как дальше, что делать будем? – перхая, облизывая сухие, в белой накипи губы, спросил пожилой, усатый Прохоренко, бывший колхозный бригадир, смаргивая с красных, разъеденных дымом глаз непрерывно набегающую влагу. Пригнувшись, скрючив объемистое, грузное тело, выставив винтовку со штыком, он сидел на задниках своих больших солдатских ботинок, совсем близко к немцам, за невысокой баррикадой из мешков с песком, которыми на случай бомбежек были заложены больничные окна и которые бойцы переместили на пол, чтобы в обоих концах перегородить коридор и сделать защиту от пуль.
Тот, кого он называл сержантом, ряболицый парень лет тридцати, в такой же, как Прохоренко, солдатской гимнастерке с чистыми петлицами рядового, но со следами ржавчины и дырочками от находившихся в них раньше сержантских треугольников, согнувшись, стоял рядом с Прохоренко на одном колене, сердито дергая рукоять трофейного немецкого автомата. Он только что разрядил в дымное пространство коридора, по тому направлению, откуда стреляли немцы, полный магазин и теперь прилаживал к автомату новый, из-за поясного ремня, за который было заткнуто еще с полдюжины магазинов и столько же немецких гранат на длинных деревянных ручках.
Лицо парня было хмурым. Он ничего не ответил усатому Прохоренко, словно не слыхал вопроса и не разобрал в нем, что это не только Прохоренко, но как бы через него и все другие бойцы обращаются к нему с этим тревожным вопросом и ждут от него ответа. Согнувшись еще ниже, вполголоса, про себя, выматерившись, он продолжал возиться с магазином, никак не подававшим патроны в ствол. Наконец он приладил его как должно, распрямился, провел обшлагом рукава по лбу, стирая пот, от которого давно уже насквозь промокли черные края его пилотки, не новой, как у всех других, получивших свою форму перед самым отбытием на фронт, а грязной, полинялой, поношенной, каким было и все остальное его обмундирование.
– Дай-ка разок дыхнуть! – хрипло попросил он Прохоренко, остановив замутненный усталостью взгляд на синей от набухших вен руке колхозного бригадира с крошечным «бычком». Как ни удивительно, но среди дыма горящих перин, разъедавшего горло и грудь, Прохоренко, старый заядлый курильщик, перхая и помаргивая слезящимися глазами, еще и курил, изжаждавшись за время боя по махорочной самокрутке, по ее привычному вкусу и запаху.
Ряболицего парня звали Алексей Копытин. Если бы несколько дней назад на станции Рассказово с ним не случилось того, что случилось, – он был бы сейчас не в этом горящем изнутри и снаружи здании, откуда не было выхода, под дулами окруживших немцев, среди чужих, незнакомых солдат, из которых едва с десяток успел он узнать по фамилиям, а далеко от этих мест, от этого города, далеко-далеко от фронта, за Уральским хребтом, на отдыхе вместе со всею своею частью, бессменно отвоевавшей в болотистых белорусских лесах с первого дня войны и пролитою кровью, тяжким ратным трудом заслужившей себе наконец отдых.
А на станции Рассказово случилось вот что. Сержант Алексей Копытин отстал от эшелона, с которым ехал. Объявили, что стоянка будет на целый час, бойцы повылезали из вагонов, разбрелись, да вдруг подогнали паровоз, раздалась, команда садиться, и намного раньше срока эшелон покинул станцию. Копытин был в это время на привокзальном рынке, менял пайковый гороховый концентрат на пол-литра самогону и так был занят торговлей с хозяйкой поллитровки, не уступавшей бутылку за две пачки, а требовавшей непременно три, что не слыхал, как кричали садиться, не слыхал паровозного гудка.
Обнаружив, что эшелон ушел, Копытин не испытал ни волнения, ни растерянности. После года на фронте, после всего, что довелось ему за этот год увидеть и пережить, мало чего осталось на земле, что было бы способно привести его в волнение или растерянность. Прежде всего Копытин не спеша тут же у рыночных полков выпил вымененную водку, закусил хрустким соленым огурцом, который ему бесплатно, из доброты, как защитнику отечества, дала торговавшая огурцами молодая смазливая бабенка, и пошел к военному коменданту станции заявлять о приключившейся с ним неприятности. Коменданта на месте не было, он явился только через полчаса, а за эти полчаса, что Копытин провел в ожидании, водка успела крепко ударить ему в голову. Явившийся комендант мигом учуял исходивший от Копытина водочный запах и, не вдаваясь в разбирательство, как и почему получилось, что Копытин отстал, сразу же принялся кричать на него визгливым голосом. В петличках у коменданта красовалась шпала, выглядел он сытенько, чисто и явно даже понаслышке не знал и четверти того, что узнал за этот год Копытин, что было его повседневной жизнью.
Боец из комендантского взвода в это время принес коменданту завтрак – тарелку рисовой, жирно облитой сливочным маслом каши с куском белого хлеба и стакан кофе на молоке и поставил все это перед комендантом на стол, за которым тот сидел. Каша была только что из кухонного котла, горяча, от нее столбом поднимался густой пар...
Копытин не любил начальников, подобных коменданту. До войны, когда он жил в Николаеве, работал газосварщиком на судостроительной верфи, он не любил милиционеров, хотя никто из них не сделал ему никакого зла. В армии и на фронте не любил особистов, заградотрядчиков, хотя с ними у него тоже не возникало никаких столкновений и не было поводов на них обижаться. Не любил безотчетно, необъяснимой нелюбовью, не внося в свое чувство никакого точного, определенного сознания. В теории, отвлеченно, он был согласен, что служба, исполняемая этой категорией людей, нужна, более того – необходима, но побороть непроизвольный протест внутри себя не мог: сами исполнители этих служб, когда Копытин с ними встречался, видел их в действии, всегда воспринимались им как нечто, наполняющее жизнь излишними помехами и утеснениями.
Пока комендант хлестал Копытина обычной руганью, Копытин, стоя перед ним навытяжку, молчал. Он понимал, что виноват, и покорно принимал брань. Но когда комендант в пылу начальственного гнева стал грозить Копытину фронтом, штрафным батальоном, где его научат дисциплине, где ему самое место, как разгильдяю, пьянице и без одной минуты предателю, – Копытин вскипел. Крепко сжав челюсти, он тяжело, пьяно шагнул к столу, отделявшему его от коменданта, протянул руку, наложил пятерню на комендантскую макушку со светлым кружком плеши и с силой всадил его всем лицом в горячую рисовую кашу...
Суд и расправа над Копытиным свершились в темпах военного времени. Друзья его, однополчане, ничего не ведая о судьбе Копытина, не успели еще доехать до Урала, а ему уже зачитали бумажку, лишавшую его сержантского звания, заслуженных на передовой медалей, отдыха в тылу, и, сопровождаемый стражниками, на этой же станции Рассказово Копытин был сдан под расписку в эшелон, в дивизию, которую спешно мчали на фронт, и приписан к роте Зыкина, получившего насчет Копытина от рассказовских военных властей особые предупреждения.
Никогда Копытин не числился преступником, его положение было для него новым, нес он его с великим душевным удручением и, очутившись в вагоне, среди строгого, незнакомого сибирского народа, ожидал, что и сибиряки отнесутся к нему как к преступнику, в соответствии с тем, как трактовали Копытина составленные на него бумаги. Но происшествие на станции Рассказово, когда про него узнали, вызвало у солдат и у ротных начальников только смех и самое неподдельное искреннее сочувствие Копытину.
Ему же, однако, было не до смеха. Ничего веселого в своей истории Копытин не находил. Мало того, что пропали отдых в тылу и, следовательно, месяц-полтора верной жизни без бомбежек, минных обстрелов и постоянного риска, мало того, что он снова ехал на фронт, под пули, вновь на игру со смертью, которая рано или поздно, но всегда выигрывает, мало того, что он снова был рядовым, как в начале войны, – с него еще сняли и все его боевые медали. Не бог весть какие это были награды – не ордена из золота и серебра, но они были заслужены честно, кровью, муками в болотах на Припяти и Десне, где ревматизм и лихорадка косили людей хлеще немецких пуль, вручены ему на передовой его командирами, которые знали ему настоящую цену, не как те, что судили его и изломали ему судьбу в пять минут. С этими медалями Копытина как бы лишили и всего славного фронтового прошлого, которым он скромно, потихоньку, про себя, гордился, всего им сделанного, выстраданного, вынесенного. И это было для Копытина горше и обидней всего...
– Ложись! – пронзительно закричали в коридоре.
Из дыма с немецкой стороны вылетело черное железное яйцо гранаты, ударилось в бруствер, как раз перед Прохоренко, и на миг влипло в податливую ткань мешка, вмяв гнездо в его песчаной набивке. Из гранаты сочился дымок, ее сотрясала заметная глазу нутряная дрожь – в ее середине горел запал, отмеривая последние перед взрывом секундные доли.
Прохоренко сполз с пяток на пол, обмякло отвалился корпусом в сторону, к стене. Его губы беззвучно шевелились, он точно силился что-то сказать, глаза прикованно, расширенно глядели на черное яйцо.
Безусловно, он был бы убит, как был бы убит и Копытин, и другие, что находились возле них, поблизости, если бы Копытин в следующий миг с нечеловеческой, какою-то совершенно звериной быстротой, на которую вдруг оказалось способным его утомленное тело, не прянул к гранате. Соскользнув с бруствера, она падала на пол, и до взрыва, верно, оставалось уже совсем ничего. Копытин подхватил ее на лету и выкинул наружу сквозь квадратный проем разбитого коридорного окна.
Рука у Прохоренко, когда он передавал Копытину «бычок», подрагивала. Копытин сунул окурок в рот, жадно потянул горячий махорочный дым, в одну затяжку высосав весь «бычок» до конца.
По коридорным окнам, отбивая от стен штукатурку, полоснула пулеметная очередь, откуда-то сверху, с выступа здания, видного в разбитые, расщепленные, без единого стекла рамы.
И сейчас же позади, в противоположном конце коридора, тяжкими обвалами грохнули взрывы гранатных связок, зачастили немецкие автоматы, свидетельствуя, что немцы сорганизовались, пополнили свои ряды и от осады перешли к активному напору.
Коридор изгибался, с того места, где находились Копытин и Прохоренко, было не разглядеть, что происходит там, где начали нажимать немцы, – гремели только выстрелы, оглушительно отдаваясь в пространстве коридора.
Потом на стенах заплясали отсветы яркого пламени. По знакомому запаху, ударившему в ноздри, Копытин сообразил, что немцы пустили в дело огнемет.
Не видавшие этого оружия бойцы еще только смекали, сколь велика от него опасность, но Копытин понял сразу же.
Ну немцы! Ну хитры, ну коварны! Зажали, замкнули со всех сторон и теперь, чтоб не терять своих людей, хотят покончить с красноармейцами скорым и верным способом – сжечь всех живьем!..
По окнам опять простучала пулеметная очередь, отбивая от рам щепу. Прошлый раз пулеметчик сумел кое-кого достать, теперь бойцы были настороже, умнее – с первыми пулями метнулись под низ оконной стены.
Жаркие отблески ширились, полыхали ярче, ближе. Озарив всю видимую часть коридора, прошипев, сверкнула огненная струя и словно взорвалась бешеным пламенем. К желтому смраду тлеющих перин прибавился черный, смолистый дым самовозгорающейся жидкости. Он клубился в желтом отдельно от него, не смешиваясь, стремительными спиралями, завихрениями, с какою-то буйною, злою энергией. Сквозь выстрелы, шум, гулкое эхо, гремевшее в здании, снаружи в окна доносились крики на немецком языке. Они звучали, как ликование врага, от них еще сильнее становилось чувство полной безысходности, конца.
Чадный гудящий огненный вал надвигался из глубины коридора во всю его высоту. Теснимые огнем, бойцы пятились, били из винтовок в его обжигающее жаром кипение, за которым скрывались немцы с огнеметным аппаратом. Один солдат, обрызганный жидкостью, свалился на пол, корчась, катался в толпе, под ногами у людей. В сумятице его не замечали, топтали ботинками. Пылающими руками он рвал на себе одежду, пытался ползти от подступающего огня. Пламя, отбросив солдат, внезапно накатилось бурной волною, и горящий, орущий диким голосом человек исчез в его клубах.
Еще струя жидкости, с силой выброшенная из аппарата, шипя, пронизала бушевание пламени, ожгла потолок, стены, захватывая новую часть коридора. Огненный ливень полился сверху на бросившихся в разные стороны бойцов. Мгновенно взрывчато вспыхнули стены, покрылись текучими, черно-красными языками. С десяток солдат, не выдержав, сдавшись страху, побежали в свободную от пожара половину коридора, толкая друг друга, спотыкаясь, валясь на тех, кто хоронился возле Копытина за баррикадой. Трое, совсем без рассудка, перемахнули через наваленные мешки и пустились дальше.
– Куда?! – взмахнул руками Прохоренко, пытаясь схватить, остановить бегущих. – Там немцы! Куда?!
– Обалдели?! Назад! – закричали им вслед.
Навстречу бегущим ударили автоматы. Двое упали, с разлету покатившись по полу, третий, подстреленный, присел и с тою же опрометью, с какою бежал на немцев, сильно хромая, кинулся обратно, под защиту баррикады.
Пулеметчик, снаружи с угла корпуса следивший за коридорными окнами, заметив мелькание фигур, опять прострочил по оконным проемам.
Тоскливый, сосущий, предсмертный холод заныл под сердцами у всех, кто был в коридоре. Крышка, сказало каждому сознание, дороги нет никуда.
Тоненький, белобровый, с детским лицом Коля Панкратов, совсем мальчишка, без пилотки, дыша открытым ртом с видным в нем розовым язычком, подполз к Копытину и прилег возле него на полу. В детских глазах Коли Панкратова были и страх, и томление, но более всего в них было ожидания, почти мольбы, направленной Копытину. Он смотрел на бывшего сержанта так, точно тот мог – и Коля ждал этого, просил его об этом – придумать и сделать сейчас такое, что спасет, вызволит всех из беды, сохранит всем жизнь. Еще люди приблизились, подползли к Копытину и Прохоренко, хотя они были ближе всех к немцам и возле них было опасней, чем позади, за их спинами. Копытин обвел взглядом жавшихся к нему людей: у всех было то же самое, что у Коли Панкратова, – ожидание чуда, которое должен был он сотворить... Наступали страшные, видно, последние для всех минуты, что понимали и чувствовали все, и в эти минуты, когда уже не было больше никаких других надежд, неоткуда было ждать спасения, когда уже ничто больше не могло помочь – самую свою последнюю надежду люди обратили к нему, Копытину, как-то разом, все одновременно вспомнив, что он единственный среди них опытный фронтовик, что он носил звание сержанта, имел боевые награды, которые не дают даром, а только за настоящее мужество в настоящих боевых делах. Обреченные люди собирались ближе к Копытину, движимые одним инстинктом, без слов отдавая себя его опытности, в стихийной, у всех появившейся в него вере, вере в то, что только он сейчас знает, что нужно всем делать, как надо поступать. Не только для Прохоренко, называвшего Копытина его старым званием, для всех в этом дымном, объятом пламенем коридоре Копытин снова был сержантом, старшим надо всеми командиром. Отнятое у него звание было снова при нем, возвращено ему окружавшими его бойцами, ждавшими и жаждавшими его власти, готовыми ему повиноваться, куда бы он ни повел, что бы он ни потребовал, ни приказал.
– Может, в окна? А, братцы? Как, сержант? – торопливой скороговоркой, неуверенно предложил один из теснившихся к Копытину солдат – сильно щербатый, черноликий от копоти. Все были черны, перепачканы сажей, с измазанными лицами, но этот выглядел чернее всех, сущим трубочистом.
– Пол надо пробивать, пол... – хрипло возразил другой, из-за плеча Копытина, с синеватым отливом ноздрей и век от угарного удушья, сжимавшего ему горло. – Как считаешь, сержант, только ведь и осталось, боле ведь ничего...
Минуту назад такой мысли держался и сам Копытин. Но в те секунды, когда по коридору, убегая от огня, мчались ошалелые бойцы, близко от баррикады под ногами у бегущих взлетели с пола паркетные плитки, подброшенные крупнокалиберной пулей, пронизавшей снизу междуэтажное перекрытие. Это немцы, этажом ниже, ударили вверх, в потолок, из противотанкового ружья, поставив его отвесно.
Даже такого пути не осталось у бойцов – сквозь пол... Дыру не пробить, немцы не дадут это сделать. И куда потом прыгать – на их штыки? На дула автоматов?
– Сколько там еще? – обращаясь сразу ко всем, указал Копытин кивком головы назад, туда, где бушевало пламя.
– Да человек десять, должно! – быстро ответил щербатый.
– Дуй к ним, скажи – пусть долбанут по немцам покрепче, гранатами, и все сюда. Понял?
– Так точно! – откликнулся щербатый живо, принимая приказание с охотою, с радостью, что среди всеобщей растерянности и уныния есть ум, который что-то понимает в совершающемся кошмаре, есть волевой, решительный человек, за которым можно идти.
Пригибаясь, щербатый на полусогнутых ногах, раскорякой понесся вдоль подоконников в глубь коридора, дышавшую красным огненным жаром, словно пасть доменной печи.
– В окно – это кошкой надо быть... Третий этаж, голые стены – шутка ли? – как бы заранее отказываясь, проговорил в куче бойцов тот, что хрипел горлом. – Нет, видно, уж отвоевались!.. Эх, твою мать!.. – и солдат смачно выругался, вложив в свою ругань все, что владело им в эту минуту: и гнев на врага, про которого он все время слышал, что тот слаб и глуп, а он оказался и силен, и умен, и досаду, что так скверно обернулось дело и теперь вот выходит только погибать – заживо гореть и задыхаться.
– Ладно скулить! – прикрикнул Копытин.
Сдернув с себя ремень, рассовав автоматные обоймы по брючным карманам, он вязал в одну тяжелую гроздь все бывшие у него немецкие гранаты. Он уже составил мысленно план, как действовать, и теперь спешил изготовиться – решали секунды, мгновения. У немцев только один огнемет, а то б они запалили коридор с обоих концов сразу. Не такие они простаки, чтоб так не сделать, если б имели два огнемета. Сейчас шипения струй позади не слышно, нижним этажом немцы перетаскивают аппарат наперед. И пока они не перетащили, пока впереди не забушевало пламя, не закупорило окончательно и этот выход из коридора – надо в него пробиться, какой бы цены это ни стоило.
– Все тута! – крикнул щербатый, блестя белками глаз на черном, как сажа, лице, шаром на раскоряченных ногах подкатываясь к баррикаде и валясь в кучу тел.
Грохоча ботинками по дубовому паркету, белому от штукатурки, согнувшись, чтобы головы были ниже подоконников, цепочкой, друг за другом, бежали солдаты. Они были так же страшны, как и бегавший за ними щербатый, одежда висела клочьями, зияла прожженными дырами.
Вмиг возле баррикады стало тесно, шумно от дыхания сбившихся в плотную массу горячих, потных, пропахших гарью людей. Копытин прикинул на счет – человек тридцать...
– Братцы, не бросайте! И я с вами, на одной ноге, как-нибудь... Пособите только, прошу, братцы!.. Как-нибудь!.. – быстро, сбивчиво повторял чей-то молящий голос.
– С автоматами наперед! – скомандовал Копытин. Тела задвигались, завозились, стиснулись еще больше – произошло поспешное, неловкое перемещение.
– Гранаты, штыки, ножи – всё приготовить!
В груде тел у баррикады, сдавленных и спутанных так, что не разобрать, где чьи руки, ноги, кому что принадлежит, опять произошло поспешное, лихорадочное движение.
Люди уже поняли, в чем состоит простой план Копытина, пояснять его было не нужно.
Привстав над мешками, Копытин широко размахнулся и, оскалив в натуге зубы, исказив гримасой лицо, изо всех сил метнул гранатную связку в дым, в конец коридора, где засели немцы. Она тяжело ударилась о пол. Блеснула вспышка, и тотчас же коридор грохнул, точно на этот миг он стал орудийным стволом гигантского калибра. Взвихривая колючую известковую пыль, раздирая на клочья сгустки дыма, промело над баррикадой тугим воздухом. С потолка и стен посыпалась штукатурка, шлепая по спинам, плечам, пилоткам, звонко разбиваясь о каски.
– Ну, все разом! – не крикнул, а просто сказал Копытин, даже не очень громко, но с такой заложенной в эти слова повелительной силой, что всех в тот же миг подняло на ноги. Первым, во весь рост, Копытин шагнул через мешки.
Коридор, в котором еще звенело, не угасло эхо гранатного взрыва, огласился ревом голосов, рванувшихся из самого нутра грудей, из широко раскрытых, перекошенных в крике ртов. Тесной кучей, передние – плечо к плечу, с выставленными автоматами – бойцы напропалую ринулись через баррикаду, в дым коридора. Копытин нажал на спуск, автомат в его руках задергался, выплескивая из дула короткое пламя, рядом засверкало пламя других автоматов, и рев голосов, топот подкованных железом ботинок, выстрелы навстречу – все потонуло в оглушительном, покрывшем все звуки грохоте.
Кто-то на бегу взмахнул руками, роняя оружие, кто-то слепо ткнулся в стену, еще кто-то беззвучно упал под ноги, точно провалился сквозь пол... Секунда, другая – и Копытин, а с ним и все, кого не задели встречные пули, сломив заграждавших им дорогу, выскочили на широкую лестничную площадку, всю в трупах немецких солдат, в их оружии, спотыкаясь, расшвыривая ящики, столы, стулья, тюфяки, за которыми укрывались немцы. Вниз по широкой лестнице, тоже в обломках мебели, больничного инвентаря, бежали серо-зеленые фигуры в касках. Копытин прострочил по ним, обернулся – разглядывать, попал, нет, не было времени, – вверх с площадки тоже шла лестница и по ней тоже бежали серо-зеленые фигуры. Тех, что убегали наверх, было меньше, чем тех, что сбегали вниз. Но пробиваться надо было только вниз, к земле – только так могли бойцы вырваться из окружения, выйти к своим.
– Гранаты! – зычно крикнул Копытин в ярости, что у него самого не осталось гранат и нечего кинуть вдогонку убегающим.
Ах, уходит момент! Он метнул глазами по трупам немцев на площадке – может, хоть одна найдется для его руки?
Перегибаясь через перила, бойцы уже бросали с площадки вниз гранаты. В бетонном колодце лестничных маршей взрывы били с невероятной силою, резкой, гулкой отдачей. При каждом взрыве где-то внизу вылетали стекла и звонко, рассыпчато звенели о кафельный пол.
Коля Панкратов, зажав под мышку винтовку, совал в гранату запал. Запал не вставлялся: от спешки, волнения Коля совал его не тем концом. Коля был бледен, одна рука у него была окровавлена, весь он с головы до ног дрожал, точно в ознобе, мелкой нервной дрожью. Лишь на миг попал он Копытину во взгляд, и у того посреди сумасшедшего бега, в каком работало сознание, почему-то всплыло – тоже на краткий, стремительный, мелькнувший и тут же исчезнувший миг, – как накануне ночью, в лесу, перед самым рассветом, Коля в кружке пожилых, умудренных жизненною наукою солдат, в подражание им, с их деловитостью и серьезностью переодевался в запасное белье, чтоб быть в чистом, если ранят...
Копытин вырвал у Коли гранату, одним движением заправил ее, сунул назад Коле в руки, хлопнул его по плечу в ободрение – сказать было некогда даже слово – и, обгоняя уже сбегавших бойцов, ринулся вниз по ступенькам, визжавшим под сапогами осколками стекла.
Площадку второго этажа тоже покрывали тела немецких солдат. Это были те, кто не успел убежать, попал под красноармейские гранаты. Тела лежали густо, местами друг на друге, многие еще шевелились. Ступать приходилось по мягкому, содрогающемуся, живому. Но некогда было разбирать, куда ставить ноги. Один из солдат полз лицом вниз на стену, которая была в метре перед ним, скреб белыми фарфоровыми пальцами кафельные плитки пола.
По левому коридору к площадке бежали немцы плотной группой, человек десять. Не из тех, напуганных, которым удалось уйти от бойцов, а другие, свежие, в явной решимости жестоко, беспощадно биться.
От дыма и потому, что коридор был внутренним, глухим, его наполнял сумрак. Копытин рассмотрел ясно только переднего в пятнистой маскировочной куртке, каске. Развернув автомат, прижав рукоять к боку, Копытин надавил на спуск и не отнимал пальца, пока не кончились патроны. Немцы сразу же метнулись к стенам, в ниши дверей, тут же ответили из своих автоматов – и площадка вмиг оказалась под ливнем пуль. Как не тронуло Копытина – понять было невозможно: он стоял на самой середине площадки. Несколько секунд красноармейцы, схоронившиеся за выступы стен, вместе с Копытиным, убравшимся в сторону, и немцы, вжавшиеся в дверные ниши, были как бы на двух чашах весов, и чаши эти колебались – какой перетянуть. Немцам помогал сумрак коридора, они были почти не различимы и все с автоматами, лестничная же площадка была вся высвечена светом, вся у них на виду, и автоматов у русских было меньше, да и те, что были, действовали не все – иссякли патроны. Немецкая сила перетянула, и бойцы, уже не думая, как лучше, не выбирая дороги, а просто спасаясь от пуль, повернули в один из проходов, что вел с площадки куда-то в глубь здания и был свободен.
Дальнейшее движение все уменьшавшегося отряда Копытина никто бы из солдат уже не смог воспроизвести – таким было оно извилистым и путанным. Это было настоящее метание в непроницаемом дыму по охваченным огнем коридорам, лестницам, залам, под пулями, летевшими с неожиданных сторон, метание в коротких, яростных, почти рукопашных схватках с немцами, разбегавшимися, если их оказывалось мало, но чаще заставлявшими отступать красноармейцев.
Было их уже человек двадцать, и то половина была ранена пулями, другие поцарапаны осколками гранат, обожжены. Колю Панкратова зацепило еще раз, он хромал, волочил ногу, чем дальше, тем с большею мукою, закусив губы, молча превозмогая боль. Как и там, в верхнем коридоре, когда пробивались, он старался держаться ближе к Копытину, как будто возле Копытина было безопасней и было больше надежды на спасение. Щербатый тоже пострадал, на голове его краснела кровь, но он тоже не стонал и не охал и, не отставая, следовал за Копытиным.
Их снова зажали, даже непонятно где – так было темно от дыма. Но они опять прорвались, попали на крутую узкую лестницу, которая привела их в просторный круглый зал с высокими, полными света окнами, ослепившими их в первое мгновение после мрака. Вдоль стен стояли раскидистые пальмы, посреди зала огромным колесом висела и покачивалась на одной цепи бронзовая люстра.
Для немцев, находившихся здесь, появление красноармейцев было совсем внезапным. Никто не оказал сопротивления. Одни кинулись к окнам, другие, растерявшись, замялись, стали поднимать руки. Их тут же положили пулями.
Меняя на бегу в автомате обойму, Копытин подскочил к одному из окон, за которым скрылись немцы. Но снаружи по оконному проему защелкали пули, взбивая алую кирпичную пыль, и Копытин отпрянул.
Он попытался выглянуть в другое окно, в противоположной стороне зала, и тоже едва не получил пулю. Дом был окружен, возле больницы находились только немцы, а своих Копытин не увидел, их оттеснили куда-то к самой парковой лощине: выстрелы трещали и перекатывались в той стороне...
Никто не выразил ничего вслух, только серый свинец разлился по лицам, когда бойцы убедились, что за стены здания им не выйти, к своим не пробиться, они отрезаны и обречены, что залу, в который они случайно попали, пышно и дорого убранному, невообразимо исковерканному и раскромсанному, назначено стать их последней обороной, последним их солдатским рубежом...
Чувство близкой и неминуемой гибели не испугало Копытина. Ему не сделалось от этого чувства страшно, как делалось страшно на фронте раньше, в иное время, в иных обстоятельствах, и не один раз в этот день, когда смерть подступала так близко, что все тело обдавало ее липким, до судороги отвратительным холодом. Слишком велик был в Копытные азарт драки, азарт предводительства отрядом, бойцовский распал, чтобы простой животный страх смерти мог возобладать над ним, слишком велико было наполнившее его торжество – оттого, какая позиция так неожиданно, счастливо досталась бойцам, какой вред, какой урон смогут теперь причинить они врагам, какою высокою ценою купят враги победу над ними. Мрачным, злым и мстительным было это торжество Копытина, торжество побежденного, который, погибая, увлекает за собою и победителя, из побежденного становясь победителем сам...
Захватив зал, немцы, как видно, считали, что его уже не могут отбить у них обратно, и устроили здесь пункт боепитания, целый склад ящиков с патронами, гранатами, пулеметными лентами. Солдаты Копытина подняли автоматы, принадлежавшие убитым. Возле окон, обращенных к парку, спасшиеся бегством немцы оставили два исправных ручных пулемета.
Сплевывая известковую пыль, хрустевшую на зубах, прихрамывая на ступню, которую он подвернул, когда сбегал в потемках по узкой лестнице, надрывно кашляя – так у него саднило грудь, в такой запаленности было дыхание от дыма и дикого, сумбурного бега по горящему зданию, Копытин показал бойцам, кому где стать, как понадежнее укрыться, удобнее устроить оружие, куда кому глядеть, чтоб ниоткуда не подпустить немцев. Пока раненые, обессиленные своими ранами, годные только на то, чтобы стрелять, облаживались у окон, в круговой обороне, те, что были поздоровее или совсем невредимы, закупорили все входы в зал, завалили их массивной дубовой мебелью, мешками с песком, которые и тут нашлись на подоконниках, многопудовыми кадками с землею, обрубив мешавшие стволы пальм. Пускай теперь ломятся немцы, пускай надрывают силы, тараня эти завалы...
Исполненный мрачного, мстительного чувства, целиком поглощенный боевыми заботами, Копытин думал только о них и не думал ни о чем другом, не помнил ни о чем больше. В нем не было памяти ни о своем прошлом, как будто у него не было вовсе никакого прошлого, ни о своей семье – о матери, жене, сынишке, чьи фотографические карточки лежали у него в нагрудном кармане гимнастерки, затертые и попачканные, потому что вот уже год Копытин носил их в этом кармане вместе с военными документами и каждый день доставал и смотрел в те редкие минуты, когда он мог без помех от окружающих это сделать. В нем не было памяти ни о постигших его, обидных для его чести, гордости, самолюбия, неприятностях, о которых он думал до этого беспрестанно, терзаясь гневом, обидою, болью, думал и в последнюю ночь перед боем, и утром, и даже тогда, когда уже шли в бой и он шел вместе со всеми, в цепи бойцов, с винтовкою наперевес на прятавшийся в тумане город, на эту больницу, про которую он еще не знал тогда, что это больница, и не ведал, что с ним в ней произойдет. В своей захваченности войною, битвой с немцами, стремительным бегом событий, что как сумасшедший вихрь несли бойцов вот уже который час, он испытывал состояние как бы полной обезличенности, полной потери ощущения самого себя. Все, что было им, Копытиным, с его особой биографией и судьбою, все это куда-то исчезло из него, из его души, памяти, покинуло его, стерлось и отступило перед тем одним, что было сейчас вокруг него и в нем – перед тем, что там, наверху, в устроенном ими самими пожаре метались и горели враги, натворившие столько зла, столько бед и несчастий, так страшно, непоправимо перевернувшие, поломавшие всю жизнь, и нельзя было выпустить этих врагов, а надо было погубить их всех до одного...
Часть здания, где находился зал, была шире остальных частей корпуса, выступала за его границы, и благодаря этому здание было видно почти по всей длине. С этажей валил густой дым. Немецкий огнемет добавил пожару ярости, он бушевал, охватив уже все здание целиком. Подточенные огнем, с треском рушились внутренние перекрытия. С каждым таким обвалом тучи клубящихся искр вырывались в оконные проемы. Полузадохшиеся, слепые от дыма, в тлеющей одежде немцы, отрезанные пламенем от внутренних лестниц, пытались спастись по водосточным трубам, по выступам стен, прыгали – даже с высоты третьего этажа, рискуя разбиться. Но огонь, пожиравший здание, не оставлял им выбора.
Копытин отдал свой поработавший автомат щербатому, у которого немецкой пулей расщепило приклад винтовки, посадил его следить за той стороной больницы, что выходила на лощину – здесь немцы показывались мало, от лощины густо хлестали пули, – а сам перенес один из пулеметов к окну, откуда была видна фасадная часть. Тут немцы чувствовали себя уверенней, эта сторона была их тылом, русские пули залетали сюда только рикошетом. Копытин устроился так, чтобы видеть все, а самому оставаться для врага невидимым и недосягаемым, приладился к пулемету, поелозил плечом, чтоб оно плотней и удобней вошло в вырез приклада, и спокойно нацелил ствол с воронкой пламягасителя на конце в немецкого солдата, спускавшегося по трубе и уже коснувшегося ногами земли, вероятно, с радостной мыслью об избавлении от опасностей. Спусковой крючок мягко, не требуя усилий, поддался пальцу, и Копытин довольно отметил про себя, с какою отличной механикой застучал пулемет и какое приятное ощущение создавала в ладони его удобная, пистолетная рукоять. Умеют же немцы делать, что ни возьми! Все у них, гадов, обдуманно, прилаженно, не на авось, и действует – как часы!
Немец, мальчишка, такой же тощеватый и хрупкий, как Коля Панкратов, даже не успел ничего осознать. Кулем, без единого протестующего движения повалился он на короткую чахлую травку у стены здания.
Копытин перевел пулеметное дуло повыше, нацеливаясь в окно третьего этажа, в котором сбилось сразу полдюжины солдат в низко надвинутых на лица касках, а один уже выбрался через подоконник и тянулся к трубе, той самой, по которой спустился только что убитый. Спешить было некуда. Копытин прицелился особо тщательно и, нажав на спуск, повел стволом, чтоб захватить и солдата возле трубы, и тех, что были в окне. Очередь получилась длинная, неэкономная. Но Копытин мог расходовать патроны щедро, не думая – боеприпасов было с избытком на какой угодно, даже на самый долгий бой...
Ожидать в этот день горячую пищу не приходилось. Когда у связистов основательно подвело животы, они вскрыли ножом коробку консервов и торопливо поглотали холодное мясо с кусками застывшего жира. Жир размазывался во рту, неприятной, вязкой массой налипал на язык. Потом сержант, собрав давно опорожненные фляги, сходил за водой.
После соленой тушенки прохладная пресная вода с запахом болота и прелых листьев показалась необыкновенно хороша...
И тут порвалась связь. Она должна была порваться. Было бы удивительно, если бы этого не случилось в таком бою, когда столько осколков секло землю.
И еще она должна была порваться потому, что Иван Платонов был невезун, никакие мало-мальски серьезные события в его жизни не совершались для него счастливо. В школе на экзаменах он непременно вытаскивал именно те билеты, которые хуже всего знал. В военном училище ребята тайком удирали после вечернего отбоя в город погулять с девушками, и никто не попадался. Но стоило Платонову один-единственный раз последовать примеру товарищей, и он был пойман патрулем, посажен на гауптвахту, а потом его еще распекали перед всем училищным строем... Даже с училищем ему не повезло. Отец его, колхозный садовод, дядька и другой дядька, по матери, в первую мировую были артиллеристами, старший брат, встретивший войну на действительной, находился в полку тяжелых гаубиц – служить в артиллерии, издревле почитаемой куда больше, чем все другие рода войск, считалось у Платоновых как бы семейной традицией. Но военкоматное начальство не интересовали семейные хроники. Оно руководствовалось своими соображениями, предписаниями и разнарядками. И Ивану на призыве в армию выпало идти в связь, к его большому огорчению и одновременно к радости, потому что еще набирали в кавалерию, а он, хотя и вырос в сельской местности, вблизи природы, после того, как в детстве его лягнула кобыла, лошадей боялся пуще огня...
Провод перебило, как раз когда командир полка что-то докладывал Федянскому. Правый и левый батальоны – возле овальной чаши стадиона и в руинах кирпичного завода – отвечали, разговаривали в наушниках, матерились сорванными голосами, а средний, куда перекочевал командир полка, – в пыли, в дыму, под стенами больницы, – замолк и не откликался.
– Алло, на пункте – связь мне, быстро! – приказал Федянский гневно, будто не противник, а сами связисты были повинны в том, что порвалась линия.
– Сейчас обеспечим, товарищ третий! – с какою-то вступившей в тело лихорадкою ответил Платонов, невольно, под влиянием гневного голоса Федянского, принимая извиняющийся, виноватый тон.
Вот и началась их настоящая, ни для кого, даже для великомученницы пехоты, не завидная служба, то главное, что они ожидали в своем укрытии, – служба, перед которой все прежнее превращалось просто в ничто, в даровое едение казенного хлеба.
Камгулов, якут, маленький, крепенький, коротконогий, с глазками, почти не видными в щелях пухлых, безбровых век, хоть и не получил еще приказания от Платонова, но, поняв, о чем у того идет с комдивом речь, уже собирался – его черед был идти первым. Он собирался деловито, сосредоточенно, даже будто без волнения – надевал на себя лямки от телефонного ящика и от катушки с проводом, укладывал в сумку инструменты. Но все движения у него были неестественно замедлены, он явно тянул время, и Платонову даже пришлось прикрикнуть, чтобы Камгулов зашевелился живее.
– Винтовку-то оставь, на что она тебе – лишний груз только... – проговорил Яшин, следя за Камгуловым и как-то сопереживая вместе с ним его сборы.
– Ну-ну, как это так – без винтовки? – возразил сержант. – Что это за боец без винтовки? Там бой, а он без винтовки пойдет!
– Скорей, скорей, Камгулов! – не командным, а больше просящим тоном проговорил Платонов, боясь, что вот-вот опять позвонит Федянский, а он не сможет даже доложить, что боец уже вышел искать повреждение.
Отяжеленный снаряжением, с винтовкой, приклад которой из-за малого роста приходился ему ниже коленного сгиба, Камгулов, неуклюже ставя короткие сильные ноги в обмотках и несоразмерно огромных для его фигуры ботинках, полез по кустам вверх по склону. Листва была густа и сразу же скрыла, поглотила его, и только когда он достиг гребня, в зелени еще раз мелькнула его пилотка, прямо насаженная на голову, и ствол винтовки возле нее, вымазанный грязью – чтоб не блестел на солнце.
Ожидание не обмануло Платонова. Только что за Камгуловым сомкнулась листва, как с КП Федянского справились – наладилась ли связь.
– Пока нет, устраняем повреждение.
– Долго возитесь, быстрей надо! Третьему связь нужна!
– Будет связь, сейчас будет, – ответил Платонов, мысленно обругав дивизионных связистов. Хорошо им там из блиндажа требовать, до них и близко пули не долетают. Сюда бы их, да вместо Камгулова по-пластунски вдоль провода, с телефонным аппаратом и катушкой, в которых больше пуда! Сразу бы всю важность потеряли!..
В наушниках щелкнуло, это к линии в замолкший батальон подключился Камгулов.
– Алло, лейтенант? Камгулов разговаривает. Слышно меня? – раздался знакомый, чуть неправильный камгуловский выговор.
– Слышно, слышно, – торопливо откликнулся Платонов. – Давай дальше...
Минуты через три, продвинувшись вдоль провода еще метров на сто, Камгулов опять подключился к линии и прозвонил провод.
– Слышно, жми дальше!
Его слышали еще три раза, потом он пропал.
Вначале его ждали без особой тревоги. Могло быть, что Камгулов оказался в зоне сильного обстрела и залег, выжидая, когда перенесут огонь и можно будет опять шевелиться, ползти, действовать. А могло быть, что он обнаружил разрыв и ищет продолжение провода, а это нелегко, на это нужно время, если линию рассекло снарядом или авиабомбой и далеко разбросало концы и если к тому же мешает обстрел...
Но вот вышли последние минуты, которые Платонов мысленно отпустил на все эти причины. Камгулов уже должен был бы подать о себе весть в любом из этих случаев. Ведь он знает, что нельзя столько молчать, его голоса ждут, товарищи теряются в догадках, беспокойство их растет...
Но Камгулов не подключался.
Зато окликнули с дивизионного пункта связи – с той грубоватостью, на какую считают себя вправе пребывающие при высоком начальстве:
– Чего копаетесь? Алло, оглохли? Или вы там уже все жмурики?
Платонов едва удержался, чтобы не выругаться вслух. Внутри у него и так все было на предельном взводе. Зачем его подстегивать – он и сам знает, как нужна сейчас связь!
– Будет связь, будет! Не сидим! – закричал он в микрофон разозленно, без всякой субординации. Будь на проводе в эту минуту сам Федянский, наверное, он и ему ответил бы в таком же тоне.
Было совершенно ясно, что Камгулов или ранен, или убит.
– Яшин! – произнес Платонов, хмурясь и хмуростью этой стараясь прикрыть неловкое чувство в своей душе – оттого, что сейчас и Яшина он должен будет отправить по следу Камгулова и нет никакого ручательства, что с ним не произойдет того же самого. Впервые за все время в армии Платонову было так неловко и тягостно от своего командирства, от обязанности распоряжаться людьми и железного закона воинской дисциплины, заставляющего подчиненных безропотно и послушно принимать командирские приказания.
Яшин, сидевший на земле, возле коллектора, при звуке своей фамилии мгновенно понявший, какое последует распоряжение, и, видимо, уже ожидавший его, встрепенулся и тут же неподвижно, всеми своими членами как-то одеревенел, застыл, вперив в Платонова ждущие, полные напряженности глаза, имевшие, однако, такое выражение, будто Яшину совсем неведомо, он даже в мыслях не предполагает, зачем, для чего назвал командир его фамилию. Бедный Яшин, он наивно, совсем по-детски хитрил – нет, не перед лейтенантом, а перед самим собою, в призрачной, слабой надежде: а вдруг он ошибается и вовсе не для того, что он ждет, а совсем для другого вызывает его командир...
Рядом с Яшиным, низко склонившись над коллектором, сидел сержант и приворачивал отверткой клемму. У него был вид погруженного в свою работу человека, который ничего не видит и не слышит из того, что происходит возле, и настолько от всего отъединен, что происходящее даже как бы не имеет права его касаться. Это тоже была хитрость – жалкая, наивная, человеческая...
Нельзя было отчетливее выразиться тому, как не хотелось ни Яшину, ни сержанту идти на линию, под осколки и пули. Но это их нежелание почему-то не заставило Платонова их осудить и не возмутило его, а, напротив, вызвало в нем какое-то совсем сострадательное чувство, с пониманием того, что должны были они оба сейчас испытывать. Яшину перевалило уже за сорок, где-то в маленьком полугородке-полудеревне у него осталась семья, двое детей, старушка мать, которая, провожая Яшина на фронт, дала ему церковный крестик, и он его взял, не потому, что был верующим, а чтобы матери было спокойней, чтобы она жила с верою, что теперь с ним не случится беды и он придет с войны обратно... Сержант был тоже уже в годах и тоже женат, тоже имел детей. На фронт его привело второй раз, он уже был однажды, под Москвой, защищал столицу и получил там тяжелое ранение осколком мины в грудь... Подумав обо всем этом под напряженным, ожидающим взглядом Яшина, Платонов уже не смог выговорить то, что собирался, а неожиданно для себя сделал так, как, вероятно, не следовало ему делать, но как он уже не мог не сделать после всех этих мыслей, промелькнувших в нем, – он сказал:
– Яшин, катушку мне и аппарат, живо!
Круглые, ожидающие, неподвижные глаза Яшина сделались недоуменными. Он был приготовлен совсем к другому, и смысл сказанных слов не сразу проник в него, он не сразу сумел взять их в толк.
– Ну что уставился? Я же сказал – живо!
– Но ведь... – начал Яшин. Глаза у него сделались еще круглее, заметнее выделились на лице.
Теперь уже и сержант оторвался от коллектора и с отверткой в руках смотрел на Платонова, как-то похоже на то, как глядел Яшин.
– Вам нельзя покидать пункт, товарищ лейтенант... – сказал он с некоторым смущением и нерешительностью, оттого что напоминает старшему по званию. – По уставу...
– Ничего, иногда надо и не по уставу... Провод в порядке, прозванивал? – принимая катушку, спросил Платонов у Яшина намеренно строгим голосом, чтоб перевести внимание только на технику и пресечь всякое обсуждение своего поступка.
– Так точно, товарищ лейтенант, в полной исправности! – Взгляд у Яшина продолжал оставаться недоуменным, даже немного испуганным.
– Следите за всеми линиями. Если еще где порвет – выходите немедленно чинить. Вы, сержант, тогда пойдете, вы все-таки поопытней. А Яшин пусть тут, у коллектора. Яшин, стану вызывать – чтоб отвечали сразу, без промедлений. Понятно?
– Слушаюсь, товарищ лейтенант!
На Платонове была легкая, совсем новая планшетка с картой местности. Этой планшеткой он очень дорожил и гордился – их выдавали не всем, на всех их не хватало, а только старшим командирам. Но что за лейтенант без планшетки? И Платонов все-таки умолил начальника вещевого склада, благо, что тот оказался из той же местности, что и Платонов, а землячество в армии, когда люди на тысячу верст от своих мест, – это почти родство. Кроме карты, в планшетке лежала тетрадь в клеенчатом переплете, в которую Платонов еще с училищной поры переписывал песни и понравившиеся стихи из газет. И еще там были письма, которые он написал в эшелоне, да так они и остались при нем, потому что одни станции проскакивали с ходу, на других поблизости не находилось почтового ящика, а на походе и вовсе опустить их было некуда: шли сплошь лесами, минуя редкие деревеньки. В этих письмах на тетрадочных страничках, без конвертов, сложенных треугольниками, написанных неровными буквами, потому что вагон сильно мотало, Платонов сообщал домой, отцу и матери, свою радость, что наконец исполнилось его нетерпеливое желание и он едет на фронт – с оружием в руках защищать Родину, уничтожать презренных выродков – фашистов, пока ни одного из них не останется на священной советской земле. Было еще одно письмо – девушке, про которую Платонов, думал, что он ее любит (просто смешно и даже стыдно было бы в его возрасте не иметь любимой девушки!), и еще одно – тоже девушке, другой, про которую Платонову, когда он о ней вспоминал, тоже казалось и так же искренне, что он и ее любит такою же сильною, как и первую, любовью. Девушки учились в той же школе, в которой еще недавно учился Платонов, но в разных классах, между собою не общаясь и даже не подозревали о странной, ненормальной раздвоенности влюбленного в них Платонова. В нем же самом эти две его любви каким-то образом соседствовали вполне мирно, не споря и нисколько не мешая одна другой. В письмах к девушкам Платонов тоже, в еще более громких выражениях, делился своей радостью, что едет на фронт бить заклятых фашистов, но заканчивал он по-иному, чем домой, – строчками из симоновского «Жди меня»: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» Когда он писал эти свои письма и представлял при этом девушек то по отдельности, то обеих разом, их лица, глаза, девчоночьи, ученические косы, ему было не только радостно, что он совсем настоящий мужчина и едет на настоящую войну, но еще и грустно, томительно, беспокойно, немножко жаль себя, своей только начавшейся жизни, своей молодости – ведь он понимал, куда ехали, и ему хотелось, чтобы там, позади, его тоже немножко жалели и тоже вот так ждали и так любили, как написал Симонов в своем знаменитом стихотворении...
Теперь бы Платонов уже не написал таких глупо-восторженных писем, хотя прошло всего несколько дней. Теперь бы его покоробили, показались напыщенными, высокопарными, позаимствованными многие фразы. И уж наверняка он не стал бы прибегать к помощи симоновских строчек, которыми непременно, по одному общепринятому стандарту, уснащали свои письма все такие, как он, лейтенанты. Несколько суток, проведенных в эшелоне и в особенности на марше, когда навстречу шли, тянулись, ковыляли раненые с мукою и страданием в глазах и война, с приближением к фронту, все обнаженнее и явственнее показывала свое настоящее обличье, лишенное всякой смягчающей и украшающей романтики, – эти несколько суток, хотя с Платоновым ничего не произошло, не случилось видимого, однако незаметно прибавили ему столько взрослости и возмужания, а главное, настолько освободили его от всего несамостоятельного в его чувствованиях и размышлениях, что теперь он был как бы совсем другим, далеко шагнувшим от себя, прежнего, человеком. Первой его мыслью было порвать эти теперь для него стыдные, сохранявшиеся в щегольской планшетке письма. Но тут же он подумал, что ему, может быть, уже не написать других ни домой, ни девушкам и пусть уж дойдут до них эти как последний от него привет, как последняя о нем память. Он снял планшетку и передал ее сержанту, из какого-то суеверного чувства не став ему ничего наказывать. Если он не вернется, сержант и Яшин сами сообразят, как им поступить с содержимым его планшетки, с этими его неотправленными письмами.
Брезентовые лямки катушки и аппарата знакомо надавили на плечи, потянули их книзу. Платонов пошевелил мышцами спины, поворочался всем корпусом, поудобнее распределяя на себе тяжесть снаряжения, и, спеша, чтоб не погасла в нем его решимость, провожаемый взглядами Яшина и сержанта, полез из ямы, мимо тополя, по кустам, по крутизне к гребню откоса – тем самым путем, каким уходил Камгулов...
Прежде чем перевалить через гребень, Платонов задержался в кустах – отдышаться и собрать свое вдруг умалившееся мужество.
Над гребнем свиристело, по веткам щелкало, отбивая щепу и крошки коры. Платонов почти уверился, что как только взойдет на самый гребень, выйдет из кустарника на ровное открытое место – он будет в тот же миг убит или самым ужасающим образом ранен.
Мужества у него хватило, на гребень он все-таки поднялся, но поднялся со странной воздушной легкостью во всем теле, даже не ощущая на себе тяжести груза, который нес, весь превращенный в ожидание немедленной боли от ранения, немедленной смерти.
Платонова, к его удивлению, не убило и не ранило – ни в первое мгновение, ни в следующие. Вместо неестественной легкости тело его вскоре обрело нормальное чувствование, он вновь стал ощущать на себе вес груза, резавшего лямками плечи, но ожидание ранения или смерти и приготовленность к ним остались в нем с первоначальной отчетливостью, и он так и понес эту приготовленность с собою дальше, из посеченного, изрубленного металлом кустарника вслед за проводом, уводившим в неровное, взрытое, задымленное поле.
Как непохоже было оно на то, каким помнил его Платонов! Он не узнавал его, не узнавал ничего вокруг, да и мудрено было узнать: всю равнину перед городом, все ориентиры, по которым можно было определиться, затягивала черно-бурая пелена дыма, и отчетливо Платонов видел только то, что находилось вблизи него, – невысокие бугры и впадины, короткую, порыжелую от солнца, серую от пыли траву, кусты чертополоха и бесчисленные, одна возле другой, воронки разной величины, разной глубины, с отвалами глины и чернозема на краях. Иные еще дымились – там недавно грохнули оставившие их снаряды, выброшенная земля была еще теплой и седоватой от опалившего ее пламени и остро, едко, тошнотно пахла взрывчаткой.
Низко пригнувшись, Платонов бежал по канавам и рытвинам, следя за проводом. А он вилял, извивался в складках почвы, вел все дальше, дальше.
Поле бугрилось трупами. Один лежал так близко к проводу, что Платонов издали посчитал его Камгуловым. Но это был не он – какой-то незнакомый Платонову боец. Нижнюю часть его лица покрывал промоченный кровью, неумело, наспех намотанный бинт, лежал солдат без винтовки и не так, как большинство вокруг, сраженные при атаке, когда батальоны пошли на город, а головою к лощине. Было совсем просто представить все то, что с этим солдатом произошло: полз, выбирался с передовой после ранения, держался, наверное, провода, чтоб не заблудиться в дыму, и когда уж считал, что выбрался, вот она, лощина, совсем недалеко до нее, – попал под случайный осколок.
В воздухе свистело непрерывно. То там, то тут по сторонам от Платонова падало, вонзалось в землю железо – мягко, обессиленно, чаще со злым визгом, с яростью, взбивая клубочки пыли. На открытых местах Платонов уже не перебегал, а полз на четвереньках или вовсе на животе, по-пластунски. Пот заливал глаза, дышал Платонов жарко; катушка, телефон измучили его: когда он бежал, били по спине, бокам, если падал, тяжестью своей точно пришивали его к земле, тащить их уже не хватало сил. «Тяжело на ученье – зато легко будет в сраженье!» – любили повторять курсантам училищные командиры. И как у них рты раскрывались произносить такое! А ведь взрослые и вроде умные были люди!
Впереди торчал небольшой взгорбок. Платонов полз прямо на него, под его защитою, он был ему заслоном от пуль, которые в этом месте летели низко, над самой землей, по-шмелиному жужжа; вдруг взгорбок вскинулся вверх и в стороны множеством земляных комков и что-то крупное с визгом сверла пронеслось возле Платонова, так что даже воздух вокруг него взвинтился вихрем. Песком и пылью запорошило глаза. Платонов протер их, поморгал – бугра не было, ударивший в него, не взорвавшийся и рикошетом пронесшийся дальше снаряд стесал его до основания...
Одолевая расстояние ползком, Платонов тратил много сил и времени. Время, время – секунды, минуты!.. Он чувствовал, как они бегут, прибавляются. А связь все еще молчит, вот этот, самый нужный сейчас, самый важный провод по-прежнему нем! И он решил – будь что будет! – опять перебегать короткими, быстрыми перебежками.
Но когда он поднялся на ноги, воздух, ему показалось, запел железом еще громче, пронзительней, еще голосистей, возле самого лица, и Платонову нестерпимо захотелось тут же упасть на землю, вжаться в нее, заткнуть уши руками.
Но он не лег, пересилил себя. Поле здесь чуть приспускалось, впереди, между чернеющими воронками, выделялось что-то крупное, камень или большой вывороченный взрывом ком земли, и Платонов мысленно назначил себе расстояние до этого земляного кома. «Добегу – и тогда лягу! Только тогда! Нет, добегу... добегу... добегу!..» Он был в половине расстояния, как то, что он принимал за ком земли, вдруг пошевелилось, оказавшись человеком, красноармейцем. Человек поднялся на ноги и побежал навстречу Платонову. В воздухе просвистело, Платонов и бегущий одновременно упали, друг подле друга. Гимнастерка на солдате была насквозь мокра от пота, вся одежда так грязна, будто он долго барахтался в сыром липком черноземе. Кисти рук его были обмотаны тряпками, не бинтами, а именно тряпками, вероятно, изорванной нижней рубашкой, своей же – в растегнутый до последней пуговицы ворот у солдата виднелось только голое тело. Култышки свои он держал бережно, прижатыми к груди, и упал неловко, на выставленные локти.
– Куда ты, малый? – прохрипел он, кося красные белки глаз, не замечая лейтенантских петлиц Платонова. – Куда тебя несет? Самый обстрел тут – иль ослеп, не видишь? Связист, что ль? – разглядел он на Платонове катушку и телефонный ящик.
Близкий разрыв не дал Платонову ответить. Оба они уткнулись лицами в жесткий травяной войлок и оторвались от него, только когда перестала увесисто шлепать вокруг взброшенная снарядом земля. Солдат приподнялся первым, морщась, поправил на култышках тряпки, посучив руки одна о другую. При этом он искоса поглядывал вверх, где фырчал, гудел, подвывал и высвистывал невидимый металл, про который ему довелось достаточно узнать, каков он в действии, испытать это на самом себе.
– Ну, давай, давай! – проговорил он поощрительно-усмешливо, со злом, порожденным в нем болью от раны, всем тем, что он вытерпел на передовой. Его точно порадовало, что Платонов идет туда, где уже столько однополчан закрыли глаза. – Один такой-то вот, как ты, с катушкой, вон там уже лежит...
«Камгулов!» – пронеслось у Платонова в мозгу.
И верно – то был Камгулов, присыпанный еще сырою, не подсушенной зноем июльского дня землей от снарядного разрыва, полыхнувшего в трех шагах от него в те секунды, когда он, открыв телефонный ящик, в очередной раз собирался прозвонить провод. Шнур от телефона был присоединен к линии, сам телефон стоял целехонький, не тронутый ни единым осколком. Мертвою, бледной рукою Камгулов сжимал телефонную трубку...
Перевернув Камгулова на спину, Платонов отстегнул пуговицу нагрудного кармана на его гимнастерке, вынул красноармейскую книжку и запрятал к себе, в такой же карман. Но тут же подумал, что ему идти дальше и еще неизвестно, что будет с ним самим, и возвратил документы Камгулова на прежнее место. Пускай они будут при нем, чтоб не безымянным было его тело, когда после боя его подберут могильщики из похоронной команды, чтобы предать земле...
Телефоном Камгулова Платонов вызвал пункт. Откликнулся сержант, обрадовался – он и Яшин уже волновались за лейтенанта.
– Иду дальше! – крикнул Платонов в трубку. Подумал – говорить ли про Камгулова? И не сказал. Потом, после боя. Успеют еще узнать...
Чуть подальше того места, где убило Камгулова, провод кончался. Видно, это и был тот обрыв, который прервал связь. Платонов поискал глазами продолжение провода. Земля была вся в ямах, изрыта, перепахана, вздыблена. Травяной покров уцелел лишь в отдалении, но и на нем, сходясь краями, чернели воронки и круглые пятна от мин с лучами борозд – их продрали, процарапали в дерне разлетевшиеся осколки. Валялось какое-то искореженное железо, в котором ничего нельзя было признать, клочья обмундирования, каски в дырах и трещинах. Платонов увидел углом торчавшую из земляного бугра минометную плиту и только по ней догадался, что здесь занимали позицию минометчики. Их засекли немцы и шквальным огневым налетом раскрошили, перемешали с землей.
Платонов прополз по снарядным ямам далеко вперед, порыскал в стороны, пристально вглядываясь, но второго конца провода так и не отыскал. От тяжелых полковых минометов и находившихся при них людей не осталось почти ничего – где уж было уцелеть тонкой ниточке кабеля!
Что же теперь делать? Ползать по всей округе и все-таки искать кабель, а потом латать прореху? Скоро ли его найдешь? А связь ждут! Или срастить конец линии с проводом на катушке и тянуть кабель заново? Но это значит, что тогда ему еще ползти и ползти под огнем прямо до батальона, в самую гущу боя...
Он поежился, представив себе этот путь, но молодая, дерзостная отвага, что вывела его на это поле, еще не иссякла, не угасла в нем, и спустя минуту, срастив провода, он полз к батальону, ныряя из воронки в воронку, под скрип и жужжание катушки на спине, распускавшей по его следу серую нить кабеля.
О перебежках он уже не помышлял. Какие перебежки! – вблизи передовой трассирующие пули мелькали сквозь дым и пыль целыми роями белых светляков. Это выглядело так, будто от города над полем мело снежной метелью. Платонов жался к земле как можно теснее, пластался на ней и даже не полз, а словно бы тек, совершенно по-змеиному, сам дивясь своей гибкости, тому, что в теле его как бы совсем не стало костей...
Он находился уже в расположении сражающихся войск, в тылу рот или, вернее, разрозненных и малочисленных групп и кучек солдат, которые от этих рот оставались. Справа и слева на разных расстояниях от себя он видел торчавшие из наскоро отрытых окопчиков трубы минометов, длинные тонкие стволы противотанковых ружей, дегтяревские пулеметы. Впереди, в поле, точно разбросанные голые валуны, круглились, чуть поблескивали железные каски пехотинцев. Дальше, за касками, в полуверсте, слабо различался заволоченный мглою город: дома, домики, с крышами, без крыш, с выпирающими ребрами стропил, ступенчатыми обелисками печных труб. Обвитые обрывками проводов, кренились столбы электролиний.
Влево на поле беспросветно, аспидно, с синью чернело. Эта чернота была больницей в коконе вязкого, все уплотнявшегося дыма, такого глухого, что сквозь него даже не пробивалось свечение пожара.
Из неглубокого капонира глядела тонкоствольная пушчонка на резиновых колесах, с увядшими ветками на щитке, для маскировки. На одной из трубчатых станин ее, раздвинув ноги, опираясь локтями на колени, под прикрытием орудийной брони сидел небритый солдат лет сорока и спокойно курил козью ножку. Возле станин были набросаны пустые снарядные гильзы, сизые от порохового нагара, точно в морозном инее.
Платонова поразило, как можно так спокойно, в каком-то даже безразличии сидеть на станине орудия и курить – посреди боя, под осколками и пулями, ударявшими в щит. Он воспринимал обстановку только через свои собственные ощущения, и ему казалось, что все, кто был сейчас на этом поле, должны испытывать то же самое, что он, – у всех сейчас должно так же прыгать и замирать сердце.
Еще один солдат лежал возле станины – ничком, упрятав лицо в углом согнутую в локте руку. Платонов принял его за мертвого. Но поза у него была скорее как у спящего или отдыхающего. Он и вправду оказался не убитым и не раненым, а праздно лежащим. Когда Платонов приблизился, солдат поднял на звук катушки голову и поглядел на лейтенанта мутным взором, в котором не было никакого интереса, не было жизни, а только апатия и усталость. Внимательнее всмотревшись в первого пушкаря, Платонов разобрал, что и у того вовсе не спокойствие в фигуре и темном закопченном лице, а такая же, как у лежащего, свинцовая притупленность всех чувств.
– Браток, случаем напиться нету? – выговорил лежавший и, услыхав, что Платонов не захватил фляги, опять опустил голову на руки и так замер.
– Где капэ комбата, знаешь? Покажи! – попросил Платонов, подползая к орудию совсем близко, под защиту брони и насыпанного впереди бруствера.
Куривший устало пошевелился, поглядел через плечо в поле.
– Хрен его знает... – протянул он, трудно и тупо размышляя. – Вроде бы вон в той западинке... Вон, видишь? Вроде бы оттуда связные прибегали...
Платонов прищурился, но ничего не увидел, никакой западинки. Привстав на руках, он приподнял голову, до хруста в костях вытягивая шею, но и так не разглядел ничего.
Какой-то человек, бросаясь из стороны в сторону, увиливая от фонтанчиков, взбиваемых пулями, падая и вскакивая, бежал сквозь пыль и дым к орудию. Добежав, он с разлету плюхнулся на живот чуть не у ног курившего артиллериста. Все на нем как-то дико дыбилось, гимнастерка вылезла из-под ремня и торчала на спине горбом, глаза были вытаращены и катались в орбитах, как два облупленных яйца. Дыхание свистело сквозь широко раскрытый сухой рот.
– Слышь, ты, хватя курить! Сидите тут, мать вашу растуды!.. Я от командира роты. Давай свою орудию поворачивай... Танки ихние из ложка выходят, роте во хланг... Вон там, гляди!..
Артиллерист даже не повернул голову в ту сторону, куда указывал ему посланец командира роты. Кинув на землю окурок, он сплюнул длинной, тягучей слюной и старательно притоптал окурок каблуком.
– Три танка, слышь? Три танка! – завопил истошно боец, и глаза у него еще пуще выкатились и завертелись в орбитах.
– Хоть сто... – апатично проговорил артиллерист. – Стрелять нечем, зришь – ни одного снаряда...
– Слушай, парень, где комбат ваш, где его капэ? – поспешил Платонов с вопросом, ибо связной, уже и сам увидав, что толковать с артиллеристом бесполезно, тут же сделал движение сорваться с места и бежать назад в роту.
– Там вон гдей-то! – махнул солдат рукой в направлении, куда указывал и артиллерист, и, подхватившись, опять тем же своим чертометом, где по-собачьи, на четвереньках, где вприскочку, петляя, точно заяц, понесся, покатился в клубах пыли по полю и вмиг исчез.
Платонов отер с лица пилоткой пот, нахлобучил ее на голову и тоже покинул пушку, выполз из-за ее защитной брони и опять потянул линию.
Вот когда ему стало окончательно не по себе – до тошнотной слабости внизу живота. Все так же, стелясь по самой поверхности земли, сбривая стеблинки трав, то сплошняком, потоками, метельной порошей, то редея, неслись, мелькали по следу пуль, вдогон друг другу, перекрещиваясь под разными углами, белые фосфорические светляки. Но теперь почти все пули были разрывными. Пехота что-то предприняла, живая сила, люди стали для немцев основной целью, и пулеметы их сейчас работали на лентах, специально снаряженных для стрельбы по пехоте. Хватало тонкой былинки на пути, чтобы чуткий механизм пришел в действие, и пули взрывались со звонким хлопком, оглушительным, если это было близко, рассеивая мелкие осколки. У Платонова звенело в голове от их пронзительного треска и лопанья. Иногда совсем рядом взрывалась целая очередь, и Платонов невольно замирал, мгновение-другое не в силах разобрать, где раздался оглушивший его треск, – по соседству или внутри него самого. В эти секунды, когда он замирал, переставал двигать руками, ногами и лежал неподвижно, становилось еще страшнее – без движения он чувствовал себя просто мишенью, начинало казаться, что все пули направлены именно в него, ищут его, вот-вот какая-нибудь из них его найдет, ударит. Повернуть обратно, бросить катушку, телефон? Пусть потом призовут к ответу. Он скажет, что пройти было невозможно, и каждый, кто видел это поле, подтвердит, потому что это действительно так, просто чудо, что он еще жив, ползет, что ни одна пуля, ни один осколок из тысячи над ним пролетевших не зацепили его...
Если бы еще этот провод, который он тянет за собою, был на что-нибудь нужен! Но все уже не имело смысла, уже ничем нельзя было помочь делу, поправить его, обернуть в успех. Никакие усилия, подвиги, жертвы уже не могли ничего изменить – здесь, вблизи передовой, распластанный под ливнем разрывных пуль, Платонов видел это со всею отчетливостью, как самую бесспорную и горькую явь.
И все-таки, видя и сознавая это и думая об этом какими-то клочками мыслей, обрывочно, в перебивку скользившими в нем, он продолжал ползти навстречу пулям. Уже не отвага вела его, отваги в нем сохранилось так мало, что она не способна была им управлять, двигать, – вело другое, более серьезное, весомое. То, что удерживало на этом поле побоища и всех других, не позволяло покинуть свои места и повернуть вспять, обратиться в бегство ради спасения своих жизней. И не только удерживало, но и давало силы все еще бороться, мужественно принимать смерть и раны, снова и снова пытаться исполнить задачу, которая была назначена полкам, хотя полная безнадежность такой борьбы, увиденная и осознанная Платоновым только что, здесь, на этом поле под городом, была давно уже для всех ясна. Пусть не нужен его провод, – лихорадочно билось внутри Платонова вместе с гулом крови, громким стуком сердца, пусть напрасны усилия, пусть напрасны, ни для чего, продолжающиеся смерти и раны, пускай ничего не вышло из дела, потому что у кого-то оказались плохие головы, но он свое – маленькое, рядовое, что составляет его долг, его долю, его службу – отслужит полностью, до конца. Или сколько успеет, сколько ему будет отпущено. Хотя бы только затем, чтобы потом не за что было себя упрекнуть, чтобы совесть его и честь его воинская остались чисты, на какой бы строгий суд ни пришлось им предстать...
Не известно, как долго бы еще он полз и нашел бы он вообще командный центр батальона, если бы ему не попался старый кабель – он и привел Платонова в обширную воронку от полутонной авиабомбы, где находилось батальонное и полковое начальство с командиром полка. Это было уже его чуть ли не пятое место за время боя, самое близкое к переднему краю и самое опасное. Но зато оно вполне отвечало характеру командира и поэтому вполне его устраивало.
Добравшись наконец до укрытия, Платонов нырнул в него, как ныряют в воду, головою вниз, даже не успев ясно разглядеть, что у него перед глазами, и точно мешок свалился прямо в гущу находившихся в воронке людей.
Командир батальона только что ползал в одну из рот, пытался поднять ее и подойти с нею к больнице, но это не удалось, комбат получил ранение и вернулся. Он сидел, привалившись спиною к скосу воронки, упершись в землю для крепости руками и приподняв одну ногу, без сапога и портянки, до синеватости белую на фоне темно-коричневой глины. Галифе было распорото выше колена, боец-санитар с медицинской сумкой на боку наматывал на всю длину голени широкий бинт.
Даже не отдышавшись, Платонов накинулся на телефониста-сержанта: почему не восстановил линию? Ведь от воронки до обрыва ближе. Почему сидел, ждал, пока это сделают с полкового пункта?
Сержант виновато моргал глазами.
– Посылал, товарищ лейтенант, двоих посылал – не дошли и не вернулись. А больше телефонистов нет, видите – один остался, и связь у меня с ротами – как ее бросить?
На телефониста грешно было кричать – такой был он заморенный, так чувствовал свою вину, хотя, если взглянуть правильно, никакой вины за ним не существовало. От контузии у него подрагивала бровь и кривилась левая половина лица.
Командир полка, в солдатской поцарапанной каске, на которую он заменил свою фуражку, чтоб не выделяться, не привлекать немецких снайперов, стоял на приступке, специально для этого оттоптанной в скосе воронки, и глядел в сторону противника в бинокль. Прошло не так уж много часов, как Платонов видел полкового командира в последний раз, но он едва узнал его – настолько тот осунулся. Смуглое восточное лицо его потемнело еще больше, даже изменилось в своих чертах. Других тоже было нелегко узнать – так все переменились внешне, так были все грязны, закиданы землею, летевшей в воронку с каждым близким разрывом, измучены и подавлены – почти как те артиллеристы, на которых наткнулся Платонов.
Командир полка не выразил особой радости, когда Платонов доложил, что связь восстановлена и на проводе дивизионный КП. Напротив, в лице его промелькнуло что-то даже похожее на досаду, что эта связь есть и теперь он снова доступен Федянскому, у которого нет никаких средств, чтобы оказать ощутимую поддержку, который со своего далекого КП даже не может дать дельного совета, но зато, чтобы играть роль главного надо всеми лица, проявлять положенную командиру дивизии деятельность, станет теперь снова засыпать его ненужными, даже вредными для дела указаниями и неисполнимыми требованиями.
Федянский действительно начал что-то горячо, торопливо говорить. С телефонной трубкой возле уха, с мрачным, усталым лицом, командир полка глядел в поле на перебегающие в отдалении фигурки, и было видно, что он слушает Федянского только потому, что обязан выслушать.
– Хорошо... хорошо... Да, понял... понял... – без выражения произносил он время от времени, и было также видно, что он соглашается, чтобы лишь не вступать с Федянским в пререкания, но сам не собирается исполнять ни одного из его указаний.
Когда Федянский закончил, командир полка тем же своим усталым, глухим голосом сказал в трубку, что убит дивизионный комиссар Иванов.
Мембрана заверещала. Даже на расстоянии был слышен ее высокий звук.
Лицо у командира полка напряглось, вытянулось, начало подергиваться. Глаза его вдруг сверкнули белками, ослепительными на темном, как мореный дуб, лице, и он, известный в дивизии как тихий и невозмутимый человек, очень похожий своим ровным характером на Остроухова, закричал в трубку с совершенным бешенством, являя свой, где-то глубоко в нем дремавший восточный темперамент во всем его накале, от бешенства даже с акцентом произнося слова:
– Как допустил? А потому, что немцы меня не спрашивают, в кого стрелять, кого убивать! С бойцами в атаку шел, личный пример показывал...
Мембрана заверещала еще громче, заставив командира полка замолчать.
– Я ему не приказывал ходить! Я только полком командую, дивизионными комиссарами я не командую! Они не в моем подчинении. Я сам у них в подчинении! Пехота лежала, вставать не хотела. Надо огневые точки артогнем давить, тогда пехота сама в атаку пойдет, не надо ее комиссарам поднимать!..
Федянский утих, заговорил спокойней.
– Тело? Не могу доставить тело, нет его тела. Прямое попадание, воронка – и все!
Теперь, когда связь действовала и задача Платонова была выполнена, ему можно было отправляться назад.
Но получилось иначе.
Внезапно мелькающих фигурок на поле стало больше. Они перемещались беспорядочно, в какой-то непонятной суетливости и казались плоскими тенями в серо-желтой пыльной мгле. Происходило что-то важное, потому что в воронке послышались восклицания, все пришли в беспокойство, тоже засуетились, полезли на край смотреть. Высунувшись, Платонов смотрел туда же, куда и все, но ровно ничего не понимал. Не понимал, что означает эта суета и мелькание, перемещение фигур на поле, не понимал, где кто, кто это бежит куда-то вправо, кто те, что бегут им навстречу и влево и еще куда-то. Комбат с босой забинтованной ногой, приподнявшись из воронки по грудь, взмахивал руками, что-то кричал отчаянно и сердито, как будто те, что мелькали в пыльной мгле, могли его слышать, и порывался выползти из воронки, порывался туда, в непонятное паническое мелькание человеческих силуэтов. Но раненая нога не пускала его, тянула назад, и он только скользил и срывался на крутизне скоса.
Часть фигур была совсем близко, бежала прямо на воронку, видясь призрачно, зыбко, рассыпание, и Платонов, напрягши зрение, вдруг различил, что это немцы. С тех пор, как началась война, он видел их, должно быть, сотни раз – в кино, на фотографиях, на рисунках. Но впервые видел воочию, живых, настоящих, и, увидев, даже не сразу осознал, что это и есть немцы, а осознав, удивился, что они одновременно и похожи, и не похожи на то, что он видел, какими себе их представлял.
В воронке торопливо, с бледными лицами налаживали оружие, кое-кто уже стрелял, и Платонов тоже принялся стрелять – сначала из своего пистолета, потом из винтовки, когда ранило стрелявшего из нее солдата и солдат этот, оставив винтовку на краю, сполз по склону воронки на дно.
Потом немецкие солдаты куда-то сгинули, так же внезапно и непонятно, как возникли; бой с ними продолжался всего десять или пятнадцать минут, но за эти минуты Платонову пришлось испытать все, что испытывает в бою рядовой пехотинец. Поблизости убивало людей, он слышал вскрики, стоны. Во второй раз ранило командира батальона, пробило ему горло. Его перевернули на спину, лицом к небу. Он лежал, сразу весь сникнув, замолчав, только хрипя, булькая дырявым горлом и высоко, душно вздымая при каждом вздохе грудь. Рана была смертельна, но он был здоровый и крепкий мужчина, и мучиться ему предстояло долго...
Потом Платонов опять полз по полю, над которым так же свирепо, в поисках человеческих тел, в поисках и его тела, бесновался металл. Полз, натыкаясь на трупы, на бесформенные куски окровавленного мяса, на оторванные руки, ноги, головы... И когда, наконец, он вернулся, черный, неузнаваемый, испачканный чужой кровью, и первым делом схватился за фляжку и стал жадно пить, захлебываясь, ловя горлышко стучащими зубами, – он чувствовал себя совершенно пустым, точно из него вынули, вытряхнули всю душу, не оставив от нее ни кусочка, и каким-то совсем омертвелым внутри. Нервы его как бы перестали служить, казалось, они неспособны уже ни на что отозваться, истрачены полностью – всего в какой-то один час...
Но день был еще только на самой своей середине... Едва Платонов оторвался от фляги, как над лощиною проревел «юнкерс», и сразу же, сливаясь с его ревом, по следу его загрохотали взрывы сброшенных им бомб. Одна и другая, мощные, фугасные, не меньше, как пятисотки, совсем как при землетрясении поколебав почву, рванули возле пруда, на склоне, пониже ямы, в которой сидели связисты. Над макушками леса фонтаном взлетела земля, щепки. И еще не улеглось раскатистое эхо и дрожание почвы под ногами, еще вокруг, по листве и веткам, шлепали закинутые на стометровую высоту комья глины, как снизу, от того места, куда ударили бомбы, послышался глухой исходящий откуда-то из-под земли вой... Он был непонятен странен, ни на что не похож. Сержант и Яшин только озадаченно переглянулись, насторожились, но Платонова точно ударило током. Отбросив флягу, он вскочил на ноги и опрометью кинулся по откосу вниз.
Там, где под двускатной земляною крышей был погреб с набившимися в него женщинами и детьми, он увидел длинный, по форме погреба, провал... Рыхлая земля, из которой торчали концы трухлявых бревен и досок, еще дымилась. Казалось, она колеблется, дышит, шевелимая усилиями изнутри. И сквозь эту дымившуюся, колебавшуюся, еще не улегшуюся окончательно, местами проседавшую землю, сквозь ее полутораметровый слой и несся, слабея и затихая, будто погружаясь в земляную толщу все глубже и глубже, этот током пронзивший Платонова, ни на что не похожий, ни с чем не сравнимый вой заживо погребенных людей...
Платонова шатнуло, внезапное головокружение едва не повалило его на кусты, и все в нем, глухое и бесчувственное еще секунду назад, так и забилось, затряслось, затрепетало в крупной, ледяной дрожи...
Шла уже вторая половина дня, а Остроухов все еще не был доставлен в Лаптевку. Грузовик, что прислали за ним по распоряжению Мартынюка, был неисправен, его мотор чихал и то и дело глох. Вдобавок шофер плохо знал лес и долго не мог выбраться из яра на дорогу. Потом, уже на дороге, грузовик попал под бомбежку, осколками продырявило скаты, и опять ушло немало времени на ремонт.
Дорога, как все лесные дороги, была тряской, в корневищах. Грузовик подвигался медленнее пешехода, переваливаясь с боку на бок в глубоких, на половину колеса, колеях. Скрипевший всеми досками кузов сильно кренило, встряхивало, потому что шофер, напуганный бомбежками, смотрел не на дорогу, а больше вверх, в небо.
Остроухов лежал белый, как мел, вытянув руки. Склоненная над ним Галя поддерживала его голову, которую от толчков беспрерывно мотало из стороны в сторону.
Пульс у комдива уже не прослушивался, дыхания было не уловить, но Галя знала, что Остроухов еще жив. И он вправду был еще жив, окружающий мир слабо, как сквозь туман и воду, но еще доходил до него. Он ощущал толчки кузова, хотя не понимал, что он в грузовике, не понимал, что за толчки испытывает его тело. Порою, когда на короткие минуты светлело сознание, он даже видел сквозь узкую щель век голубое небо над собою, проплывающие ветви деревьев, хотя тоже не понимал, что это голубое и что это темное мелькает над ним в голубом...
Все человеческие чувства, заботы, мысли уже окончательно оставили Остроухова, ушли от него, все уже перестало быть для него важным. Но что-то еще оставалось в нем. Что-то еще тлело, едва-едва мерцало – совсем последнее, до такой степени расплывчатое и уже не похожее ни на мысль, ни на чувство, что даже не было слова, каким это можно было назвать. Это последнее, что еще тлело в нем, в частицах сознания, просто в остывающем теле, превращая его забытье в смутный хаос тревоги, в какое-то немое вопрошание, которое он уже не мог высказать, перевести в речь, – было его памятью о своей дивизии, о своих солдатах, памятью, которая все еще держалась в нем, потому что не могла его покинуть, а могла полностью умереть и угаснуть только вместе с ним. Он не различал звуки, не различал канонады, гремевшей у города, и не мог понимать то, о чем она рассказывала. И это было ему только в благо, ибо если бы он был еще доступен вестям из мира, из которого уже почти совсем ушел, – для него было бы лишь болью и мукою узнать, что представляли сейчас его полки и какую лили они сейчас кровь...
Горькая и обидная судьба была назначена Остроухову! Ничего не успев, не сделав, стать первой жертвой в своей дивизии среди тысяч и тысяч приведенных им на фронт людей, умереть в тряском грузовике, не доехав до госпиталя, где уже извещенные врачи держали наготове инструменты, кислород, быть похороненным без гроба, в зеленой армейской плащ-палатке, на случайном месте, в лесу, в сырой и неглубокой могиле, рядом с другими могилами, что в таком великом множестве росли в те дни на просторах России... В одной из тех могил, на которых наспех на фанерных дощечках кривыми буквами писали имена, даты и «вечная слава», а потом, в послевоенные лета, ветры и дожди, неутомимые слуги забвения, сглаживали и сравнивали их с землей...
...А по дороге, по сторонам от нее, торя себе путь по зарослям леса, ибо тесные просеки не могли вместить весь движущийся человеческий поток, не ведая, что в ныряющем по рытвинам грузовике везут их умирающего командира, к полю битвы перед горящим городом спешили солдаты последнего в дивизии полка. Спешили артиллеристы, безжалостно хлеща кнутами по впряженным в орудия, в зарядные ящики и повозки, загнанным, в мыле, в хлопьях пены лошадям...
Мартынюк сделал так, как обещал, – выслал навстречу полку автотранспорт и тягачи для пушек. Но, как верно предсказывал Остроухов, и машины, и тягачи не смогли одолеть крутые лесные балки, позастревали в их низах, болотисто-топких от грязи родников, и пехоте, и орудийцам, лишь потерявшим время на бесплодные попытки вытащить машины, все равно пришлось двигаться своим ходом. Бойцы уже знали, что передние полки ведут бой, что им туго, что они ждут подмоги, и торопились как только могли. От Лаптевки пехота бежала бегом. По лесу катился глухой топот множества ног. Открытыми ртами хватая воздух в обожженные зноем легкие, с красными, как кумач, лицами, с оружием, снятым с плеч, в руках, – бежали солдаты. Вместе с ними, придерживая хлопающие по бокам планшеты и сумки, тяжелые от пистолетов кобуры, бежали командиры. Артиллеристы, обгоняя пехоту, рвали упряжь, калечили лошадей, в карьер подымаясь на лесные увалы...
Но было уже поздно, помогать было некому – первых двух полков фактически уже не существовало.
Вводить теперь в бой резерв было совершенно бесполезным делом, напрасною, без возможности какого-либо успеха, тратою.
Но отданный накануне приказ еще существовал, все пункты его продолжали действовать без изменений, и ослушаться этого приказа в дивизии никто не смел.
И солдаты последнего полка, достигнувшие на закате дня города, подчиняясь сохранявшему свою силу приказу, тут же, с ходу, не переводя дыхания пошли в огонь и дым битвы и сделали то, что только и могли они сделать, – легли на задымленном, взрытом поле рядом со своими товарищами по дивизии...
За время этого дня – с рассвета и до сумерек – Федянский, невероятно устав, измучившись душою, пережил на своем КП сложную амплитуду психологических состояний, пеструю, противоречивую смену чувствований.
Был момент, самый начальный, когда он упоенно, восторженно ощущал себя полководцем, тем полководцем, каким хотел себя видеть и видел иногда в воображении, – это когда полки, растянувшись в цепи, двинулись из леса на город в золотистом свечении утреннего тумана, когда в их движении были стройность и четкость, заранее спланированный порядок, когда еще не было ни убитых, ни раненых и сила полков казалась внушительной и грозной.
Затем, последовательно сменяясь, пошли другие фазы душевных состояний Федянского, фазы, когда он, со все усиливающейся тяжестью внутри себя, но все еще продолжая чувствовать себя полководцем и быть упоенным своею ролью, деловито суетился на КП, распоряжаясь, с удовольствием нажимая клавиши огромного, послушного ему войскового инструмента: беспрерывно звонил в полки, в батальоны, чтобы бросить какое-нибудь приказание то артиллеристам, то минометчикам, и ансамбль разных родов войск, развернувшихся на пространстве, которое даже нельзя было охватить в один раз зрением, тут же, повинуясь, отзывался Федянскому то голосом батарей, то передвижением пехотных подразделений.
Потом все, необъяснимо как, вышло из повиновения ему, из-под его контроля. И наступили другие фазы, когда Федянский с растерянностью, скрываемой от бывших с ним людей за властными жестами, волевым лицом и энергичною суетою возле стереотруб, карт и телефонных аппаратов, чувствовал себя совершенно бессильным и не играющим в развернувшемся сражении никакой роли, значащим для боя меньше, чем последний боец с винтовкой. С тягостным стыдным недоумением он видел, что все происходит совершенно не так, как ему представлялось, как было задумано, как он старается направлять, а почти вне всякой связи с его волею и его планами, что настоящий командир этой битвы – не он, а какие-то иные силы и факторы. Работу этих сил можно было бы обратить в свою пользу, если бы они были заранее учтены, взяты во внимание, если бы план операции и действия войск были приноровлены к законам действия этих сил, подобно тому как моряк на парусном корабле выбирает свой путь к цели не произвольно, как вздумается, а приноравливаясь к направлениям дующих ветров и течений. Теперь же эти течения и ветры войны, с которыми не посчитались, которыми пренебрегли, жестоко мстили за пренебрежение ими и напористо работали против, дули как раз в обратную сторону парусов, ломали задуманный курс и поворачивали все движение совсем по иному направлению. С неумолимостью, как нечто строгое, такое, чего никак нельзя избежать, обойти, перехитрить, пересилить, что неминуемо и непременно заявит свою волю, скажет свое слово и сделает по-своему, выявлялась, обнаруживалась невидимая, внутренняя логика, которая была заложена в изначальных, исходных обстоятельствах и по которой только и могли развиваться события...
Федянскому оставалось лишь наблюдать это развитие, тщетность усилий, имевших сразу двух противников – не только немцев, но и эту неумолимую, с неизбежностью клонившую к определенному результату внутреннюю логику, и получать сведения о том, какие потери несут полки. Все чувства, бывшие в нем, в конце концов соединились в одно – в полностью парализовавшую его растерянность и самый обыкновенный эгоистический страх, что с него спросят за этот день и он должен будет давать ответ... Ему нестерпимо захотелось отойти в сторону – от карт и телефонов, ото всей суеты, которой он занимал себя, чтобы заглушить все то, что происходило в нем, свою растерянность, свой страх – отойти, вынуть пистолет и застрелиться...
Под конец он совершенно отупел, оравнодушел и как-то успокоился. Успокоило его сознание, что он ни в чем не виновен. Он только выполнял приказ, который придумал и составил не сам, которому по требованию воинской дисциплины обязан был подчиниться, не мог не подчиниться. Все видели – и никто не упрекнет его в обратном! – как он старался, чтоб вышло хорошо. И не его вина, что вышло плохо, так, как вышло...
Мартынюку на его командном пункте тоже было ясно, что дивизия израсходована зря.
Умей Мартынюк чувствовать тоньше, результаты этого дня, вероятно, были бы для него еще более непереносимы, чем для Федянского.
Но Мартынюк не привык заниматься самоанализом и самобичеваниями, как Федянский. Да, и на него этот бесконечный июльский день лег стопудовым грузом, и для него были угнетающи результаты сражения и его причастность к ним. Но думал он не об этом, основные его мысли были о другом, что беспокоило его едва ли не больше: какими фразами станет он объяснять ночью по прямому проводу случившуюся неудачу. Именно в это слово, готовясь к предстоящему докладу, облек он уже мысленно смысл того, что произошло днем. Чувствовал он себя скверно, разбито, сердце у него ныло, даже пришлось принять порошки, приближающийся ночной разговор пугал его и томил.
И все же не до последней степени было Мартынюку безотрадно: главное в своей роли он соблюл, данных ему директив он не нарушил, не отступил от них, а исполнительно и пунктуально держался их линии, их буквы и духа и не щадил ни себя, ни других для их выполнения.
Но произошла неудача, противник оказался сильнее...
Под бревенчатым накатом блиндажа при свете аккумуляторной лампочки, надев на нос очки, Мартынюк, низко наклонившись, астматически дыша, заносил в блокнот цифры, которые могли понадобиться при разговоре, подсчитывал потребности фронта, о которых предстояло доложить Ставке, – потребности в новых людских пополнениях, боематериалах, транспортных средствах.
Густая полночная тьма лежала окрест, слившись в одно неразделимое со смолисто-вязкою пеленою дыма, упрятав под собою до следующего утра зубчатый силуэт города, скелеты его разбитых зданий, притушив багровое свечение его пожаров.
Одна больница полыхала ярко, чернея в струении золотисто-розового, медлительного в безветрии пламени всем своим громадным голым костяком. Битва с наступлением ночи затихла – обессилено, утомленно, на широкой дуге фронта, огибавшей город, все молчало. И только из догорающего здания больницы по временам все еще доносились одиночные хлопки выстрелов, короткое карканье пулемета, тревожа ночную тишину. Кто-то там был еще жив, еще воевал, отстреливался, не хотел сдаваться...
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |