"В краю танцующих хариусов. Роска" - читать интересную книгу автора (Олефир Станислав Михайлович)
РОСКА
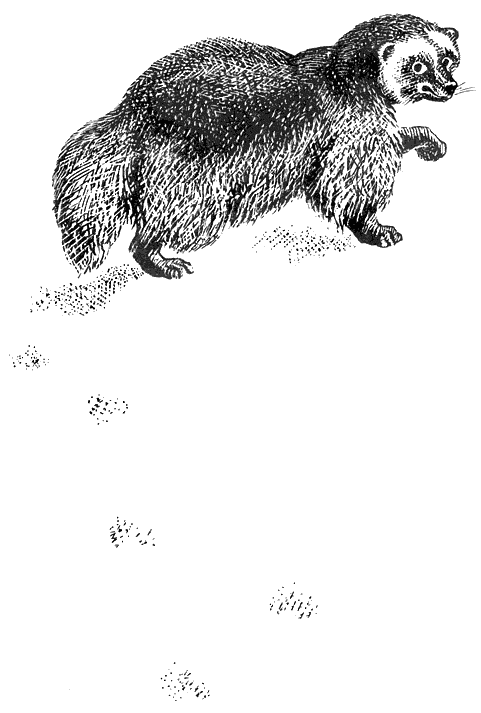 |
В начале осени я переселился в Лиственничное — таежную деревню-малютку из десяти рубленых избушек. Летом здесь живет бригада косарей, в остальное время это мои владения. В каждой избушке одно окно, дверь, скамейка у крыльца. Окна всех избушек смотрят на реку с таинственным названием Фатума. Вода в ней прозрачная и вкусная.
Неподалеку от избушек возвышаются две поставленные «на попа» цистерны. На ближней нарисована грустная рожица, под нею подписано: «Шурига жмот!». Шурига — это бригадир косарей, а карикатуру на него рисовали дорожники, которым он не дал солярки. Бригадир и в самом деле прижимистый. Он пожалел краски закрасить карикатуру и, когда знакомил меня со своим хозяйством, смотрел не на цистерну, а куда-то в голубую даль. Словно собирался передать мне на хранение и одинокую тучку, как раз проплывавшую над Лиственничным.
Работы у меня немного. Следить, чтобы заезжие рыбаки и охотники не наделали беды с огнем, помогать совхозным шоферам грузить на машины спрессованное в тюки сено, убирать снег с навесов, под которыми хранятся эти тюки.
По соседству со мной в полоске ольховника живет хромой заяц. Он угодил лапой в капкан, каким-то чудом вырвался из него и теперь все железные предметы обходит десятой дорогой. Каждую ночь он является к навесам, собирает оброненные стебельки иван-чая, оставляя на снегу разлапистый след-малик и россыпь коричневых шариков. Меня заяц нисколько не боится. Услышав шаги, ныряет под навес и возмущенно фыркает. Уходи, мол, скорее!
Еще в Лиственничном живут три черноголовые синицы и один поползень. Синицы никакой выгоды от соседства со мною не имеют. Еду они добывают на растущих у реки ивах. А таких деревьев в тайге сколько угодно. Поползень — совсем другое дело. Дверь своей избушки я утеплил мешками, в которых раньше хранился комбикорм. Когда-то мешки побывали под дождем, и на ткани осталась корочка теста. Хотя на мешках написано, что продукция предназначена для крупного рогатого скота, поползню она тоже пришлась по вкусу. С самого рассвета он бегает по двери и стучит клювом. Доски в двери рассохлись, и через щели проглядывает мешковина. Когда поползень садится на дверь, его коготки прокалывают грубую ткань и оказываются внутри избушки. Я несколько раз ловил поползня за эти коготки, затем приоткрывал дверь и брал его в руки. Поползень делал вид, что ему очень страшно. Пищал и больно клевался. Выпущенный на свободу, он минут пять отсиживался на иве, затем как ни в чем не бывало снова принимался гонять по двери.
Стены моей избушки сложены из ошкуренных лиственничных бревен. От времени они потемнели и покрылись трещинами. В этих трещинах любят селиться толстые лесные мухи, угольно-черные жуки-дровосеки, тонконогие комары. Если ранней весной случается теплый день, самые нетерпеливые из многочисленных моих квартирантов выползают на солнечную сторону и дремлют там, выгревая настывшие за зиму тельца. Вечером жуки с мухами торопливо уползают обратно в щели, а комары замерзают и осыпаются на снег. Ни синицы, ни поползень ими почему-то не интересуются. Так бедные комары и лежат, пока их не соберет возвратившаяся из далекой Африки длиннохвостая трясогузка.
Внутри избушки трещин еще больше. Я втыкаю в них гроздья ягод рябины, затейливые сучки, полученные от Шуриги записки-наставления. Из щели, что темнеет над моей кроватью, выглядывает свернутый из газеты фунтик. В нем три дробинки. Две целые, а одна расплющенная. Это память о моей Роске — все, что еще связывает меня с этим удивительным зверем. Три свинцовые сложенные в пожелтевший от времени фунтик дробинки и все.
Я как сейчас вижу ее перед собой. Необыкновенно светлый, словно облитый солнцем, зверь с круглыми настороженными ушами стоит и не мигая смотрит на меня. А над тайгою плывет теплый июльский день, о чем-то своем воркует прыгающий по камням ручеек, где-то сипло кричит кедровка…
Нет, лучше сначала. О росомахе я услышал в первые же дни пребывания в Лиственничном. До этого я думал, что росомахи никогда не привязываются к одному месту. Зверь-изгой, зверь-бродяга, бежит, мол, и бежит, пересекая распадки и долины, уничтожая на своем пути все живое. Случится олень — съедает оленя, встретится маленькая мышка-полевка — не пожалеет и ее.
Если путь росомахи лежит на север, то остановится она только у Ледовитого океана. Поглядит на вздыбившиеся торосы, покопается в куче выброшенных на берег водорослей и поворачивает обратно. Теперь ее след тянется к богатому красной рыбой и огромными клешнястыми крабами Охотскому морю. И так день за днем, год за годом.
Но оказалось, каждая росомаха занимает строго определенный участок. Эту территорию зверь тщательно охраняет. Регулярно обходит ее, оставляя у границ своих владений «визитные карточки». Для этого росомаха трется животом о кусты, кочки, коряги, выделяя из железы пахучее вещество. Исследовав такую отметку, другая росомаха получает полную информацию о хозяине занятой территории — молодой он или старый, сыт или голоден и даже как отнесется к тому, если, скажем, заглянуть к нему в гости?
Как-то совхозный тракторист Пироговский Митька привез в Лиственничное двух молодых лаек. Собак звали Султан и Люта. Тайга была им в диковинку и вначале очень напугала. От каждого шороха в кустах они трусливо поджимали хвосты и дальше помойной ямы от избушек не отходили. Днем собаки путались под ногами поварихи Любы, ночью забирались под кровать к Пироговскому и до утра не казали носа.
Но вскоре они освоились и устроили в тайге настоящий разбой. Породистые собаки легко разыскивали в траве молодых зайчат, куропачьи и глухариные выводки, а однажды задавили даже матерого глухаря-токовика. Летом глухари линяют и от опасности стараются уйти пешком. Вот один и не уберегся.
С раздувшимися животами являлись собаки домой и, даже не взглянув на приготовившую для них косточки Любу, чинно разваливались у порога Митькиной избушки.
— Нужна ты им со своими объедками, — говорил Пироговский поварихе. — Добрая собака в тайге сама себя прокормит и хозяину пропасть не даст. — И, хлопнув Султана по животу, самодовольно заканчивал: — А ну, псина, признайся этой тете, сколько ты зайчиков сегодня схамкал? Ишь, как тебя разнесло!
В то утро собаки подзадержались и вылезли из-под Митькиной кровати, когда Люба уже приготовила завтрак. Они догнали идущую к Фатуме с пустыми ведрами Любу и, даже не посмотрев на нее, пробежали мимо. Повариха проводила собак взглядом, хотела было окликнуть, но передумала:
— Ну их! Словно волки стали. Даже вид звероватый.
Люба уже зачерпнула воды и сделала несколько шагов по направлению к кухне, как вдруг за деревьями взорвались неистовым лаем собаки. Такого с ними еще не было. Ну гавкнут разок-другой на кого-то из заезжих рыбаков и стихнут. Здесь же зашлись, аж захлебываются.
Люба оглянулась, подняла лежащую у тропы хворостину и заторопилась к собакам.
«Наверное, снова дорожники приехали, — думала она. — Чего это их в такую рань носит?»
Сначала повариха увидела Люту. Та вертелась вокруг одиноко стоявшей лиственницы и лаяла, как заведенная. При этом она не глядела ни вверх, ни вниз, а просто бегала и гавкала. Потом из ольховниковых зарослей вывернулся Султан. Он зло хватил зубами растущий у тропы куст и тут же прыгнул на лиственницу, под которой вертелась Люта. Повариха подняла глаза и обмерла. Метрах в четырех от земли среди частых веток сидела росомаха. До этого девушка видела росомах только на картинках, но сейчас узнала сразу. Небольшая голова с округлыми ушами, толстые лапы, мохнатый хвост. Вот только цвет у нее был совсем не таким, какой могла представить себе Люба. Она считала, что росомахи черные, ну в крайнем случае черно-коричневые, эта же была почти желтая.
Занятый собаками зверь не видел девушку. Он смотрел на лаек и угрожающе шипел. При этом он каждый раз приподнимал верхнюю губу и обнажал белые клыки.
Как-то совхозные косари рассказывали, что росомаха до удивления похожа на медвежонка. Сейчас Люба такого сходства не увидела. А вот на кошку — другое дело. Сидит загнанная на дерево огромная киска и шипит на извечных своих недругов. А те рады стараться. Прямо задыхаются от злости.
— Люта! Султан! Брысь отсюда! Кому говорят?
Росомаха вздрогнула, мгновенно повернулась к Любе и сразу же прыгнула вниз. По пути она зацепилась за ветку, сломала ее и вместе с нею плюхнулась чуть ли не на головы собакам. В мгновенье ока росомаха и лайки сплелись в рычащий клубок. Султан и Люта не уступали росомахе ни силой, ни размерами. Султан был даже выше росомахи, к тому же собаки сражались вдвоем против одного. Свирепея все больше и больше, они совсем не обращали внимания на суетившуюся вокруг Любу. Казалось, участь росомахи решена. Но вдруг случилось что-то непонятное. Раздался пронзительный визг собак, и клубок распался.
Задыхаясь и кашляя, словно ему вдруг перехватило горло, Султан бросился прочь от росомахи и закружил на месте. Люта с жалобным поскуливанием тоже отпрыгнула в сторону, ударилась головой о ствол лиственницы и, спотыкаясь на каждом шагу, словно слепая, побрела к Фатуме. Под лиственницей остались только распластанная на мху росомаха и все еще сжимающая хворостину Люба. Зверь коротко рыкнул, поднял голову и глянул на девушку. Глаза человека и зверя встретились. Но ни ненависти, ни злобы во взгляде росомахи не было. Скорее, она смотрела на Любу как-то растерянно, будто чувствовала за собой какую-то вину.
Девушка присела перед росомахой и участливо спросила:
— Тебе очень больно?
Словно только сейчас осознав, что перед нею человек, росомаха вскочила и опрометью бросилась в чащу…
Султан долго не мог прийти в себя. Беспрестанно кашляя, он то ложился на землю, то принимался тереть нос лапой или просто стоял и тряс головой. Из разорванного уха сочилась струйка крови. Наверное, собаке было очень больно, но вместо того, чтобы пожалеть ее, Люба злорадно сказала:
— Что, кончилась коту масленица? Это тебе не зайчат хамкать. — Она наклонилась к Султану и вдруг учуяла, что от него чем-то пахнет. Кислый чесночный запах был до того резким, что от него запершило в горле и выступили слезы из глаз. Люба поднялась и, недоуменно качая головой, заторопилась на кухню.
Ожидавшие завтрака бригадир Шурига и два косаря к взволнованному рассказу поварихи отнеслись с недоверием. Недавно она приняла за медведя лежащий у дороги выворотень, теперь вот ей привиделась росомаха. Будет она околачиваться возле человеческого жилья! Зимой — еще куда ни шло, но чтобы среди лета? Сейчас ее сюда и палкой не пригонишь.
Пока они спорили, никем не замеченные собаки возвратились домой. Сначала, припадая на переднюю лапу, прихромала Люта, за нею явился и Султан. Они забрались под кровать все еще спящего Митьки и, обиженно поскуливая, принялись зализывать раны. Скоро по избушке поплыл неприятный запах. Митька открыл глаза, повел носом и, легко определив источник зловония, принялся вытаскивать упирающихся собак на улицу.
Он отмывал собак в теплой воде, пускал в ход туалетное мыло и порошок «Кристалл», обливал собак духами «Милый друг» и огуречным лосьоном, но ничего не помогло. Более того, этим запахом пропиталась Митькина избушка и он сам. К вечеру, сопровождаемый ехидными репликами жителей Лиственничного, Пироговский уехал в совхоз. Вместе с ним отбыли и лайки.
Как долго держался запах, струей которого росомаха угостила собак, не знает никто, потому что ни Митька, ни его собаки больше в Лиственничном не появлялись.
А вот росомаха осталась. Правда, к поселку она теперь не приближалась, но бригадир сам рассказывал, что дважды встречал ее по дороге к Сокжоевьш покосам.
— Она и в самом деле на других не похожа, — говорил Шурига. — Не то чтобы желтая, а какая-то светло-светло-коричневая. Но уж доверчивая — удивиться впору. Метров на двадцать подпустила. Стоит и совершенно спокойно так смотрит. Потом прыг в сторону — и нет ее.
Подозревали, что именно эта росомаха съела четыре низки вяленых хариусов, развешенных трактористами возле палатки. Медведь оборвал бы шпагат, лиса оставила бы объедки, соболю с таким количеством рыбы вообще не справиться. С вечера висела — хвост к хвосту, а утром проснулись — пусто. Одни веревочки остались. Чужих людей не было, зверья же в тайге сколько угодно. На кого хочешь — на того и думай. Подумали на росомаху…
Крупные, чем-то напоминающие медвежьи, следы я впервые встретил через три дня после того, как лег первый снег. Росомаха вышла к Фатуме километрах в двух от Лиственничного, повертелась у берега и направилась в сторону Хитрого ручья. Я долго шел по следу, стараясь узнать, с какой целью она подходила к реке, но так ни с чем и возвратился.
По пути росомаха отыскала обточенный полевками лосиный рог, оставила две желтые метки на выглядывающих из-под снега корягах, собрала перемороженные ягоды с куста голубики. Я давно заметил, что голубика для всех таежных птиц и зверей самая лакомая. На смородину они не обратят внимания, бруснику щипнут всего лишь чуть-чуть, голубику же соберут до последней ягодки. Любят ее и куропатки, и утки, и соболи, и лисицы, глухари так те вообще до глубокой осени на голубичниках пасутся, теперь вот и моя росомаха позарилась.
К куропаткам, что паслись в зарослях ерниковой березки, она не проявила никакого интереса. Так же безразлично отнеслась и к свежей лосиной лежке. Остановилась, переступила с ноги на ногу и пошла дальше.
Через неделю след появился снова. И опять росомаха прошла этой дорогой без всякой видимой причины. Правда, в этот раз она заинтересовалась темнеющими на снегу остатками моего костра. Обследовала горку сизой золы, подобрала остатки завтрака и неторопливо отправилась дальше. След ничем не отличался от предыдущего. Я едва прикрывал его ладонью. Без сомнения, здесь ходит один и тот же зверь. Но почему, приблизившись к реке, росомаха не пытается перебраться на другой берег? Вода с наступлением морозов упала, рядом усыпанный камнями перекат, а она постоит, потопчется и назад.
Здесь меня и осенило. А ведь бродит в этих местах росомаха далеко не случайно. У реки проходит граница ее владений, вот хозяйка и проверяет, не проникла ли сюда другая росомаха? Да и вообще вся раскинувшаяся за Фатумой тайга — ее дом, ее усадьба. А какая хозяйка не стремится знать, что творится в ее усадьбе?
…Наверное, я, мягко говоря, не совсем хороший человек. В зоопарке меня от одного вида запертых в клетки зверей и птиц начинает бить лихорадка. Бродить бы, скажем, топтыгину по горам и долам, копаться в муравейниках да пугать грибников, а его заперли в клетку и радуются, когда он лапу за кусочком печенья, как за подаянием, тянет.
Потом еще и ехидничают: «Сунул я ему гвоздь в булку — не жрет. Разбирается!» Еще больше я выхожу из себя, когда читаю или слышу о диких животных, что живут вместе с людьми. Себе в угоду любители домашней экзотики лишают зверей самого дорогого — Свободы. Запирают в душную и тесную городскую квартиру и умиляются: «Ах, как он нас любит!». Я уже не говорю, что почти всегда эти животные в скором времени погибают от какого-то случая. Тогда эти любители стараются найти оправдание. То милиционер не разобрался да по ошибке застрелил, то с девятого этажа совершенно случайно уронили или просто «сначала играл, потом лег в уголок и умер». Лучше бы сразу убили без всякого лицемерия. Благородней все-таки.
Но вот иду по следу росомахи и сам же мечтаю: «Хорошо бы иметь ручную росомаху! Куда я — туда и она. Красивая, сильная, послушная. Все понимает с полуслова. Приеду в совхоз, а вместе со мною эдакая зверина! Знакомые от удивления и зависти обмирают, дети толпой бегут. А мы следуем себе, словно так и нужно. Или вот тайга. Нужно — я ее в магазин за свежим хлебом или на почту за письмами пошлю. Я бы ее за это кормил сколько душе угодно. Почему она не понимает, что со мною ей было бы лучше и надежнее?».
Конечно, все мои мечты-планы сплошной бред, но все равно думается вот так.
А что, если и на самом деле познакомиться с росомахой? Взять да и прикормить зверя. Правда, мясом или рыбой я не особенно богат, но собрала же она мои объедки у кострища. Съела все до последней крошки, даже бумагу, в которую я заворачивал бутерброд, проглотила.
В кладовой у меня целая наволочка овсянки. Как-то Шурига решил кормить косарей овсяной кашей на молоке и закупил килограммов тридцать крупы. Но с молоком у него вышла промашка. Сенокосные угодья от совхоза далеко, дорога к нам трудная. Пока довезут молоко, из него уже получилась простокваша. Так и осталась овсяная крупа без дела. Возьму и заварю Роске каши. Пусть питается на здоровье. А сдабривать буду рыбьим жиром. Этого добра у Шуриги целая бутыль. Как она попала к бригадиру, стоит рассказать особо.
В прошлом году два заезжих парня решили заняться пушным промыслом в верховьях Фатумы. Места там богатые. Есть соболь, белка, горностай, встречаются лисицы и норки. Наняли они вездеход, завезли все необходимое и начали охоту. И надо же им было в самый первый день промысла наскочить на свежий медвежий след. Медведь был небольшой и наверняка довольно мирный. В поисках места под берлогу он бродил по тайге, заглядывая под завалы и выворотки.
Решив, что запас медвежатины будет как нельзя кстати, охотники зарядили ружья пулевыми патронами и, прислушиваясь к каждому шороху, отправились по следу. Медведя они увидели по другую сторону неглубокой лощины метрах в ста от себя. Тот стоял спиной к охотникам и что-то вынюхивал. Переглянувшись, медвежатники вскинули ружья и дружно пальнули в ничего не подозревающего мишку.
Ни одна из пуль медведя не зацепила, но напугался он крепко. К тому же медведь не успел разобраться, откуда грозит опасность, и поступил так, как в таких случаях поступают все медведи — развернулся на сто восемьдесят градусов и кинулся удирать своим же следом. С удивительной для неповоротливого на вид зверя скоростью он пересек лощину и вдруг оказался перед охотниками. Один из них успел юркнуть за лиственницу, другой стоял на медвежьем следу и непослушными руками перезаряжал ружье. Увидев перед собою человека, медведь напугался еще больше. Он рявкнул, ударом лапы отбросил охотника в сторону и скрылся за деревьями.
К счастью, медвежьи когти, располосовав грубую кожаную куртку, пиджак и рубашку, оставили на плече охотника лишь небольшую царапину. Однако и ее хватило, чтобы на второй день, прихватив только то, что вместилось в рюкзаки, охотники выбрались на трассу и попутной машиной укатили в Магадан. Брошенные на берегу Фатумы матрацы, мешки с провиантом и даже железная печка вскоре перекочевали в кладовку к запасливому Шуриге. Там же оказалась и пятилитровая бутыль рыбьего жира, которым охотники планировали приманивать к капканам зверей.
Каша получилась наваристая и очень ароматная. Я сам съел несколько ложек. Ничего. Только плохо, что без соли. Но солить никак нельзя. У отведавшего соленой пищи хищника притупляется обоняние. Ведь не секрет, что первобытные люди имели прекрасный нюх. Они не хуже волка или тигра могли учуять по запаху спрятавшегося в кустах оленя. Но со временем человечество пристрастилось к соли и теперь, если кто что и унюхает, то всего лишь, как у соседа пригорели блины или убежало молоко.
Часть каши я выложил рядом с кострищем, часть оставил на большом плоском камне, что лежит у тропы к Лиственничному. Затем намочил в рыбьем жире тряпку, привязал к ней веревку и проложил между кострищем и камнем ароматную дорожку. Как только росомаха отправится обследовать свои владенья, обязательно наскочит на эту дорожку. Тем более, что в прошлый раз она отметила кострище мочевой точкой. Волки, лисицы, росомахи и другие звери в тех местах, где им удалось поживиться, ставят свою отметку. Территория, мол, занята, и нечего здесь другим делать. Получается, что теперь это кострище не только мое, а и росомахино. Наше общее, так сказать.
Съев кашу, росомаха обследует поляну вокруг кострища и наткнется на пахнущую рыбьим жиром дорожку. По этой дорожке она дойдет до камня и таким образом получит еду уже ближе к Лиственничному. В следующий раз я подкормлю росомаху у ивового куста и в конце концов подманю ее к самой избушке.
В первую же ночь к моей приманке явились рыжие полевки. Удивляюсь, откуда у них такая прыть? Ведь ни овса, ни рыбьего жира эти зверьки и в глаза не видели. Но гляди, выели целый угол. Словно всю жизнь одной заправленной рыбьим жиром овсянкой и питались. Прибегали и убегали полевки каждая своей дорожкой. Вот и натропили за ночь добрую сотню строчек-ленточек.
Через два дня кашу отыскали горностай и заяц. Заяц ничего не тронул. Он потоптался у кострища, схрумкал стебелек кипрея и ускакал в ивняковые заросли. Горностай принялся было грызть замерзшую кашу, потом оставил это занятие и направился в гости к полевкам. Узкое и гибкое его тельце легко проскользнуло в нору, и скоро в подземном жилище начался великий переполох.
Одни полевки метнулись в узкие отнорки, в надежде, что горностай туда не пролезет. Другие, более проворные, выскочили наружу и стрельнули в разные стороны. Лишь самая толстая и неповоротливая полевка не успела ни убежать, ни спрятаться и попала горностаю в зубы. Маленький хищник выбрался из норы, унес добычу под корни старой ивы и там съел.
То ли полевки не заметили, как горностай расправился с их соседкой, то ли они давно платят дань этому злодею и принимают его разбой, как горькую неизбежность, — не знаю. Но, так или иначе, они, словно ничего не случилось, в следующую ночь снова собрались у каши и опять выели порядочный кусок.
Через неделю по успевшим запорошиться легким снежком следам горностая примчался соболь. В первую очередь он покопался под старой ивой, разыскивая то ли горностая, то ли его добычу. Затем направился к кострищу и принялся за овсянку…
А росомахи все не было. Я уже начал сомневаться в успехе своего предприятия. Наверное, это была случайная росомаха и задержалась у Фатумы на короткое время. Расстроившись я несколько дней не появлялся у кострища и даже затолкал овсянку и рыбий жир подальше.
Недели через две мы уехали грузить сено на Соловьевские покосы и провозились чуть ли не до ночи. Возвращаясь домой, я шел мимо Фатумы, и сразу же повезло. У самого берега наткнулся на следы моей Роски, как я успел окрестить росомаху. Молодец! Нашлась, бродяга!
У ольховникового куста росомаха остановилась, заглянула в пустое птичье гнездо и направилась прямо к кострищу. Там она подобрала всю кашу, даже снег, что лежал под нею, съела. Затем, без всяких кружений, вышла прямо на дорожку-потаск и вскоре отыскала камень. Там она тоже тщательно подобрала мое угощение и… что это? Роска направилась к дорожке, которую я протоптал, гоняя от Лиственничного к кострищу и обратно. Выйдя на дорожку, росомаха — умница какая! — повернула в сторону Лиственничного. Шла она без опаски. Ни разу не остановилась, чтобы оглянуться или прислушаться. Словно пользовалась этой дорогой всю жизнь.
Не дойдя до моей избушки какой-то полсотни шагов, она легла на снег и долго там лежала. Снег под нею подтаял и взялся коркой. На корке осталось несколько светло-коричневых волосков.
Ура-а! Наша победа! Это она. Та самая, что расправилась с лайками Пироговского. Пришла-таки, красавица, в гости. А я думал, ползимы подманывать придется.
От поселка росомаха уходила торопливо. Расстояние между следами большое, выволок (снег, выброшенный лапой зверя из следа) длинный. Наверное, я, выглянув на улицу, сильно хлопнул дверью. А может, ее вспугнула подъехавшая за сеном машина? Интересно, чего росомаха здесь ждала? Может, прибавки к каше? А может, просто хотела посмотреть на чудака, что ходит по тайге и просто так оставляет на своем следу вкусные вещи.
На второй день должен был приехать Шурига, с которым мы собирались отыскать удобную переправу через Фатуму. В ожидании гостя я поднялся задолго до рассвета. Приготовленная с вечера овсянка застыла и загустела. На этот раз кроме рыбьего жира я пожертвовал Роске банку сгущенного молока. Растопил печку, убрал в избушке и, позавтракав картошкой в шкурках, попросту мундиркой, прихватил ведро с кашей и отправился к кострищу.
Светало. С реки наплывал густой туман. Где-то хрипло кричала кедровка, ей вторил спрятавшийся в заросли ерниковой березки куропач. Было зябко и одиноко. Захотелось домой, на люди.
Через реку перелетел черный длиннохвостый глухарь и опустился на болоте. Он летает туда каждое утро. А ночует глухарь на склоне сопки в гриве высоких лиственниц. Сейчас ему плохо. Уже начались морозы, а снега всего лишь чуть выше щиколоток. Вот и приходится всю ночь зябнуть на студеном ветру.
Этой ночью у кострища побывал соболь. Наверное, ему снова захотелось каши. Я не очень-то радуюсь этому посещению. Тайга вокруг редкая, лиственницы и ивы низкорослые. Если дорогого зверька застанет здесь моя Роска, то ему не поздоровится. Она тоже хорошо лазает по деревьям, а ценный ты или не очень, ей все равно. Лишь бы был вкусным. В давние времена удегейцы съедали мясо добытого соболя, шкурку же выбрасывали или в крайнем случае шили из нее теплые чулки.
На этот раз распределяю кашу по всей тропе. Самую большую порцию оставил метрах в тридцати от избушки. Во мне живет уверенность, что Роска явится ночью. Все куньи — ночные хищники и днем на охоту выходят редко. А здесь еще совсем рядом человеческое жилье. Кто знает, что у меня на уме? Может, я подкармливаю ее кашей из любопытства, а может, давным-давно приготовил заряженное крупной картечью ружье.
Пока я бродил у Фатумы, погода начала портиться. Небо из голубого и высокого стало белесо-мутным и низким. Одна за другой в верховья реки пронеслись две стаи куропаток. За ними пролетел одинокий ворон. Птицы летели низко. В их напряженном полете чувствовалась какая-то тревога. Приближалась непогода. Вспомнив, что с крайнего навеса сорвало ветром толь, я поспешил в дом за молотком и гвоздями.
В избушке тепло и уютно. Домовито клекочет кастрюля. На окне поживкивает проснувшаяся не ко времени муха. Уходить на улицу не хотелось. И сразу же нашлась тысяча причин. Во-первых, сегодня воскресенье, во-вторых, я еще не завтракал, в-третьих — сейчас зима, дождя не будет. Так что ничего с этим сеном не случится.
У меня всегда так. Пока делаю работу — настроения и азарта сколько угодно, могу горы перевернуть. Но стоит чуть залениться — сейчас же появляется куча всевозможных оправданий. Может, это не так хорошо, но ведь и в самом деле, кто дал право гнать на работу голодного человека в его законный выходной?
Вытаскиваю из-под стола ящик с припасами и сажусь у окна чистить картошку. Через стекло хорошо видно опушку тайги, суховерхую лиственницу с сидящей на ней ястребиной совой, излучину Фатумы. Вдоль берега просматривается тропинка, у которой я разбросал кашу для росомахи. Интересно, что она сейчас делает? А что ей делать? Забралась в дупло или вырыла в снегу нору и спит. Недавно по транзистору слушал о том, как из Нарьян-Мара в Киров перевозили только что пойманную росомаху. Везли ее в сколоченном из толстых дубовых досок ящике. Изнутри ящик обили листовым железом. Всю дорогу росомаха рвалась на волю. Она кромсала зубами металл, остервенело грызла доски и, словно почувствовав, что в городе Кирове ее ожидает прочная железная клетка, прогрызла в металле и дереве дырку и убежала в лес. Ей бы сидеть в чащобе, а она, дурочка, отправилась в город. Что ее туда понесло — не представляю. Там росомаху окружили, загнали в крольчатник и принялись ловить. Ее травили собаками, тыкали в зубы палкой, набрасывали на шею петлю. Она с рычанием крошила в щепу концы палок, бросалась на собак, щелкала зубами на подступивших слишком близко людей. Словом, сражалась изо всех сил.
Когда же росомахе подсунули настороженный капкан, она обнюхала его и сразу поняла, для чего предназначена эта безобидная с виду железная штука. Росомаха легла на живот, вытянула лапы и, как ее ни дразнили, не хотела даже шевельнуться. Наконец ее каким-то образом обманули, затолкали в мешок и отвезли на биостанцию. Теперь она, мол, блаженствует в клетке и ей там очень нравится.
Так я им и поверил. Несмышленый зайчонок, в первый же день бравший еду из моих рук, и тот, предпочтя всем благам свободную жизнь, при первой возможности убежал в тайгу. А они такое о росомахе!
А вдруг и за моей Роской кто-то тоже охотится? Поймает и увезет от этих сопок, тайги, быстрой и студеной Фатумы. Может, мне не нужно ее подкармливать? А то приучу ее доверять людям, а они…
Отправив очищенную картошину в воду, бросаю взгляд в окно и вижу… росомаху. Она стоит на тропинке и смотрит в мою сторону. Шурига городил сущую чепуху, уверяя, что росомаха ничуть не похожа на медведя. Не знай я, что по этой тропинке может пройти только росомаха, я бы мог поспорить, что передо мною медвежонок. Забавный, мохнатый медвежонок с потешной мордашкой и любопытными глазами. Такие же маленькие круглые уши, вывернутые внутрь косолапые ноги, чуть горбатая спина.
Так вот ты какая, росомаха Роска! Красивая! И ничего сверххищного в твоем облике нет. Чем же ты насолила людям, что они так тебя ненавидят? Немецкое и французское твое название переводится на русский язык не иначе, как «обжора». Охотники саами, спасая от тебя свою добычу, строили ящик «пурну» или лабаз «луэвь». Североамериканские индейцы, пряча мясо на дерево, обивали весь ствол рыболовными крючками. Но ничего не помогало, потому что все умершее в тайге естественной или насильственной смертью ты считаешь своей законной добычей. А умом и смекалкой ты превосходишь любого живущего в твоих краях зверя. Не потому ли во многих странах истинным владыкой тайги считают не медведя, а росомаху?
Моя гостья обнюхивает горку выложенной у тропы каши и поворачивается ко мне боком. Хорошо вижу темное пятно-«сковороду» на ее спине, длинный и пышный хвост. Бока и голова росомахи светлые, на груди россыпь белых пятнышек.
Обследовав мое варево, росомаха принимается жадно есть. Разгрызая замерзшие куски, она мотает головой, помогает себе лапами, иногда ложится грудью на снег. Раза два она прерывала еду и настороженно оглядывалась по сторонам. При этом ее уши приподнимались, морда подавалась вперед, а ноздри усиленно тянули воздух. Торопливо проглотив последний кусок, росомаха еще раз глянула на мою избушку и, горбясь, побежала вдоль Фатумы.
Это был единственный случай, когда я видел Роску у своей избушки. Больше днем она в Лиственничном не появлялась. А может, во всем виноват я сам, потому что после этого перестал варить для нее кашу и вообще оставлял ей на угощение совсем маленькие порции. Пусть добывает еду сама, а то привыкнет к подачкам, заленится и тогда с ней беды не оберешься.
С другой стороны, наткнувшись на след росомахи у своего поселочка, а затем добившись того, что она приняла мое угощение, я вдруг возомнил, что не смогу подружиться с нею, что она никогда не подпустит меня даже на расстояние вытянутой руки и сколько я ни буду биться, а на большее, чем на мимолетную встречу где-нибудь на берегу Фатумы или вот так через окно, рассчитывать не стоит.
Но вскоре случилось событие, едва не закончившееся для меня трагически, а, главное, приоткрывшее завесу над жизнью росомах, хотя после этого она не стала для меня менее таинственной и непонятной. Во всем виноват Шурига.
Ни с того ни с сего бригадир косарей вдруг вспомнил об оставленном на Сокжоевых покосах имуществе и распорядился вывезти все в поселок. Матрацы, одеяла, подушки, косы, грабли и даже бочки из-под солярки. Кажется, у него назначили ревизию и, чтобы не везти комиссию на покосы, он решил все представить прямо в контору. Как бы сказал в таких случаях сам Шурига: «Если Магомет не идет к горе, то гору везут к Магомету».
От Лиственничного к Сокжоевым покосам километров двадцать, дорога никудышняя, к тому же нужно собирать и укладывать вещи, так что справиться за день — нечего и думать. Свое распоряжение Шурига передал через совхозного тракториста Сережку Емца, что явился в Лиственничное на тракторе с санями. Невысокий краснощекий крепыш с усами, как у запорожского казака, и хорошо заметным брюшком — он с самого рождения живет на Колыме. Сын бродяги, Сережка унаследовал характер отца и в свои неполных тридцать лет успел поработать оленеводом, охотником, старателем и наконец попал к нам в бригаду. В тайге он человек не новый, поговорить любит, да и я соскучился по людям, и мы, пока доехали до покосов, наговорились до боли в скулах.
Летом здесь жило звено косарей. Два человека в землянке, остальные в вагончиках. Здесь у них баня, навес под столовую, мастерская и даже маленькая пекарня. Сначала жили все вместе, потом что-то там не поделили, и эти двое решили поселиться отдельно. Облюбовали за ручьем поляну, выкопали бульдозером глубокую канаву и накатали сверху бревен. Получилось довольно просторное жилье. Я однажды в нем ночевал. С одной стороны, как будто даже лучше, чем в вагончике. Ночью тепло, в жару прохладно, комары не залетают. Но, с другой стороны, слишком уж тихо. Обшитые досками земляные стены не пропускают ни единого звука. Не то что птички, трактора не услышишь. А ведь в тайгу за тем и рвешься, чтобы слушать ее. Такую же вот тишину можно организовать и в подвале где-нибудь среди поселка.
За весь путь ничего, кроме стаи куропаток, мы не встретили. Следов тоже было мало. Вдоль колеи набегал заяц, раза два дорогу пересекли олени да еще на самом въезде в Сокжоевы я обратил внимание, что весь снег у ручья истроплен каким-то зверем. На самом берегу ручья косари устроили коптильню для рыбы и то ли выплеснули рассол, то ли у них протухла рыба и ее тут же выбросили, а какой-то зверь унюхал и решил поживиться. Следы глубокие, мне даже показалось, что это работа медведя, хотя по времени ему пора давным-давно спать в берлоге. До вагончиков оставалось совсем немного, и я хотел было попросить Емца, чтобы остановил трактор, мол, посмотрю, кто там копался. Да как на грех, в это же самое мгновенье тракторист заметил глухаря. Крупный, черный петух пролетел над сопкой и уселся на лиственницу по другую сторону ручья. У Сережки, конечно, никаких лыж. Да и зачем они ему, если у него трактор? Он зарядил ружье, схватил мои лыжи и зашлепал к ручью. Я попросил его, чтобы он глянул, чьи там следы у коптильни? Сережка чуть покружил на берегу, пару раз наклонился и наконец крикнул:
— Лиса ходила! И еще росомаха! Давай к вагончику, кипяти чай, я быстро.
Он и на самом деле вернулся минут через двадцать. Глухарь не подпустил охотника на выстрел, снялся и улетел к реке. Приготовили обед, чуть отдохнули и принялись за работу. Вещей оказалось больше, чем мы думали. Пришлось нашивать борта и обчаливать все тросом. Пока Сережка возился с санями, я решил пройтись к землянке. До нее немногим больше двух километров. Для трактора минутное дело, но как раз на пути гнилой ручей и переехать трактором никак нельзя. Вернее, переехать можно, но сразу же на траки намерзнет лед и его придется до седьмого пота сбивать кувалдой. Решили, что поценнее, перенесем на плечах, а остальное пусть лежит до следующего сенокоса.
Подыскивая места, где снег поплотнее, я, то прижимаясь к ручью, то забираясь в густой лиственничник, в каких-то полчаса дошел до землянки. Уже показалась торчащая из заснеженной крыши труба, когда я вдруг наткнулся на совершенно свежий росомаший след. Зверь тоже шел вдоль берега, стараясь держаться у самой воды. Здесь снег проваливается не так сильно, к тому же местами ручей замерз и можно передвигаться по льду. Я сразу обратил внимание, что с этой росомахой не все ладно. Три лапы у нее нормальные, и в оставленных на снегу отпечатках все на месте. Пальцы, когти, подошвы, пятки. А вот задняя правая нога вместо похожего на цветок оттиска оставляет в снегу небольшую ямку. Может, росомаха попала в капкан и оставила там всю ступню, а может, такая от роду.
Я сразу же забыл о землянке и торопливо отправился по следу. Скоро росомаха перебралась по льду на другой берег, и здесь ее след пересекся со следом еще одной росомахи. У этой все лапы целые, а отпечатки крупнее. Звери какое-то время покружили у ручья, оставили на припорошенном пне желтые отметки и отправились дальше уже вдвоем. Там, где снег был глубоким, росомахи шли след в след, на выдувах держались рядышком.
Кто же они? Соседи по охотничьим участкам? Супружеская пара? Или все значительно проще: одна из росомах попала в беду, а вторая ей сочувствует? Подкармливает, помогает добывать еду, при случае защищает. Постойте! А если это мать и ее ребенок? Родной сын или дочь? У волков, если один из щенков родится слабым, волчица довольно долго ухаживает за ним так же внимательно, как и за остальными волчатами. Поит молоком, кормит принесенными с охоты зайчатами, тщательно вылизывает. Но вот малыши подросли, все чаще проявляют свой характер, и в один из дней волчица вдруг начинает вести себя необычно. Она внимательно осматривает играющих возле логова волчат, затем словно спотыкается взглядом на самом слабом из них и замирает. Предчувствуя недоброе, волчонок то скулит, поджимая под себя хвост, то ложится перед матерью на спину, то принимается лизать ей морду. Волчица же никак не реагирует на поведение малыша, просто стоит и смотрит.
Скоро вокруг них выстраиваются остальные волчата. Они тоже возбуждены, повизгивают от нетерпения, скалят зубы, переступают с ноги на ногу. Но вот мать отвернула голову от волчонка, и тотчас вся стая молодых его братиков и сестриц бросается на несчастного малыша, а уже через минуту тот тащит в зубах оторванный хвост, другой лапу, третий катает голову… Я думал, подобное случается и у росомах. Явление само по себе, конечно, очень неприятное, но в нем есть своя логика. Больному и слабому в тайге делать нечего. Но, наверное, у росомах все происходит иначе, а вот как именно, точно сказать трудно.
Так вдвоем росомахи описали вокруг землянки довольно широкую петлю и вышли на дорогу, которой мы сегодня ехали на тракторе. Уже начались сумерки, я снял лыжи и по тракторной колее направился к вагончику.
Сережка лежал на топчане и листал «Огонек». Я выпил кружку чая, чуть посидел у окна, затем прихватил фонарик и отправился за дровами. На улице уже настоящая ночь. Деревья и строения почти не угадываются в темноте, зато журчание ручья стало намного явственней. Где-то за сопками всходит луна, и небо в том месте чуть светлее. Дует легкий ветерок, лицо пощипывают колючие снежинки. Я подошел к поленнице, включил фонарик и вдруг увидел медвежий след. Совсем недавно, может, всего лишь день тому назад у поленницы побывал медведь. След не так чтобы очень крупный, но самое главное, весь снег под ним пропитан кровью.
Почти бегом возвращаюсь в вагончик, поднимаю Сережку и с ружьем наготове идем по медвежьему следу. Зверь обогнул баню, потоптался возле столовой и направился к темнеющей у тропы железной бочке. Одно дно поставленной «на попа» бочки вырезано. Перед самым отъездом косари сообразили спрятать в нее макароны, крупы и пятилитровые банки с маринованными помидорами. То ли они боялись, что их продукты испортят мыши, то ли просто спрятали от заезжих охотников. Первый же ветер сорвал обрывок толи, которым бочка была прикрыта сверху, и всю осень на припасы косарей лил дождь. Потом наступили морозы, банки полопались и выщерили из оставшегося от продуктов месива острые обломки. Вчера ночью медведь пытался добыть из бочки еду и порезал лапы. На ржавых боках длинные потеки крови, снег тоже набряк от нее.
От бочки направляемся к коптильне и удостоверяемся, что медведь рылся и там. Есть, правда, следы лисицы и росомахи, но их совсем немного. А вот медведь вспахал берег ручья до самой воды.
Сережка Емец, конечно, в большом конфузе. Он разводит руками и пытается доказать, что там, где он смотрел, и в самом деле натропили лисица и росомаха. Потом вдруг делает вид, что искренне удивлен, до чего же похожи между собой следы этих зверей. Бывает, мол, опытные медвежатники путаются.
Интересно, куда этот медведь девался? Ушел в тайгу или бродит где-нибудь неподалеку? Для острастки Сережка пару раз стреляет в темное, беззвездное небо, затем набираем дров и возвращаемся в вагончик.
Не спали до полуночи. Пили чай, читали, просто лежали и разговаривали. И все время прислушивались, что делается за окном. Не треснет ли сучок, не скрипнет ли снег?
Утром решили не торопиться. Сначала еще раз прошлись по всем медвежьим следам, а когда проложенная зверем тропа направилась к покосам, завели трактор и поехали по ней.
Медведь по очереди завернул к трем стоящим на старой вырубке стогам, под одним даже немного покопался, затем направился к ручью. Кровь из порезанных лап почти не выступает. Только в том месте, где медведь перебирался через ручей и проломил лед, она густо выкрасила весь закроек.
Я оставил Емца возле трактора, а сам перебрался на другой берег и пошел к землянке. Сережка порывался идти вместе со мною, но у нас только одна пара лыж, без них он будет только мешать. Дверь землянки зияет черным провалом. На подходе стишаю шаги, внимательно прислушиваюсь к каждому шороху и во все глаза смотрю вокруг. Все бы хорошо, но на оттепель снег так распелся под лыжами, что, наверное, слышно на всю тайгу.
Вот впереди какой-то след. Росомаха! Нет, две. Снова та же пара. Шли след в след, и ямка от культи почти неприметна. Росомахи проследовали за медведем совсем немного и свернули к полоске запорошенного снегом ольховника. Медведь же направился прямо в землянку.
Я хотел было бежать за Емцем, но вдруг увидел новый след. Снова прошел медведь, только теперь в обратном от землянки направлении. Этот след совершенно свежий, прямо парной. Ночью была небольшая пороша, она легла везде тонким налетом, на медвежьем же наброде ни пылинки. Поддеваю отпечаток медвежьей лапы рукавицей и пробую приподнять, но тот разваливается на куски. Зверь прошел часа два тому назад, примятый им снег не успел даже схватиться.
Обхожу землянку по широкому кругу, удостоверяюсь, что никого в ней нет, и, сняв лыжи, не без опаски переступаю порог. Сорванная дверь валяется на полу, за оставшимися от петель гвоздями клочья бурой шерсти. Кричу: «Эге-ге-ей! Живой кто есть?» и, затаив дыхание, прислушиваюсь, затем начинаю осторожно спускаться в землянку. Там пустыня. Стол, нары, скамейки разломаны в щепу. Везде клочья ваты, тряпки, перья. В углу у самого окна лужа крови. Ее очень много: разлилась по доскам, залила щели, застыла на плинтусах. В нее вмерзли клочья шерсти, мелкие щепки, клочья ваты. Всего какую-то минуту рассматриваю все это, затем мне вдруг становится до невозможности муторно и я почти бегом выскакиваю наружу.
Значит, вчера, когда я направлялся к землянке, медведь был здесь. Если бы я не занялся росомахами, мог влететь голодному и злому зверю в лапы.
Свинья и брехун этот Емец! Трепался, что два сезона работал штатным охотником, сам же медвежий след не отличит от росомашьего. Наверное, за это его из охотников и поперли.
Чакая стальными гусеницами, подминая под себя то кустик ольховника, то молодую лиственничку, наш трактор катит по снежной целине. Чего бы это ни стоило, нужно догнать и убить медведя. Сейчас декабрь, все нормальные медведи давно сосут лапы в своих берлогах, а этот — шатун. Не дай бог, наткнется где-нибудь на человека. В прошлом году такой же вот зверь явился на лесоучасток и напал на лесорубов. Подняли на ноги всех охотников, дня три над тайгой летали на вертолете и только через неделю убили. Интересно, что, расправившись с лесорубами, медведь ушел километров за сто в глубь тайги, потом вернулся назад и его настигли рядом с лесоучастком.
Мы с Емцем долго ломали головы, но ничего лучшего придумать не смогли. У нас одно ружье, и к нему всего лишь два пулевых патрона. К тому же трактор в любую минуту может засесть в какой-нибудь канаве или провалиться в болото. Угробим машину, а до совхоза километров сто тридцать. Попробуй добежать. В то же время откладывать никак нельзя. Шатун есть шатун — страшнее его в тайге ничего не бывает. Отыскали старый аккумулятор, отлили из его свинцовых пластин десяток пуль, и Сережка заунывным голосом провозгласил:
— У нас как в Чикаго: в воскресенье соревнование любителей ходить по карнизам, в среду похороны победителей. Поехали, что ли?
Оставив землянку, медведь пересек ольховниковую гриву и направился вдоль заросшего чахлыми лиственничками болота. Одну за другой вспугнули две стаи глухарок. К зиме глухари разделяются. Петухи держатся в одних стаях, глухарки — в других. Первые — черные, здоровенные, вторые — серые и раза в два мельче. Если кто не знает, ни за что не поверит, что и те, и другие, возможно, даже вылетели из одного и того же гнезда.
Глухарки доверчивей петухов, садятся на деревья метрах в двадцати от нас и улетать не торопятся. Сережка хватается за ружье и принимается уверять меня, что сейчас медведю на всякую стрельбу наплевать, и вообще, он уже далеко отсюда — ничего не видит и не слышит.
Меня же занимает совсем иное. Впереди нас по медвежьим следам идут две росомахи. Это все та же пара, что кружила около землянки. Что им от медведя нужно? Может, надеются, что косолапый добудет какую-нибудь поживу и им перепадет с медвежьего стола? А может, ходят следом и ждут, когда сам добытчик протянет ноги? Вот уж действительно — санитары! Бедный мишка. Холод, голод, лапы изрезаны в кровь, а здесь еще эти попутчики.
Росомахи, и вправду, не отходят от медвежьего следа ни на шаг. Вот он потоптался у похожего на морскую звезду выворотня — росомахи тоже потоптались, заглянул под гривку высокоствольных лиственниц — и они следом.
Сразу за болотом началась такая густая тайга, что напрямую трактору не пробиться. Пришлось искать объезд. Проехали с полкилометра и снова остановка. На этот раз уперлись в глубокую лощину. В половодье здесь бежал ручей, навалил гору деревьев, и не то что на тракторе, пешком перебраться трудно.
Посоветовавшись, выбрались из кабины и отправились искать удобное для переправы место. Снег под деревьями неглубокий, к тому же довольно плотный, без лыж идти даже лучше. Я снял их, прислонил к лиственнице и, ступая в следы Емца, поторопился за ним.
Впереди росомашья тропа. На этот раз прошла одна росомаха. Та, у которой целы все лапы. Тропа спускается в лощину по крутому откосу и исчезает под кучей вырванных с корнями лиственниц.
Пока я ее рассматривал, Емец с ружьем в руках ушел далеко вперед, теперь обернулся и машет рукой. На его лице восторг. Кажется, там что-то случилось. Спотыкаясь, бегу к нему и замираю рядом. Под нами совершенно чистое от кустов и деревьев дно лощины. Лишь одинокая лиственница маячит на склоне да кое-где из-под снега выглядывают большие серые камни. Снег в лощине выбит донельзя, везде клочья шерсти, пятна крови, какие-то ямы. У корней лиственницы лежит обрывок чьей-то шкуры.
Выхватываю у Сережки ружье и стреляю вдоль лощины. Звери часто затаиваются возле своей добычи и набрасываются на всякого, кто посмеет к ней подойти. А то, что на дне лощины кто-то кого-то убил, — ни у меня, ни у Сережки не вызывает сомнения. Тотчас со стоящего неподалеку дерева взлетают два больших черных ворона. Сидели совсем рядом, а мы не заметили. И смотрели-то, кажется, во все глаза.
После меня, целясь воронам вслед, стреляет Сережка, потом снова я. Все тихо, лишь издали доносится гнусавый крик напуганных воронов. Никакой засады, конечно, нет. Оставляю Сережку с ружьем сторожить меня, а сам спускаюсь в лощину.
Погиб медведь. Под лиственницей большой кусок его шкуры и хребет из семи позвонков. Больше ничего, кроме клочьев шерсти и пятен крови, нет. Вверх и вниз по лощине разбегаются росомашьи тропы. Я насчитал их больше десяти. Где-то в конце их спрятаны останки медведя. Вот это прыть! Каких-то четыре-пять часов тому назад этот медведь брел по тайге, а сейчас от него почти ничего не осталось.
Росомахи действовали вдвоем. Наверное, они сторожили этого медведя не один день, потому-то и кружили у землянки. Теперь вот настигли.
Сережка взялся было искать спрятанное мясо, чтобы отведать медвежьего окорока, но я отговорил. Наверняка, медведь был болен, иначе давно бы спал в своей берлоге. Мы еще немного побродили по лощине, затем возвратились к вагончикам и через час укатили в Лиственничное.
Сережка переночевал у меня и на рассвете потащил набитые Шуригиным добром сани в совхоз. Я проводил его до самой наледи, возвращаясь, завернул к реке и сразу же обнаружил следы Роски. Она подошла к Лиственничному со стороны Фатумы, по льду перебралась на этот берег, съела приготовленный для нее кусок рыбы и, оставив у тропы желтую отметку, возвратилась назад.
Я долго вертелся вокруг ее следов, пытаясь определить, не их ли видел на Сокжоевых покосах? Но ни к какому выводу не пришел. Может, я неважный следопыт, а может, и вправду следы всех нормальных росомах похожи между собой.
Возвратившись в избушку, послушал «Спидолу», затем подхватился и начал укладывать рюкзак. Чего это я на самом деле? Здесь такой случай, а я лодыря праздную. Прямо сейчас отправлюсь Роскиным следом и все разведаю. Если на Сокжоевых покосах была она, то к самой лощине и выведет. К вечеру запросто буду там, переночую в вагончике, а утром сюда. В случае чего скажу Шуриге, что ходил проверять стога. Он сам наказывал заглядывать почаще, а то дикие олени за ползимы оставят от них одни остожья.
Уложил продукты, фонарик, топорик, свечи. Проверил, в кармане ли спички. Кажется, все нормально, можно идти.
Придерживаясь Роскиного следа, по льду перешел Фатуму и заскользил вдоль берега. Роска шла спокойно, почти нигде не останавливаясь. Не дойдя до дороги, на которой хорошо виднелись следы нашего трактора, она остановилась, чуть потопталась на месте и направилась параллельно ей. Местами след приближался к дороге чуть ли не вплотную, но даже на обочину она не ступила ни разу.
С каждой минутой я утверждаюсь в мысли, что моя Роска и та росомаха — один и тот же зверь. Но в то же время растет и недоумение. Зачем ей было идти за моими подачками в такую даль, если у нее в лощине спрятан целый медведь? Странно и непонятно. И еще: почему она не водит за собой ту, хромую? Не доверяет мне? А может, ей?
У сучковатой валежины развел костер, вскипятил чай, поджарил на огне кусочки сала. Когда завтракал, вдруг подумалось, что теперь и Роска будет тоже заворачивать к валежине. И это кострище тоже станет для нас общим.
Наконец впереди показалась лиственничная грива. Сразу за нею и будет та лощина. С каждым шагом тайга все гуще, деревья в ней все выше. Везде на ветках снежные комки. Словно это рассевшиеся на отдых белые куропатки. По стволам лиственниц зашуршал неугомонный поползень, где-то закричали дятел, желна, и тотчас над головой пронеслась стайка чечеток.
В тайге птицы живут островками. В каком-то километре отсюда я не встретил и единой, здесь же их сколько угодно.
Скоро в Роскину тропу вплелись два новых следа. Один принадлежит лисице, другой росомахе. Росомаха знакомая. Это та, хромая. А откуда лисица? Хотя почему же? Ведь у коптильни мы с Емцем видели точно такие следы. И там, среди отпечатков лап медведя и росомахи, прошлась аккуратная лисья лапка. Тогда я подумал, что лисица там оказалась случайно. Оказывается, на самом деле все далеко не так просто.
Минут через пятнадцать звериная тропа привела меня к лощине, чуть выше того места, где погиб медведь. Хотя хорошо знаю, что его давно нет в живых, и даже видел остатки медвежьей шкуры, но все равно на душе зябко. Стараясь ступать как можно тише, приближаюсь к обрыву и заглядываю на дно лощины. Медвежья шкура и позвонок исчезли, словно их никогда здесь и не было. Только клочки бурой шерсти шевелятся на легком ветру.
Мое внимание привлекает возня собравшихся на лиственнице синичек. Перевожу туда взгляд и сразу же замечаю застрявший между веток крупный ком. Чуть выше еще один. Могу спорить на что угодно, всего этого позавчера там еще не было. Мы-то с Сережкой Емцем осмотрели вокруг каждый сучок.
Спускаюсь в лощину, подхожу к дереву вплотную и ясно вижу, что на ветках лежит медвежья голова. Рядом с нею кусок мяса раза в два больше этой головы.
Наверное, в тот раз росомахи прятали свою добычу от воронов и, естественно, лучшего места, чем пустоты под поваленными деревьями, найти не могли. Но явилась лисица и поставила росомах перед сложной проблемой. На земле их припасами может полакомиться лисица, на деревьях вороны. Но у патрикеевны-то аппетит куда больше, вот они из двух зол и выбрали меньшее.
С половины зимы сено стали возить тракторами. Прицепят к трактору сани, навалят целый стог сена и везут в совхоз. Обычно в такой рейс отправляли три-четыре трактора. Кроме трактористов и грузчиков с ними выезжали и совхозные охотники. Это же здорово — прокатиться в теплой кабине за сотню километров в глубь тайги! По дороге погоняют глухарей, куропаток, а там, глядишь, поднимут лося или табунок оленей.
Сначала сено выбирали с ближних покосов, но вот подошла очередь Сокжоевых и вся эта армия нагрянула ко мне в Лиственничное. За день до этого приезжал Шурига и предупредил меня, что в Родниковом распадке вышла наледь, вот-вот перекроет дорогу, и из-за нее мне недели две-три придется позагорать в одиночестве.
Я поужинал и перед тем, как забраться в постель, вышел на улицу посмотреть погоду. К ночи мороз усилился. Предвещая ясный день, на небе высыпали крупные зеленые звезды. Млечный путь протянулся через все небо и ушел куда-то за сопки. Раскаленный пятидесятиградусным морозом снег излучал матовое сияние. Облитые этим сиянием закостенелые лиственницы жались к стылой земле, и мне было жаль их. Не верилось, что в этой почти космической стыни есть что-нибудь живое. Молчит когда-то шумливая тайга, спрятались под снежное одеяло кусты кедрового стланика, ушла под ледяной панцирь звонкоголосая Фатума. Извивающееся среди тальников русло реки кажется широкой дорогой, и наоборот — дорога сейчас донельзя похожа на небольшую речку.
Над тайгой плывет тишина. Только изредка потрескивают, я бы сказал, даже покрякивают, деревья, да в глубине избушки о чем-то поет транзистор.
Неожиданно слышу какой-то рокот. Кажется, вездеход. Недавно сюда заезжали охотники из Магадана. У них две лицензии на лосей. Я напоил охотников чаем, пригласил переночевать и вообще встретил по всем правилам таежного гостеприимства. Но на вопрос, есть ли где-нибудь неподалеку лоси, схитрил. Сказал, что раньше здесь бродили лось, лосиха и малыш-лосенок, но на прошлой неделе их обстреляли приезжавшие за сеном шоферы и напуганные звери куда-то ушли. Я, мол, только вчера обследовал почти всю долину и не встретил ни одного свежего наброда. На самом деле лосей никто не трогал и они всей семьей держатся километрах в пяти от Лиственничного. Там у них лежка на лежке. Я даже удивляюсь, как они могут прокормиться на таком островке?
Вездеходчики посетовали, что теперь им придется пробиваться к самой Буюнде, и укатили. Сейчас, наверное, возвращаются.
Шум мотора на какое-то время стих, затем взорвался мощно и властно. Нет, это не вездеходчики. Скорее всего работает трактор, да к тому же не один. За сеном едут. Может, наледь отступила или Шурига нашел объезд.
Тороплюсь в избушку. Нужно ставить на огонь все три чайника, растапливать печку в бригадирской. Всем прибывшим в моем жилье не разместиться.
Минут через двадцать у реки появляется цепочка огней. Набрасываю куртку и тороплюсь навстречу. Все-таки я здесь хозяин, и долг вежливости требует встретить гостей у ворот. Трактора, пощелкивая разболтанными траками, проплывают мимо меня и заворачивают в Лиственничное. За каждым трактором широкие и длинные сани.
Пропустив последний трактор, какое-то время стою и смотрю на опустевшую дорогу, затем возвращаюсь в избушку. Там полно людей. Одни скромно жмутся у порога и глядят на все удивленными глазами. Это новички, и таежное житье-бытье им в диковинку. Другие ведут себя более чем уверенно. Тот подкладывает в печку дрова, тот разливает по кружкам чай. Высокий горбоносый парень успел снять валенки, забраться с ногами на мою кровать и роется в объемистой сумке, извлекая из нее различные припасы. На столе — гора всевозможной снеди: вареные куры, колбаса, сало, три каравая белого хлеба.
Под низким потолком плавают клубы табачного дыма. Все курят. Даже горевшая до этого вполне сносно керосиновая лампа отчаянно коптит.
На дровах возле печки — груда убитых куропаток. На взъерошенных перьях мазки крови. Длинный парень с высоты моей кровати и своего роста первым замечает меня:
— О, начальник явился! Давай к столу. Сейчас перекусим с дороги, а потом уху из куропаток заделаем. Самая вкусная уха из петуха. Вы даже не можете себе представить, до чего уважаю дичь!
Здесь он настораживается, а рыскающая в сумке рука замирает. Горбоносый медленно поворачивается к возившемуся с чайником трактористу:
— Константин, ты чего-нибудь соображаешь? Правильно говорят, если человек идиот, то это надолго. Как ты мог положить патроны вместе с продуктами? — Горбоносый извлекает из сумки четыре патрона в ярко-красной обертке и выставляет их на стол. — Из-за тебя я без такой шикарной шапки остался. Представляешь мое горе, начальник? — Это уже ко мне. — Выныриваем из ложка, и прямо перед нами росомаха. Стоит, как специально, ждет, значит. Я за ружье, а там дробь-пятерка. Мы перед этим куропаток гоняли, ну патроны с мелкой дробью в стволах и остались. Я за патронташ, а там пусто. Хорошо помню, что перед самым выездом сюда четыре патрона волчьей картечью зарядил, ищу-ищу, а найти не могу. Оказывается, этот артист их в сумку с продуктами спрятал. Я весь патронташ по патрону перебираю, а она стоит. Здесь из заднего трактора бегут: «Чего стали?» Она заволновалась, и на ход. Я ее дробью вжарил, а ей такой заряд как пшено. Даже шаг не прибавила.
— Стреляли где? — спрашиваю длинного.
— Да не так далеко. Сейчас за поворотом на Родниковое. Уже темнеть начинало, я даже мушки толком не видел. А что, знакомая?
Киваю головой и тут же спрашиваю:
— Вы ее не ранили?
Тот, что с чайником, пожимает плечами:
— Да кто там ее знает? Я хотел посмотреть, сунулся в снег, а там по шею. Ей-то что? У нее лапы, как лыжи. Раз, раз и подалась.
Мне бы на следующее же утро сгонять к Родниковому и пройтись по росомашьему следу, но я должен был сопровождать трактора на покосы и руководить погрузкой. С другой стороны, что я мог сделать для Роски? Если ее даже ранили, к ней не подступиться. Это же росомаха, а не какой-то там зайчонок.
Наконец, покачиваясь на выбоинах, последний стог уплыл следом за трактором, и я вздохнул свободнее. Торопливо собрал рюкзак и заторопился к Родниковому. Можно было бы подъехать на тракторе, но не хотелось объясняться с трактористами. К тому же боялся, вдруг подумают, что отправился искать чужую добычу. По неписаным охотничьим законам добытый зверь или птица принадлежат тому, кто их ранил, и всякий пожадничавший на чужого подранка рискует оказаться в положении вора. Сразу за Лиственничным встретил стадо оленей. Четыре важенки, бык и тонконогий, очень резвый олененок. Стадом руководила крупная белесая важенка с небольшими аккуратными рожками. Раньше я думал, что вожаком у оленей может быть только сильный опытный буюн, что победил в турнирах всех своих соперников. Оказывается, эту роль чаще всего выполняет старая важенка. Она выбирает пастбище, распределяет места, когда нужно пробивать тропу через снежные сугробы, следит за порядком в стаде. С непокорными она расправляется очень даже просто — бьет рогами. Наверное, ей трудно было бы справиться с крупными поднаторевшими в драках быками, если бы о важенке не позаботилась сама природа. В октябре у буюнов отваливаются рога, и быки ходят комолыми до самой весны. Важенки же носят рога всю зиму. Удивляюсь, почему это олень-самец оказался среди оленух? Обычно на зиму самцы сбиваются в бычьи табуны и держатся в них до самой весны…
Олени вышли на дорогу собирать сено. Раньше у нас коровам заготавливали сено только из диких трав: вейника, пушицы, осоки. Но в прошлом году мелиораторы осушили и раскорчевали большое болото. Теперь на рукотворном поле растут овес и всякие бобы. Конечно, вызревать они не успевают, слишком уж коротко колымское лето, а вот сено получается отличное.
Оленям оно тоже пришлось по вкусу. Теперь они охотятся за каждым оброненным с саней стебельком.
Заметив меня, олени сбились в кучу и застыли с высоко поднятыми головами. Я тоже остановился. Ветер тянул в правую щеку, так что услышать мой запах они не могли. Вот белесая важенка отделилась от табунка, сделала несколько шагов мне навстречу, затем круто развернулась и в один прыжок оказалась далеко за обочиной. Следом бросились все олени…
Место, где горбоносый стрелял в Роску, я нашел легко. На спуске в Родниковое простирающаяся рядом с дорогой снежная целина вспахана глубокой бороздой. Это выпрыгнувший из трактора Константин лез по снегу, проваливаясь в него, наверное, по самую шею. Но надолго духу у него не хватило. За пропаханной им канавой угадывается легкий росомаший след. Надеваю лыжи и выбираюсь на целину. Теперь вижу, что Роскиных следов два. Неглубокий и частый ведет к дороге, и рядом с ним размашистый, убегающего от смертельной опасности зверя. Там, где следы пересекаются, снег исполосован узкими канавками. Эти прочерки оставили вылетевшие из ружейного ствола дробинки. Опустившись на колени, подбираю несколько светло-коричневых шерстинок. Крови нигде не видно. Но вот эти шерстинки утверждают, что выстрел достиг цели.
Сначала росомаха уходила от дороги почти по прямой линии, затем повернула к Родниковому. В тальниках она на какое-то время залегла. Краснеющие вокруг лежки тальниковые веточки хранят следы зубов. С какой стати Роска кусала тальник? Может, ее жгли засевшие в теле дробинки? А это что? Кровь! Почти в центре ложбинки пятно пропитанного кровью снега. Ночью была небольшая пороша, поэтому-то эту кровь я заметил не сразу. Ковыряю ножом снег, нужно узнать, как много крови потеряла Роска. Он пропитан сантиметров на пять, а может, и больше. Многовато.
— Бедная Росочка, тебе очень больно? За что они тебя так?
Поднявшись с лежки, росомаха направилась прямо к разлившейся по долине наледи. Мороз за сорок, и над выступающей из-подо льда водой поднимаются клубы пара. Словно вода и в самом деле горячая.
Там, где прошла Роска, снег уплотнился, пропитался водой и застыл, теперь я могу легко проследить ее путь через долину. Даже по наледи она шла строго по прямой линии. Зачем она туда направилась? Может, хотела отделить себя от охотников водной преградой, а может, там у нее есть логово и она надеется отлежаться.
За наледью долина упирается в крутую заросшую чахлыми лиственничками сопку. У самого ее ската что-то темнеет. Может, это Роска? А если и вправду она? Мороз-то нешуточный, а она ранена. Прилегла отдохнуть и застыла. Как же туда пробиться? Везде гуляет вода, а на мне валенки.
В книгах часто описывают способ, при помощи которого можно ходить в валенках прямо по воде. Для этого советуют на какое-то мгновенье окунуть валенки в реку, затем выставить их на мороз. Сейчас же на валенках образуется не пропускающая никакой воды ледяная корка. Надевай замороженные валенки и хоть всю зиму гуляй в них по болотам и рекам. Только нельзя заносить в тепло, иначе лед растает и придется морозить обувь сначала…
Теоретически выходит здорово, а на самом деле… Во-первых, какой бы толстой ни была ледяная корка, а в воде она растает за четверть часа. Во-вторых, ходить в таких валенках — настоящая пытка, напоминающая инквизиторский «испанский сапог». Я ходил. Однажды зимой, когда до избушки оставалось не больше двух километров, провалился в гнилой ручей. Все правильно, сразу же образовалась ледяная корка и больше никакая вода к ногам не доходила. Но сами валенки закостенели и превратились в… Короче, это расстояние я покорял часа два, а на второй день ходил по избушке, как матрос по качающейся палубе, потому что растянул связки на обеих ногах.
Стою у дымящейся наледи и, напрягая зрение, стараюсь разглядеть, что же темнеет под сопкой? Нет, отсюда ничего не видно, нужно перебираться на другую сторону… Неподалеку от наледи отыскиваю поваленную сучковатую лиственницу и разжигаю под ее корнями костер. Здесь же очищаю небольшую площадку и выстилаю ее мелкими веточками. Лыжи оставлю у лиственницы, к наледи можно пробраться и пешком.
Еще раз оглядываюсь на полыхающий костер и ступаю в воду. У берега чуть выше щиколоток. Кое-где вода успела покрыться тонким льдом. Он гнется, стреляет мириадами трещин, но держится неплохо. Уже с полпути вижу, что под сопкой не Роска, а самый обыкновенный камень, с которого ветром согнало весь снег. Но все равно продолжаю идти. Нужно же узнать, куда подевалась моя Роска.
Наконец берег. Отыскиваю место, где она обкусывала прикипевшие к лапам кусочки льда. На снегу шерстинки и пятнышко крови. Стараюсь внушить себе, что рана не опасная, к тому же крови не так и много.
Поднявшись, росомаха направилась к вершине сопки. С крутых ее склонов недавно сошло две лавины. Может, даже одну из них разбудила моя Роска, потому что ее след проходит как раз по кромке обрушившегося вниз снега. Лезть вверх опасно, да мне и не забраться. Валенки взялись льдом, а здесь такая крутизна, что можно запросто загреметь вниз.
Возвращаюсь к костру, разуваюсь и принимаюсь сушиться…
Через пару часов я уже шагал по дороге, которой увезли в совхоз сено. Тракторы, и правда, сумели обогнуть Родниковое стороной, но и по новой дороге уже гуляет наледь. Так что скоро мне гостей ждать не приходится. Разве что заглянут возвращающиеся с Буюнды охотники.
До вечера просидел в избушке. Читал книжку и поглядывал на тропинку, что тянется вдоль Фатумы. Казалось, еще миг — и на ней появится моя Роска. Даже когда наступили сумерки, не стал зажигать лампу, а пристроился у окна и принялся смотреть на улицу. Луна взошла над тайгой большая и яркая. До самого крыльца протянулась тень корявой лиственницы. Каждая ее веточка четко обозначилась на снегу. Только сейчас обратил внимание, до чего же их много! Словно на снег бросили грубую, густую сеть.
Иногда между окном и луной проплывает облачко идущего из трубы дыма. Тогда по стеклу пробегает тень, словно кто-то заслоняет его рукой. Сейчас все происходящее за окном кажется каким-то нереальным. Как будто там совсем другой мир. В этом мире можно представить что угодно. Гуляющего с вместительным лукошком косолапого медведя, бегущую в гости к бабушке Красную Шапочку, хрустальные сани, на которых Снежная королева мчит в свое королевство. Наверное, все красивые и добрые сказки рождаются в такие вот лунные вечера.
Я ожидал Роску до полуночи, потом лег спать, а утром собрался и ушел к Сокжоевым покосам. Метель давно замела мою лыжню, и легче было бы идти дорогой, но мне почему-то казалось, что там я пропущу что-то очень для себя важное. Снова, как и в тот раз, сделал привал у сучковатой валежины. Помню, тогда я подумал, что теперь Роска всякий раз будет останавливаться у этого места. Тогда я оставил здесь кусочек поджаренного сала. Ни сала, ни веточки, на которую я его нанизывал, у кострища не оказалось. Побывала здесь Роска или какой-нибудь другой зверь — сказать трудно. Но и в этот раз я оставил у валежины немного своего обеда.
В лощине пусто. Нигде ни одного следа. Мне даже показалось, что все случилось совсем в другом месте. Не было следов и около землянки. Только на покосах весь снег истроплен дикими оленями. Возле остожьев осталось немного сена, вот олени его и подбирали.
Интересно, куда девалась хромая росомаха? Погибла или ушла в поисках другого, более тихого места? А может, она сейчас возле Роски? Звери как-то угадывают настроение друг друга на расстоянии. В человеке когда-то все это тоже жило и теперь проявляется только в исключительных случаях. Мама рассказывала, во время войны одной женщине из соседней деревни приснился сон, что ее муж лежит в госпитале в Новосибирске.
И город, значит, приснился, и госпиталь этот. Та продала корову, оставила детей на соседей и поехала в город, о котором раньше знала только понаслышке. Приехала, идет по городу и узнает дома. Видит госпиталь. Заходит и говорит: «Здесь, в крайней по коридору палате, у окна лежит мой муж». Проверили. Точно. Есть такой, и кровать у самого окна.
Так это люди, а у зверей это проявляется куда сильнее. Может, даже сейчас Роска чувствует, как я тревожусь за нее, и ей от этого немного лучше.
Нет, не нужно мне было ее прикармливать. Даже наоборот — пугнул бы хорошенько, чтобы не ждала от людей ничего хорошего. Глядишь, жила бы себе спокойно.
Возвращался в Лиственничное поздно вечером. Луна только-только всходила, и поселок едва просматривался на фоне заиндевевшей тайги. Почему-то с нетерпением жду, когда покажется дорога, что ведет от Лиственничного к совхозу. Она должна подсказать, побывал ли кто-нибудь у меня в гостях за эти два дня.
Наконец дорога. Даже в потемках вижу, что мою лыжню не пересекает ни один след. Ну и славно. Я, конечно, оставлял записку, но все равно неудобно. Люди приедут, а я в бегах.
Прислонив лыжи к глухой стене, стряхнул снег с куртки и подхожу к крыльцу. Дверь открыта настежь. Вот это новость! Неужели я забыл ее прикрыть? Теперь избушка так настыла, что придется отогревать до полуночи. Переступив порог, наклоняюсь сбросить рюкзак, и в то же мгновенье почти у самых ног раздается глухое рычание. Собака! Кто-то из охотников заявился таки в Лиственничное и поселился в моей избушке. Так где же он, и почему в избушке такая стынь? А может, собака приблудная? Трактористы рассказывали, какой-то мотоциклист потерял возле трассы свою собаку. Ехал с ней на охоту, остановился что-то подправить в мотоцикле, а собака тем временем убежала. Он ждал ее часа три и, не дождавшись, укатил. Теперь эта собака бродит по тайге и никого к себе не подпускает.
Выпростав руку из-под лямки рюкзака, отступаю к двери и пытаюсь достать спички. Это движение почему-то не понравилось моей гостье. Она зарычала и, показалось, щелкнула клыками. Взбесилась, что ли? Забраться в чужой дом и бросаться на хозяина!
«Палкой бы тебя по башке!» — сердито думаю я, но на всякий случай выскакиваю на порог и прикрываю поплотнее дверь.
Что делать? Нужно посмотреть следы. Может, и на самом деле пришла сюда с хозяином, а он на время отлучился. Зажигаю спичку и от неожиданности чуть не приседаю. На свежей пороше четко проступают, разлапистые росомашьи следы.
Роска! Точно, она!
Каким образом она очутилась в моей избушке? Одну за другой жгу спички, внимательно просматриваю след, стараясь рассмотреть, нет ли на нем крови. Отпечатки чистые. Росомаха шла довольно спокойно. Только слишком уж часто останавливалась. Сделает пять-шесть шагов и остановится. Может, ей было трудно двигаться, а может, просто боялась. Ничего удивительного, как-никак шла-то к человеческому жилью.
Сначала я решил покрепче запереть дверь и прикрыть окно доской. Короче, сделать все, чтобы росомаха не могла сбежать. Это у меня сработала жилка собственника. Нет, не в том смысле, что за шкуру росомахи в любую минуту можно получить двести рублей и еще спасибо скажут. Просто все это время во мне жило хотение иметь собственную росомаху. И вдруг она здесь, совсем рядом. Захочу — никуда не выпущу. Вот это хотение и сработало.
Но уже через минуту сообразил, что ничего предпринимать не нужно. Росомаха появилась здесь не от великой радости. Раненый зверь не смог добыть еду и пришел туда, где получал ее раньше. Я же, отправляясь на Сокжоевы покосы, совершенно выпустил из виду такую возможность и не оставил ей в обычном месте и крошки. Поэтому-то росомахе и пришлось забраться в избушку.
Пользоваться ее несчастьем подло. Тем более, сам виноват, приучив ее доверять людям. Вот она и попала под выстрел. Нужно оставить пока все как есть, а самому дней несколько пожить в бригадирской. Там аж четыре кровати. Выбирай любую. Правда, продукты остались у росомахи, и самое обидное — это то, что замерзли лук и картошка. Но ничего, сахара и чая у меня в рюкзаке дня на два. Может, что-нибудь откопаю в Шуригиной кладовке. А там, глядишь, подъедет и сам бригадир.
Ночью несколько раз просыпался и выходил на улицу. Луна поднялась высоко над сопками и залила все ярким светом. Если прищурить глаза, кажется, что светит солнце.
Стараясь не скрипеть валенками, на цыпочках обходил свою избушку и, удостоверившись, что росомаха все еще спит, возвращался в бригадирскую. Получалось неважно. С того времени, когда в нее стрелял горбоносый, прошло больше пяти дней. На протяжении этого времени Роска вряд ли поела хоть один раз. А ведь к тому еще она потеряла много крови.
Свои продукты я держу в ведре и небольших мешочках. Все это подвешено к потолку избушки, в которой сейчас сидит росомаха. Прятать таким способом еду меня вынудили поселившиеся в Лиственничном полевки. Уходя на Сокжоевы покосы, я закопал лук и картошку в свою постель и прикрыл все сверху тулупом. Там же спрятал и буханку хлеба. Вообще-то хлеб я держу в соседней избушке. В ней так же холодно, как и под открытым небом, и замороженный хлеб можно хранить всю зиму. Потом стоит его подержать над горячей печкой и он снова совершенно свежий, словно только что испеченный. В этой избушке у меня буханок двадцать.
Но росомаху хлебом не насытишь. Чего доброго, Роска погибнет от голода. Необходимо что-то предпринимать. Но что? Попробовать проникнуть в избушку? Или взять ружье да поохотиться на куропаток? А что, если порыбачить? Шурига рассказывал, что в прошлом году косари часто удили рыбу на Соловьевских озерах. Там неплохо клевали щуки и налимы. Иногда попадались и приличные хариусы. Мне не приходилось бывать на самих озерах, но рядом с ними небольшой покос и я несколько раз сопровождал туда машины.
Утро начал с того, что приготовил табличку со следующей надписью: «Внимание! В моей избушке живет раненая росомаха. Просьба ее не тревожить, а ожидать меня в бригадирской». Прямо среди дороги соорудил треногу и повесил на нее это объявление. Для гарантии здесь же устроил что-то напоминающее шлагбаум. Теперь уж точно никто, не прочитав, не проскочит.
На завтрак у меня четыре ложки рыбьего жира, сколько угодно хлеба и чай. С полчаса прокопался в кладовке, но все тщетно. Есть папиросы, лавровый лист, даже корица и пакетик с укропом, а вот чего-нибудь более или менее калорийного нет ничего. Отогреваю над печкой буханку хлеба, обильно поливаю ее рыбьим жиром и отправляюсь к росомахе. Прикрытая вчера вечером дверь осталась в том же положении. Стою, прижав ухо к мешковине, и стараюсь угадать, что делается в избушке. За дверью ни звука. Словно там вообще никого нет. А может, росомаха уже мертвая? Нет, скорее всего затаилась.
Заинтересовавшись моим поведением, синицы и поползень уселись на ближней иве и внимательно следят за каждым движением. Время от времени поползень коротко, словно отдавая команду, цивикает. Тогда одна из синиц срывается с ветки, выписывает над моей головой пируэт и возвращается на иву.
«Наверное, ждут представления, — подумал я. — Сейчас открою дверь, а она на меня. Глядишь, одним приручителем росомах станет меньше».
Хорошо бы заглянуть в окно. Но оно замерзло изнутри, и все попытки продуть хоть маленький глазок ни к чему не приводят. Придется открывать дверь. Не кинулась же она на меня ночью. А ведь тогда я стоял совсем рядом и ничуть не осторожничал.
Держась обеими руками за ручку двери, приоткрываю избушку, чтобы образовалась небольшая щель. У порога росомахи нет. Вижу печку, топор, консервную банку, в которую я набираю солярки, когда плохо разгораются дрова. Может, росомахи уже нет совсем? Делаю щель пошире. Теперь видны угол кровати и выглядывающие из-под нее сапоги-болотки. Ага, вот и она! Приподняв голову, лежит в дальнем углу и смотрит в мою сторону. Хорошо видно только морду и выставленные вперед толстые лапы. Они у нее черные как смоль.
— Ну здравствуй, Росочка! Что это с тобой? — тихо говорю ей. — Не бойся, пожалуйста. Ты же умница. Ну чего ты?
Она приподняла верхнюю губу и негромко рычит. Это даже не угроза, а чуть слышно вырывающийся из горла клекот.
— Да не злись, не злись, — упрашиваю ее. — Сейчас я тебя накормлю, а вечером принесу рыбки. Что у тебя болит? Ну чего ты сердишься? Видишь, руки у меня пустые.
От моего движения росомаха вздрагивает и начинает подниматься. Быстро захлопнув дверь, приваливаюсь к ней плечом. Нужно взять длинную палку и подсунуть хлеб под кровать. Только нельзя делать резких движений. Лучше всего пристроить буханку на лыжу. Нет, лыжа коротковата. А если снять с крыши лиственничное удилище? Оно-то будет в самый раз.
Теперь открываю дверь смелее. Росомаха на прежнем месте. Лежит и все так же настороженно глядит на меня. Накалываю хлеб на удилище и осторожно подталкиваю к росомахе. Она приподнялась, рычанье стало громче, уши прижались так, что я их совсем не вижу.
— Ничего, злись себе на здоровье. Прыгнуть на меня тебе не даст кровать, а пока ты выберешься из-под нее, я успею сто раз захлопнуть дверь.
Ну вот, как будто достаточно. Хлеб почти касается росомашьей лапы.
— Ешь, голубушка. Если хватает силы рычать — значит, не все потеряно. Теперь жди меня до вечера, да не вздумай удрать.
Часа через два, нагрузившись топором, ломом и лопатой, я отправился к Соловьевским озерам. Хотел было идти туда по реке, но за первой же излучиной чуть не влетел в наледь и пришлось выбираться на берег.
И почти сразу же повезло — наткнулся на заросли красной смородины. Крупные рубиновые кисти висели на ветках, словно виноградные гроздья. Я от жадности хотел съесть целую гроздь да так и застыл с открытым ртом. Смородина до того настыла, что буквально прикипела к языку и больно ожгла его. Недолго думая, достал из рюкзака приготовленную под рыбу сумку и за полчаса наполнил ее почти доверху.
Никак не могу понять этих птиц. Сколько чудесной смородины, а они облетают ее стороной. То ли не понимают вкуса, то ли тоже боятся обжечь язык.
Оставляю сумку с ягодами на лыжне и тороплюсь дальше. Пусть лежит, буду возвращаться и захвачу.
Снег в тайге совсем не тот, что на реке. Там лыжи скользят, почти не проваливаясь, здесь же они ныряют чуть ли не до колен. Зато проложенная под защитой деревьев лыжня продержится до самой весны, а на реке день-два — и задуло.
Несколько раз пересекаю заросшие ольховником широкие лощины. Когда-то здесь жили рябчики, но косари выбили их начисто. Вот уже несколько лет никто не встречал и единого.
Огибаю выросшую на опушке толстую сучковатую лиственницу, и вдруг у самых ног взрывается снежный вихрь. Иссиня-черный глухарь вырывается из глубокой лунки, пролетает десяток метров и садится на первый попавшийся сук. Спросонья он никак не может сообразить, кто же его потревожил, и испуганно вертит головой. Наконец замечает меня, произносит хриплое «кок-кок» и с грохотом уносится в заснеженную чащу. К оставленной глухарем лунке тянется широкий след-наброд. Мне говорили, что перед сном глухарь долго летает над тайгой, потом с разлету падает в снег и, пробив его своим телом чуть ли не до самой земли, остается там до утра. Это, мол, он для того делает, чтобы не нашли лиса или соболь. Сейчас по следам вижу, что все произошло совсем иначе. Глухарь гулял здесь вчера очень долго. Ходил себе от кустика к кустику и щипал почки. А пришло время спать, тут же закопался в снег и на боковую.
За очередной ольховниковой гривой передо мною открылось большое озеро. Сейчас оно напоминает занесенное снегом поле. Даже не верится, что не так давно здесь плескалась рыба, на волнах плавали утки, в прибрежных зарослях возились и пели птицы. Сейчас все голо и мертво. Одни улетели в теплые края, другие уснули до весны, третьи спрятались под лед или одеяло пушистого снега.
По неглубокому ложку угадываю исток озера, на глазок отмеряю от берега метров пятнадцать и принимаюсь расчищать площадку под лунку. Снега на озере совсем мало. То ли его унесло ветром, то ли забрала наледь. Открывшийся под ним лед пупырчатый и мутный, словно воду перед тем, как заморозить, хорошенько взмутили. Снег укладываю валиком. Сейчас тихо, но в любую минуту может подняться ветер и тогда за снежной стенкой будет хороший затишек.
Площадка готова, можно рубить лунку. Стараюсь это делать так, чтобы отскакивающие льдинки не попадали в лицо. Сразу же на стук топора явились две нахохлившиеся кукши. Они устроились на ближних ветках и с любопытством наблюдают за мной. Сейчас кукшам в тайге голодно. Летом они подвизались у косарей, теперь вспомнили, что там, где останавливаются люди, почти всегда можно чем-нибудь поживиться. Поэтому-то сидят и терпеливо ждут. Но у меня с собой всего лишь с десяток полузамороженных короедов, да и те самому нужны для наживки. Пусть потерпят, если рыбалка получится удачной, обязательно поделюсь и с ними.
Даже на таком морозе работать топором жарко. Пришлось сбросить куртку и остаться в одном свитере. Уже минут через пять на длинных шерстинках осел густой иней, и я весь как бы поседел.
Наконец после очередного удара топор провалился в воду, и она с журчанием заполняет лунку. В какое-то мгновенье мне показалось, что сейчас вода выплеснется наружу и затопит весь лед. Я с опаской отступил к снежному валику, не хватало еще промочить ноги. Но нет. Не дойдя какого-то сантиметра до верхней кромки льда, вода успокоилась. Теперь в ход идет лом. Нужно расширить лунку. Отколотые льдинки всплывают одна за одной, и я тут же вылавливаю их рукой. Пальцы сводит от холода, но иного выхода у меня нет.
Больше всего меня сейчас интересует, какая глубина озера в этом месте? Мне бы метра полтора. Можно чуть больше.
На очень малой, как и на очень большой глубине, рыба клюет хуже.
Все готово, можно рыбачить. Достаю из рюкзака зимнюю удочку и наживляю согретого под свитером короеда. Пока возился со снастью, вода успела схватиться ледком. Пробиваю его носком валенка, и вот сверкающая мормышка вместе с наживкой исчезает в лунке.
Минут пятнадцать безрезультатно играю мормышкой. Вверх-вниз, вверх-вниз. На леску накипели бусинки льда. Я протянул было руку, чтобы снять их, но в это время сторожок моей снасти качнулся и скоро на льду запрыгал хариусок в палец величиной. Летом я обязательно отправил бы его в воду, нагуливать вес, но сейчас рад и такой добыче.
Торопливо наживляю второго короеда и снова забрасываю удочку. Вдруг там этих хариусов целая стая? Бывает так — не клюет, не клюет, а потом как навалятся, только успевай снимать с крючка.
Но это, наверное, был отбившийся от коллектива хариус-одиночка. Как я ни старался, больше поклевок не было. У меня начали застывать спина и ноги. Еще немного порыбачу и разведу костер. Почти машинально покачиваю удочкой, а сам шарю глазами по берегу. Нужно где-то найти сушняку. Вдруг сильный рывок вырвал из закоченевших пальцев снасть и она со звоном ударилась о лед. Подхватываю удочку, торопливо вытаскиваю мормышку. Она цела, короед тоже на месте. Даже шевелит челюстями.
Укладываюсь на живот, прикрываю голову курткой и заглядываю под лед. Сначала ничего не видно. Но вот глаза привыкли и я могу рассмотреть даже лежащие на дне камушки. Неожиданно их закрывает большая рыбина. Щука! Подплыла к лунке и застыла. Дремлет, что ли? Все так же лежа на льду, опускаю мормышку в воду и начинаю поигрывать ею прямо перед щучьей мордой. Та опасливо отодвигается в сторону, но уходить совсем не собирается. Что же делать? Короедом ее не соблазнишь. Ей бы живца или хотя бы блесну. Но ни того, ни другого у меня нет. Хариусов тоже ждать нечего. Когда у лунки такой страж, ни одному хариусу к приманке не прорваться. Так что на сегодня вся рыбалка закончилась.
Пока я так раздумывал, с противоположной стороны к лунке подплыла еще одна щука и тоже с любопытством уставилась на мормышку. Это развлечение им, вроде цирка. Ну обождите, разбойницы, я вам устрою представление!
Но представление придется отложить. Сейчас три часа ночи, мне что-то нездоровится. Вчера на морозе форсил в одном свитере, а сейчас всего ломает и никак не могу согреться. Наложил полную печку дров, сходил проведать Роску, теперь сижу, завернувшись в тулуп, и шью вентерь. Попробую поставить его в заводи, может, попадется пяток гольянов. Они мне нужны для щук.
Роска лежит все на том же месте. От хлеба не осталось и крошки. Это уже неплохо. Но ведь ей нужна вода. Вчера, возвратившись с Соловьевских озер, я подтолкнул ей ком снега. Сейчас сижу и соображаю, как напоить ее по-настоящему?
Неожиданно в голову приходит испугавшая меня мысль:
— А ведь Роска может замерзнуть! Шуба у нее, конечно, теплая, но мороз-то какой! И она все время без движения.
Мамочка моя, вот это положеньице! Сколько времени мечтал о собственной росомахе, теперь она у меня под кроватью, а я отсиживаюсь кто его знает где и не могу зайти в собственный дом. Мало того, что оба больны и голодны, она меня не пускает к лекарству. Аптечка с таблетками и порошками чуть ли не у нее над головой.
А вдруг росомаха и вправду замерзнет? Однажды собака знакомого охотника попала в поставленный им же капкан. Он думал, что она убежала в поселок, и не стал искать. Когда возвратился домой и понял, в чем дело, — было поздно. Попадавшие в его капканы соболи, лисицы и горностаи замерзали в течение одной ночи. С того времени, как пропала собака, минуло четверо суток. Переживал он, конечно, сильно, но в таком деле слезами горю не поможешь. Придется охотиться без собаки.
Через день пошел охотник проверять капканы, а его собака жива-живехонька. Оказывается, попав лапой в капкан, она не вырывалась, а сразу же выкопала в снегу глубокую яму и отсиживалась в ней до прихода хозяина. Да не просто отсиживалась. Все это время она, как могла, согревала зажатую в железные тиски лапу. Когда охотник выручил ее из капкана, она не могла даже двигаться, до того замерзла. Пришлось ему свою собаку до самого дома гнать палкой. Жалко ее было, прямо плакать хотелось, а приходилось гнать, иначе бы погибла.
Но ведь собака сидела в снегу, а куда спрятаться Роске? К шуту этот вентерь! Нужно как-то проникнуть в избушку. Вдруг Шурига, на помощь которого я так рассчитываю, не явится сюда еще неделю. Но, с другой стороны, как это сделать? С росомахой шутки плохи. Цапнет так, только держись. Мне бы такой костюм, как тот, в каких тренируют собак на границе. Наденут его на солдата — и никакая овчарка не страшна. Вот в нем бы я действовал смело.
А если пошить самому? Пожертвовать ватное одеяло — и дело с концом. Нет, одеяло она прокусит насквозь. Лучше матрац. Возьму пару штук, сошью из них балахон с дырками для рук и головы. В таком одеянии мне и тигр не страшен. Но как быть с головой и руками? На руки я еще что-нибудь приспособлю, а на голову? Хоть ведро надевай, наподобие пса-рыцаря.
Решился и сразу стало легче. Даже знобит не так. Прежде всего нужно будет растопить возле росомахи печку. Приготовлю дров и только заберусь в избушку, осторожненько натолкаю их в печку. Разжигать их буду свечой, чтобы лишний раз не греметь рядом с Роской спичечным коробком. А свечу зажгу еще за порогом. Потом уже горящую занесу в избушку и суну под дрова…
Если кто не видел живого марсианина — спешите посмотреть. Я наряжен в кафтан из двух полосатых матрацев, голову прикрывает жестяной колпак, лицо спрятано под проволочное забрало. Точно такое я видел на вратаре канадской хоккейной команды. Вот только с рукавами вышла промашка. Испортил две фуфайки, но ничего не получилось. Пришлось рукава упразднить и минут десять тренироваться прятать руки в вырезы кафтана. Получается как будто неплохо. В крайнем случае буду работать одной правой. Одну руку спрятать быстрее.
Кажется, все готово. Дрова сложены у двери, там же стоит зажженная свеча. Все лишнее убрано с дороги, снег у крыльца посыпан золой. Это чтобы не поскользнуться, если придется удирать.
Читающий эти строки благодушно улыбнется: «Вот это нагородил! Яснее-ясного, что ничего с ним не случилось. Если бы случилось, тогда бы этих записей не было. Не напишет же он: «Она повалила меня на снег и съела». Все правильно, но почитайте-ка привезенную Шуригой книжку: «…движимая постоянной внутренней яростью, росомаха с абсолютным бесстрашием бросается на лося и, вцепившись зубами в холку, висит на нем, пока не загрызет насмерть. Даже попав в бурную реку, когда самой росомахе угрожает смертельная опасность, она не отпускает добычу». Вот видите, она в единоборстве с лосем выходит победительницей.
А кто мне скажет, как у росомах получилось с тем медведем? Ведь дрался он не на жизнь, а на смерть, и все равно они его победили. Теперь приравняйте этих зверей и меня. После такого — слепленный из двух протертых матрацев кафтан покажется тоньше папиросной бумаги.
Росомаха лежит, свернувшись клубком и прикрыв нос хвостом. Точно так отдыхает какая-нибудь дворняга, расположившись у крыльца хозяйского дома. На скрип двери она вздрагивает, но не поднимается. Даже головой не шевельнула. Словно мое появление ее не интересует. Матрацы затрудняют движения. Короткими семенящими шажками продвигаюсь к печке и принимаюсь заталкивать в нее дрова. Все делаю наощупь. По памяти, так сказать. Ни на мгновенье не отвожу глаз от росомахи. Почему она так себя ведет? Раненый медведь может притворяться мертвым до тех пор, пока с него не начнут снимать шкуру. Потом подхватывается и начинает драть самих охотников. Может, и росомаха ждет, когда я подойду к ней совсем близко. Все так же с оглядкой возвращаюсь за свечой, и вот она уже в печке. Пусть дрова разгораются, а мне предстоит самое трудное — подобраться, к столу и снять из-под потолка ведро и сумки с продуктами. Иду еле-еле. Сделаю шаг-другой и останавливаюсь. Нет, здесь что-то не то. Зачем я вот так пру напролом? А если она и в самом деле поджидает удобного момента? Еще шаг — и она бросится.
Отступаю к порогу, вытаскиваю руку из-под матраца, бью кулаком в стену и одновременно кричу:
— Роска! Алло, подъем!
Росомаха вскидывается, ударяет головой о низ кровати и грозно рычит. Но и ее движения, и рык слишком уж вялы. Мне кажется, она даже не открывает глаза. Да, точно, сидит с закрытыми глазами. Что с нею?
Посидев так с минуту, росомаха опускается на пол, широко зевает и начинает укладываться спать. Снова ее тело сворачивается калачиком, хвост ложится на голову и грозный зверь превращается в обыкновенную лохматую дворнягу.
Ой-йоюшки! Да она же замерзает! Я здесь праздную перед ней труса, а она, может быть, доживает последние минуты.
— Не спи, Роска! Слышишь, не нужно спать.
Росомаха, конечно, слышит меня, потому что лежащий под кроватью клубок отзывается рычанием на каждый мой звук, на каждое мое движение. Но она так застыла, что даже не хочет, вернее, не может поднять голову.
Снимаю с гвоздей ведро, сумки с крупами, макаронами и порошками, осторожно выношу все за дверь. Теперь веду себя смелее, к тому же появился опыт работы в этом одеянии. Если бы не ощущающаяся во всем теле слабость, можно было бы действовать еще четче.
У Шуриги есть любимая пословица. К месту и не к месту он любит говорить: «Хорошая мысля приходит опосля». Наверное, так и у меня. Заметив, что дрова в печке прогорают, набираю охапку побольше и уже приготовился заносить в избушку, как вдруг меня осенило: «Ну отогрею росомаху, а потом что? Сейчас она так застыла, что ей не до меня. Отогреется же — в избушку мне не зайти. Придется все начинать сначала». Насколько позволяет кафтан, бегу в бригадирскую, там переворачиваю одну из кроватей и сбиваю с нее спинки. Одна сетка есть. В коридоре висит бухта тонкой проволоки. Слабовата, но другую искать некогда. Привяжу сетку к кровати, под которой сидит Роска, и тогда она мне не страшна…
Сижу в бригадирской и пью чай. Руки дрожат и совершенно не ощущаю, сладкий ли чай, хотя высыпал в кружку две горсти сахара. Росомаха спит под кроватью, отгорожена кроватными сетками. Пока я возился с ними, она несколько раз подхватывалась, угрожающе рычала, но вскоре снова ложилась на пол. Я закрепил сетки проволокой, обставил их толстыми лиственничными чурками и сейчас жду, когда избушка выгреется по-настоящему. Роска лежит в дальнем углу, и тепло туда дойдет не скоро. Прежде всего нужно сварить болтушку и накормить росомаху, потом отправлюсь ставить на гольянов вентерь. А завтра с утра пораньше на рыбалку. Хорошо бы клюнула та щука, что вырвала из моих рук удочку.
На меня нашло озарение. Гениальные мысли рождаются одна за другой. Чего это я буду рыбачить на морозе под открытым небом? В хозяйстве Шуриги штук пять палаток, печки, трубы и вообще все, что захочешь: Да с этим оснащением я прямо среди озера отгрохаю такую дачу, все щуки с перепугу всплывут вверх животами. Мне бы только добыть гольянов.
У берега заводь покрылась толстым льдом, но середина замерзать и не собирается. Испытывая валенком лед на прочность, осторожно продвигаюсь поближе к открытой воде. До нее осталось метра три, лед под ногами трещит и прогибается. Дальше уже опасно. Толкаю к промоине шест с привязанным к нему вентерем, и наконец моя снасть исчезает в воде. Изнутри вентерь вымазан тестом, это самая лучшая приманка для гольянов. Тревожит одно: а вдруг они давным-давно переселились в Фатуму? Поздней осенью мы вдвоем с Шуригой ловили здесь раненого кулика, тогда этих рыбок было много. Сейчас что-то не видно…
Забыв о простуде, до вечера носился по Лиственничному, как угорелый. Зато переделал кучу дел. Уложил в рюкзак палатку и железные колышки к ней. Раздобыл два куска войлока. Хватит и под себя подстелить, и утеплить палатку. Печку решил нести вторым заходом. Здесь недалеко. К обеду переправлю все на озеро и примусь за рыбалку.
Поминутно бегаю в избушку проведать Роску. Она совсем ожила. Съела полведра болтушки, отогрелась и рычит так, словно не я здесь хозяин, а она. Никак не могу определить, куда же ее ранили? Как будто не хромает и крови не видно. Может, рана на правом боку, но тем боком Роска ко мне не поворачивалась. Да и много ли разглядишь под кроватью? Я растворил в болтушке две таблетки тетрациклина. Говорят, животных нужно лечить тем же лекарством, что и людей.
Кажется, все готово. Сейчас схожу к заводи, проверю вентерь и спать…
Намоченный в воде шест примерз к ледяной кромке так прочно, что, отрывая его, я чуть не наделал беды. Наконец из заводи показался сшитый из двух накомарников вентерь. С волнением прислушиваюсь, не застучат ли по его стенкам проворные гольяны? Кажется, есть. Один, два… шесть, нет, семь штук. Не густо, но и на этом спасибо. Пересаживаю рыбок в пятилитровую банку, какое-то время любуюсь, как они тычутся острыми носиками в стекло, и почти бегом отправляюсь в бригадирскую. Завтра будет отличная рыбалка.
…Не успело солнце окрасить в бледно-розовый цвет вершины заснеженных сопок, а я уже у Соловьевских озер. Сбросил возле замерзшей лунки рюкзак, немного отдохнул и назад. Кукши словно ожидали меня все это время. Лишь я ступил на озеро — они тут как тут. Сидят и дуются друг на дружку. Интересно, как они поделили подаренного мною хариуса? Все-таки нужно было разрезать его на две равные половинки. Тогда никому не было бы обидно.
Глухарь опять ночевал у толстой лиственницы. В каком-то метре от прежней лунки выкопал новую и завалился спать. На этот раз он услышал меня загодя. Высунул голову из-под снега, посмотрел, кто это там идет, и только потом улетел. Я сказал ему: «Здравствуй!». Поздоровался я и с кукшами.
У меня всегда так. Если долго не вижу людей, начинаю разговаривать с кем попало. С птицами, костром, избушкой и даже рюкзаком. Вот оставил его на озере и говорю:
— Лежи спокойно. Я скоро вернусь. А вы — это уже кукшам — смотрите за ним хорошенько.
Кукшам такое доверие понравилось, и они принялись посвистывать тонкими голосами. Наверное, им в тайге тоже скучновато…
Я сотворил большую глупость. Бегу к озеру по лыжне, в руках банка с гольянами, за спиной печка с трубой. Банку-то я завернул в остатки фуфайки, но что буду делать потом? Лунка промерзла насквозь, мне придется прорубать ее сначала, а это затянется на полчаса, если не больше. За такое время вода в банке превратится в лед и гольяны погибнут. А мне-то нужен живец.
Может, развести костер и поставить банку у огня? Нет, не то. Как в таком случае работать? Только я к лунке, а банка недогреется или перегреется. Глядишь, вместо наживки получится уха. А ведь можно было еще дома сделать из консервной банки садок да к тому же первым заходом прорубить лунку. Опустил садок в воду — и никаких проблем.
Сегодня ночью вдоль лыжни гулял соболь. Несколько раз он выскакивал на накатанный лыжами снег, но скоро снова заворачивал на целину. По пути он проверил все валежины, зачем-то поднимался к оставленному то ли кедровкой, то ли кукшей гнезду, подолгу кружил у ольховников.
Не добежав сотни метров до глухариной спальни, он свернул в сторону, и больше его следов я не встречал. Все-таки глухарь не такой и дурак. Нужно же было угадать для ночевки такое место, от которого соболь отвернет! Пройди соболь еще немного, и глухарю несдобровать.
Выскакиваю на озеро и сейчас же к банке. Внутри ее образовалась толстая ледяная корка, но гольяны плавают, как ни в чем не бывало. Рядом с лункой устанавливаю печку, закрепляю трубу, и вскоре из нее повалил густой дым. Как-то непривычно смотреть на дымящую среди озера печку. Словно я по щучьему велению приехал на ней порыбачить.
На небольшие чурочки пристраиваю на углу печки банку с гольянами и не спеша принимаюсь за работу…
С ума можно сойти! Да ведь этого не может быть! Сижу в палатке на куске войлока, под войлоком мягко пружинит постель из веток кедрового стланика, рядом исходит теплом печка, а на ней шипит чайник. Стланик успел оттаять, и пахнет, как в сосновом лесу. Можно рыбачить, пить чай, спать и вообще делать что душе угодно. Самое же удивительное, что затененная палаткой вода приобрела необыкновенную прозрачность. Я сейчас не то что камешки, песчинки на дне озера могу сосчитать.
Наживляю гольяна на крючок и отправляю в лунку. Рыбка, плавая, носит на себе крючок, следом описывает круги леска. Во все глаза смотрю под лед. Вот-вот появится щука. Но вместо нее возле гольяна высыпает стайка хариусов и принимается изучать невиданную доселе рыбку с красным животом.
Торопливо настраиваю вторую удочку, и вот рядом с гольяном заиграла мормышка. Хариусы дружно бросаются к ней, и вскоре самый проворный из стайки переселяется в банку. За ним поймался другой, затем третий. Хариусы небольшие, их с успехом можно использовать как живцов. Более того, для здешних щук эта добыча привычней. Любопытно, что попавшегося на крючок хариуса вся стайка сопровождает до самой поверхности. Поднимутся и так компанией на какое-то время застынут, словно раздумывают, куда же он подевался.
Когда вытаскивал пятого хариуса, сопровождающая его стайка неожиданно исчезла. Я даже не заметил, куда подевался незадачливый эскорт. Наклоняюсь заглянуть подальше под лед и вижу зависшую под ним щуку. Она внимательно глядит на живца, но хватать его почему-то не торопится. Делаю вид, что хочу вытащить гольяна из воды, и подтягиваю леску на половину длины. Это словно будит жадную щуку. Она стремглав бросается на живца и через мгновенье оказывается на льду.
Вторую щуку пришлось ждать совсем мало. Вернее, я не ждал ее совсем. Только живец прошел нижнюю кромку льда, как сразу же на него бросилась двухкилограммовая щука и я чуть не порезал пальцы леской.
Нет, такого не бывает! Десять живцов, десять щук. И каждая больше килограмма. Толстоспинные, остроносые, они лежат возле лунки и лениво шлепают хвостами. Куда нам столько? Вот уж Роска обрадуется. Это тебе не похлебка из нескольких горстей муки.
В банке плавают два последних хариуса. Нужно оставить их на завтра. А новых живцов я принесу в другой посудине. Этого добра в Шуригиной кладовке сколько угодно.
Завязываю банку носовым платком, привязываю к ней шнур и опускаю в лунку. Пусть подождет до следующей рыбалки. Только бы не перерубить потом шнур. А может, прикрытая палаткой лунка замерзнет не так сильно.
У двух уснувших щук я отрезал хвосты и положил их возле палатки. Это для кукш. Наверное, крутятся где-то неподалеку и ждут рыбки.
Пора уходить. Поплотнее прикрываю печку, надеваю заметно потяжелевший рюкзак и бросаю последний взгляд в щедрую лунку. То, что я там увидел, поразило меня не меньше, чем появление Роски под моей кроватью. Возле стоявшей на дне озера банки, тыкаясь мордами в прозрачное стекло, плавали две щуки.
Они то отходили немного в сторону, то подплывали к самой банке. Наверное, у сидящих там хариусов от такого соседства душа уходила в пятки, вернее, в хвост.
Была у меня в детстве знакомая девочка, Клавка. Жила она в Зеленой казарме — крашенном зеленой краской бараке, в трех километрах от деревни. Родители Клавки работали путевыми обходчиками. Были они много зажиточней деревенских. И зарплата не то что в колхозе, и хозяйство: корова, лошадь, гуси, куры. Есть где скотину пасти, есть где травы накосить. Я давал Клавке списывать уроки, за это она делилась со мною пшеничным хлебом.
С виду эта девочка ничем не отличалась от остальных ребят — худая, курносая, долговязая. Таких девочек в нашей школе было сколько угодно. И вот эта Клавка знала СЛОВО. Мы росли настоящими безбожниками. Никто из нашей ребячьей ватаги не верил ни в бога ни в черта, а вот в СЛОВО верили. Да и как не верить? Клавка могла спокойно пересечь дорогу идущему впереди стада бодучему быку Чемберлену, достать закатившийся к самой конуре Рябчика мяч, пересчитать все гвозди в Орликовых подковах. Подойдет к стоящему у коновязи жеребцу, возьмет его ногу в ладони и спокойно так:
— Орлик, ногу! Ну выше, выше!
Тот ногу и поднимет, а она в каждый гвоздь пальцем:
— Один, два, три… — словно бы делает важное дело. А жеребец, которого и цыгане купить побоялись, стоит как шелковый.
Когда Клавке было пять лет, она играла с волком. После войны их развелось у нас много. То корову зарежут, то козу среди белого дня уведут вместе с веревкой. А в соседней деревне они разорвали женщину. Шла на ночной поезд, они ее возле лесополосы и настигли…
Ни братьев, ни сестер у Клавки не было, а бегать к деревенским ребятам не близко. Вот она и дружила с конем и коровой. Однажды возвращаются отец с матерью с обхода, а их дочь играет во дворе с большой собакой. Прицепила ей на шею выкроенный из обрывков старого платья бант, теперь пытается завязать на голове свой платок. А та стоит себе и щурит глаза.
Мать ничего не поняла. Ну играет дочка с собакой и ладно. Вот только за платок отругать нужно. Такой холод, а она из одежды игрушку сделала. Долго ли простыть?
Отец же вдруг осекся на полуслове, побледнел и ни с места. Ему уже приходилось встречаться с волками, поэтому сразу понял, с кем играет его дочь.
А волк, как только увидел взрослых, голову из клавкиного платка осторожно высвободил и наутек. Так с бантом и убежал. С тех пор и пошел у нас слух, что зверь не тронул девочку неспроста. СЛОВО, мол, знает.
Больше людей с таким даром мне встречать не доводилось. Но вот сегодня…
Проснулся в два часа ночи. Подложил дров, выглянул на минутку за порог, теперь не могу уснуть. Тревожит Роска. Слишком уж неважно она выглядит. На правом боку вздулась большая шишка. То ли нарыв, то ли что другое. Роска непрерывно лижет это место, и рыжая шерсть слиплась от слюны. Говорят, слюна у зверей целебная, но что-то моей росомахе помогает плохо. А здесь еще кончился тетрациклин. Правда, в аптечке у меня сколько угодно всяких лекарств, есть даже слабительное и мозольная жидкость, но вот от каких болезней применять остальные таблетки — даже не представляю. Роска совсем заскучала и почти не обращает на меня внимания. Правда, от щук не отказывается. Съест рыбину, похлебает воды и лежит.
Если бы лето! Можно было бы выпустить ее на волю, и она сама отыскала бы целебную траву. А сейчас в тайге для нее верная гибель…
Где-то высоко над сопками, словно запутавшаяся в паутине муха, заныл самолет. Через полчаса он приземлится в Магадане. Там совсем другой мир. Все залито ярким электрическим светом, люди покупают журналы, газеты, жуют бутерброды, пьют кофе, толпятся у регистрационных стоек. А некоторые развалились в креслах и смотрят телевизор. Хотя, какой среди ночи телевизор? Скорее бы уже приезжал Шурига, а то совсем скисну. Вчера бегал к Родниковому. Наледь отступать и не собирается. На противоположном берегу хорошо видны свежие следы от трактора. Кто-то приезжал из совхоза на разведку, но перебраться не сумел и возвратился назад…
…Вечером, стрекоча гусеницами, из-за поворота вынырнула длинная приземистая машина. Не сбавив скорости, она завернула в Лиственничное, подкатила к бригадирской избушке и, обдав все вокруг снежной пылью, остановилась.
Первым из кабины выбирается Сергей. На нем белая куртка и обшитая куском простыни шапка. Ему лет тридцать, но он уже опытный таежник. Восемь лет Сергей работает геологом здесь, на Севере, и, конечно же, в тайге чувствует себя, как дома. В прошлый раз он учил меня с помощью бутылки из-под шампанского ловить куропаток. Выдавишь, мол, бутылкой ямку в снегу, бросишь туда несколько ягод брусники, куропатка полезет за этим лакомством, а выбраться обратно уже не сможет. Я не пробовал, но вообще-то в объяснении Сергея все звучало вполне правдоподобно.
Он сразу же интересуется, найдется ли у меня ведро бензина, и, услышав утвердительный ответ, кричит сидящим в кабине:
— Глушите! Приехали! Я же говорил, будем с бензином.
Суечусь у вездехода и вообще веду себя, как самый последний подхалим. То придержу дверцу, то приму ящик с продуктами, то, заискивающе улыбаясь, тороплю гостей в избушку. Таким гостеприимным сделала меня тайга. А может, я такой от роду? Хотя нет, от роду почти все одинаковы, это уже потом жизнь переделывает каждого на свой лад. Нас у родителей шестеро: две сестры и четыре брата. Жили мы открыто, и люди тянулись к нам со всей деревни. Все были нам рады, и мы встречали всех приветливо. Как-то решили семьей сходить в школу на елку. Оделись, вышли из дому, а дверь запереть нечем. Нет замка! Принялись вспоминать. Оказывается, мы еще в прошлом году одолжили его соседям. Получается, наш дом не запирался больше года.
В последний отпуск я поехал к сестре в гости. Она теперь живет в большом городе. Поднялся на пятый этаж, звоню. Что-то там, в квартире, хлопнуло — и тишина. Наконец звякнул ключ в одном замке, затем в другом и дверь открылась. Оказывается, все это время сестра рассматривала меня в дверной глазок.
Поехал к брату, и у него в двери глазок блестит. Так я брату, значит, одной рукой звоню, а другой в эту стекляшку показываю фигу. Обидно мне и сердито от всего этого.
Теперь попробуйте представить живущего в таежной глуши человека, что любуется на гостей через проделанную в двери дырку. Ни за что не получится. И после этого мне утверждают, что человек в тайге дичает! Да, кстати, как-то в одном городке я наткнулся на сбитого машиной человека и, вполне естественно, побежал сообщить об этом в милицию. Пробую открыть дверь, она закрыта на крючок, а из-за двери дежурный милиционер спрашивает: «Кто там?»…
Вскоре из вездехода выбрались и Сергеевы попутчики — Демьяныч и Степаныч. Это так кличет их Сергей. Демьяныч старше всех. Он уже давно на пенсии. Голова у Демьяныча совсем седая, усы же черные как смоль. Я даже присматривался, не крашеные ли? Он в этой троице за повара. Степаныч — водитель вездехода и главный охотник. Цепляясь патронташами и ружьями, он долго протискивался в узкую дверцу, а, спустившись, принялся всматриваться в меня, словно я мог быть объектом его охоты. Перед тем как подать руку, Степаныч достал очки, тщательно протер и, только нацепив их на нос, поздоровался.
Когда-то мне нравилась поговорка «Мясо недожарь, рыбу пережарь». Поскитавшись по северу, я заменил ее более удобной: «Горячее сырым не бывает». А сейчас сижу и спокойнехонько употребляю совершенно сырую рыбу. Дело в том, что мои гости не сумели добыть лося, зато хорошо порыбачили. Отыскали яму, куда собрались на зимовку хариусы, и наловили их полный ящик.
Демьяныч выпросил у меня томатной пасты, уксусу, красного перцу, перемешал все это с какими-то едучими корешками и крепко посолил. Получилось такое блюдо, что его забоялись бы и мексиканцы. Затем он достал из ящика несколько замороженных хариусов, настрогал из них холмик тонких пластинок и пригласил нас к столу.
Я выбрал самый маленький ломтик, макнул его в экзотический соус и не без опаски отправил в рот… Эту еду нельзя сравнить ни с чем! Прохладная, нежная, ароматная! К тому же из знакомых мне рыб только хариус да еще корюшка пахнут свежим огурцом.
После ужина все вместе отправились смотреть Роску. Заслышав приближение людей, она заметалась в своей загородке, раз за разом ударяясь о низ кровати. Я подал голос, Роска остановилась и принялась тихо рычать. Освещенные лучом фонарика, ее глаза мерцали в темноте избушки, как два огонька. Степаныч с Сережкой присели у порога и уставились на диковинного зверя. Демьяныч подошел к самой сетке, провел по ней ладонью и спросил:
— Слушай, а это не медвежонок? Я думал, росомаха как хорь или соболь, только покрупнее. А это настоящий медвежонок. И цвет, и морда, и уши.
Роска метнулась к сетке и царапнула по ней зубами.
— Ты чего? — наклонился к ней Демьяныч. — Я тебя чем-то обидел, да? Как тебе не стыдно? Разве вот так гостей встречают?!
В голосе этого черноусого деда звучало такое неподдельное огорчение, словно его и на самом деле очень крепко обидели.
— Да разве мы тебе враги? Погляди-ка, руки у нас пустые, и ничего плохого мы тебе не сделаем. Ну, что здесь у тебя случилось, приболела, что ли? Чего там у нас болит? Этот дурак теплую шапку иметь пожелал. Вот мы ему зададим! Да разве можно из-за какой-то шапки лишать жизни такую умную зверину? Ведь сообразила же ты, к кому идти за помощью. И правильно сделала. Ты хорошая-хорошая, славная-славная, и мы тебя очень любим. Ну ложись, ложись. Тебе же больно стоять. Ложись, а?
Он разговаривал с Роской так, будто она могла понять каждое его слово. Голос Демьяныча то тишился до шепота, то звучал довольно громко. И странное дело, Роска вдруг широко зевнула и принялась укладываться возле сетки.
— Вот и ладненько, вот и хорошо! — не прекращая увещевать зверя, Демьяныч сдвинул в сторону лиственничные чурки и приподнял сетку. — Сейчас мы тебя посмотрим, где оно у нас болит? Лежи, лежи! Ты же самая сладкая, самая красивая, самая умная. И шерстка гладкая, и ушки круглые…
Рука Демьяныча коснулась загривка росомахи и заскользила вдоль спины:
— Ой, милая ты моя, до чего же худющая! Он тебя не кормит, что ли? Как же можно обижать такую славную киску?
Росомаха несколько раз вздрагивала, тихонько рычала, но никакой попытки освободиться от руки человека не делала.
Наконец Демьяныч поставил сетку на место и кивком головы показал на дверь. За порогом он захватил в руку горсть снега, растер между ладонями, потом сказал:
— Пусть отдыхает. Завтра по солнышку что-нибудь придумаем. А зверина она славная. Ты ее и на самом деле корми получше.
…Проснулся я поздно. Солнце успело подняться над сопками, и в избушке было донельзя светло и уютно. Мои гости уже поднялись и успели убрать за собою постели. С улицы доносилось звяканье металла о металл. Наверное, там ладили вездеход.
Скрипнула дверь, в избушку вошел Демьяныч. Он поставил у порога какую-то коробку и принялся мыть руки. Мылся он тщательно. Неторопливо тер ладонь о ладонь, до тех пор пока на кистях рук не повисли гроздья пены. Демьяныч сбивал их водой и снова брался за мыло. Наконец он отошел от умывальника, поискал, чем бы вытереть руки, и только теперь заметил, что я лежу с открытыми глазами.
— А, хозяин! Не дали тебе гости поспать. Прими-ка на память. — Он стряхнул с пальцев капельки воды, взял из стоящей у порога коробки свернутый из газеты фунтик и подал мне. — Если этот придурок еще раз заявится к тебе с ружьем, побей ему его пукалку на голове. Моей рукой побей!
В фунтике лежали три темные дробинки. Одна из них сплющена. Я непонимающе уставился на Демьяныча:
— Так вы…
— Да-да, конечно, — улыбнулся в усы Демьяныч. — Она у тебя молодец. Правда, пришлось надеть ошейник, если надумаешь ее отпустить, не забудь снять. В лесу зверю эта цацка ни к чему. Давай, поднимайся, а то хлопцы скоро завтрак потребуют. Да и ее покормить не помешало бы. Я ей обещал, еще обидится…
Как только вездеход скрылся за поворотом, я прихватил лопату и отправился расчищать снег у мастерской. Настроение отвратительное. Виновата, конечно, Роска.
Если Демьяныч принял в ее судьбе полное участие, то Сергей и Степаныч отнеслись к моей возне с росомахой довольно прохладно. Все куньи не отличаются приятным запахом, а росомахи в особенности. Больше всего выделяется его, когда зверь волнуется. А моя Роска ранена да к тому же живет под кроватью самого страшного своего врага — человека. И, конечно же, ничего удивительного в том, что моя избушка, да, наверное, и я сам, основательно пропитались этим ароматом. Мне показалось, что приехавшие с Буюнды охотники все время старались держаться подальше от меня, а Сергей, так тот даже спросил, не кормлю ли я росомаху из той же посуды, которую выставил на стол.
Но это не особо меня волнует. Приехали и уехали. А вот когда явится Шурига — сразу же поднимет крик, что я превратил в конюшню все Лиственничное, и выставит меня вместе с росомахой за порог.
Возле мастерской я еще с осени видел большой кусок проволочной сетки. Если обтянуть ею часть площадки под навесом, можно поселить там Роску. Под навесом, конечно, холоднее, но я набросаю туда сена или сооружу какую-нибудь берлогу, и тогда никакой мороз ей не страшен. К тому же дело к весне и Роска чувствует себя намного лучше.
С полчаса ковырял землю возле мастерской, но ничего не вышло. Трактора вдавили своими гусеницами сетку в грязь, та замерзла, и выручить ее не было никакой возможности. Все кончилось тем, что я махнул на свою затею рукой и решил обшить навес досками. То, что загородка получится не очень надежной, не страшно. Если у Роски хватит силы разрушить ее — пусть убегает на здоровье. Значит, сумеет отстоять себя и на воле.
Одно плохо — слишком рано уехали вездеходчики. С Демьянычем мы спокойно переправили бы Роску под навес, одному же мне с этим делом справиться куда труднее. Хоть снова надевай на себя кафтан из матрацев.
К обеду обшил навес досками и даже сделал небольшую калитку. Сначала доски подгонял плотно, потом решил, что между ними обязательно нужно оставлять просветы. Роска наверняка соскучилась по тайге, а из-за моей загородки она только небо и увидит. Конечно, через щели будет дуть ветер, но это даже хорошо. По нему ведь тоже можно соскучиться. Помню, я четыре месяца пролежал в больнице и впервые вышел на прогулку. Больше всего я обрадовался тогда не солнцу, траве или там птицам, а ветру. Расстегнул все пуговицы, подставляю лицо, ловлю его ртом и никак не могу натешиться.
Под жилье Роске я решил соорудить что-то наподобие собачьей конуры. Утеплю изнутри матрацами, вход оставлю самый маленький, лишь бы она могла протиснуться.
Я уже успел прибить к доскам две рейки, на которые должна была лечь крыша Роскиной конуры, как вдруг вспомнил о ящике из-под механической косилки. В прошлом году нам привезли косилку, предназначенную для работы на кочкарнике. На ящик употребили тщательно проструганные дубовые доски, саму же косилку даже смазать толком не смогли, и совершенно новая машина покрылась слоем ржавчины. Шурига распорядился привести косилку в божеский вид, я вытащил ее из ящика да так и оставил среди мастерской. Там работы не на один час, а в мастерской нет печки и все время стоит такой холод, что пальцы прикипают к железу.
А что, если устроить жилье для Роски из этого ящика? В нем же переправлю ее под навес. Главное, чтобы ящик протиснулся в мою избушку, иначе мне Роску в него не заманить.
Недолго думая, пристроил ящик на лыжи и потащил к избушке. Все нормально. Если поставить боком, проходит даже с небольшим запасом. Здесь же, у порога, выпилил в ящике окошко и обшил все изнутри вырезанными из матрацев кусками. Бедный Шурига, видел бы он, что я делаю с его имуществом! Но зато получилась замечательная конура. Ни ветер, ни холод в нее не заберутся, лежи себе да выглядывай весну.
Пока возился с ящиком, несколько раз обращал внимание, до чего же тяжелый дух стоит в моем жилье. Неудивительно, что Сергей и дед Степаныч крутили носами. Но ничего, переселю Роску, все отскребу, отмою и следа не останется. А потом выстелю пол лиственничными веточками, будет здесь аромат, как в весеннем лесу. Главное, заманить Роску в эту конуру и перетащить под навес.
Пока я возился с ящиком, росомаха лежала в своем углу и внимательно следила за каждым моим движением. Когда я слишком уж громко стучал молотком или ронял на пол доску, она вздрагивала и предостерегающе ворчала. Что-то незаметно, чтобы она хоть как-то ко мне привыкла. С самого начала жизни в моей избушке она ни разу не то что не вильнула хвостом, а даже не отнеслась более или менее терпимо к моему присутствию. Ухаживаю за ней, кормлю чуть ли не из рук, а она, вместо того чтобы приласкаться, лишь подойду к сетке, бросается на нее и так цапает зубами, что того и гляди перекусит проволоку.
Подтянул ящик к кровати и убрал часть лиственничных чурок, чтобы Роска могла забраться в новое жилище. Для приманки положил туда кусок щуки. Кормить сегодня Роску больше не буду. Есть захочет — полезет в ящик.
Пока Роска привыкает к новому жилью, можно успеть до вечера на вырубку, что километрах в пяти от Лиственничного. Демьяныч советовал поискать для Роски шиповника. Росомаха никогда не пройдет мимо этих ягод. Наверняка моей Роске в ее положении они будут очень полезны. У нас здесь сплошные вырубки. На недавних кроме пней и пустых железных бочек ничего нет, зато на старых всякой ягоды видимо-невидимо. Косари каждый год набирают там целые ведра жимолости и красной смородины. На тех, что у реки, целые заросли шиповника. Некоторые кусты растут прямо из полусгнивших пней, и плоды на них особенно крупные.
Осенью я любил бывать там. Бродишь себе между почерневших от времени пней и общипываешь ягоды. В одном месте наскочишь на синий от перезревших ягод куст жимолости, в другом — сорвешь кисть красной смородины, в третьем — прижухлую ягоду малины или морошки. Но главное, конечно, шиповник. Тронутые морозом плоды потемнели и стали до того мягкими, что их можно было давить губами. Я наедался их до тяжести в животе, а вот набрать про запас не дошли руки.
Интересно все-таки, какую-то неделю тому назад по дороге от избушки до верхнего переката я старался рассмотреть каждый следок, пусть бы это пробежала всего лишь маленькая полевка или присела общипать колосок вейника птичка-чечетка. Чуть что, остановлюсь и начинаю прикидывать, откуда след здесь взялся? Ведь как раз в этом месте я выкладывал кашу для Роски, здесь же она проложила ту памятную мне первую тропу. Сейчас же я шлепаю себе на лыжах и все внимание не под ноги, а на темнеющее узкими проталинами русло Фатумы. Лишь потеплело, на реке появилось множество проталин и уже несколько раз между ними прогулялась выдра. Выберется из воды и вихляет по снегу до новой промоины. А вчера она побывала даже в Лиственничном. Бежала себе по льду, потом вдруг напротив избушки повернула к берегу и, пробив в снегу длинный тоннель, вынырнула чуть ли не у стоящей за избушкой поленницы дров. То ли ее привлекли мои дрова, то ли она учуяла Роску и захотела на нее посмотреть. Росомаха и выдра относятся к семейству куньих. Так что, что там ни говори, а все-таки родственники.
Почти не отрывая глаз от реки, я минул камень, на котором раньше оставлял угощение для Роски, и уже заворачивал к перекату, когда вдруг совершенно неожиданно увидел свежий росомаший след. Сегодня ночью, а может и позже, здесь побывала росомаха. Отпечатки лап крупнее Роскиных, и расстояние между ними шире.
Зверь перешел Фатуму немного выше переката и, хотя все оставленные и мной, и Роской следы давно задула метель, сразу же направился к кострищу. Там он чуть повертелся и начал раскапывать снег как раз в том месте, где я подкармливал Роску. То ли его привлек запах рыбьего жира, которым пропиталась почва рядом с кострищем, то ли он учуял оставленные Роской отметины.
Не отыскав никакой ноживы, росомаха оставила на покопке желтое пятнышко и направилась в тальниковые заросли. Пятнышко у кострища было заметно издали. Оно-то и выдало забредшую сюда росомаху с головой. Правильно говорит Шурига: «Свято место пусто не бывает». Нет, не в том смысле, что он запросто может обойтись без меня и легко найдет мне замену. А в том, что отныне этот зверь является новым хозяином Роскиных владений. Наверное, раньше его охотничий участок граничил с участком моей Роски. Может, они даже как-то там дружили: ходили в гости, ухаживали друг за дружкой и по-своему, по-росомашьи, заверяли один другого во взаимной симпатии. Но стоило моей Роске отлучиться на время, как сосед решил, что ее уже нет в живых, и поторопился захватить ее территорию. Кулак какой-то! Я его сразу же невзлюбил. Да и за что его любить? Моя-то Роска возилась с хромой росомахой, делилась с нею добычей, а этот, вместо того чтобы хотя бы попытаться как-то помочь соседке, спешит извлечь из ее несчастья выгоду. Хорошо еще, что она спряталась в мою избушку, не то, глядишь, и горло перехватил бы.
Снега в этом году очень много, к тому же все время держатся морозы и ходить очень бродно. Порой лыжи проваливаются чуть ли не до самой земли. К счастью, у первой же вырубки наткнулся на оленью тропу, и хотя она скоро отвернула в сторону, оставить ее не хватило решимости. Здесь вырубки тянутся одна за другой, и вполне возможно, на какой-то из них тоже растет хороший шиповник. К тому же я люблю ходить по незнакомым местам. Чаще всего всякие неожиданные встречи случаются как раз во время таких путешествий.
Вдоль вырубки и по раскинувшемуся за нею болоту олени передвигались шагом, и набитая ими тропа до того плотная, что по ней можно идти без лыж. Но вот долина стала уже, сопки подступили к самой Фатуме и олени то и дело переходили на прыжки. Прыгая, они выбивали в снегу глубокие ямы, и в таких местах мне приходится сворачивать в сторону, иначе рискуешь поломать лыжи.
Обогнул заросший лиственницами невысокий холм и увидел самих оленей. Их не меньше полусотни. Среди высоких и поджарых дикарей легко угадываются домашние олени. Эти ниже ростом, и шерсть на них светлее. Один олень так вообще рябый, как холмогорская корова.
Наверное, домашние олени убежали из совхозного стада и пристали к диким. Сергей говорил, в этом году их потеряли несколько тысяч. Целый месяц искали вертолетами, гоняли на вездеходах, но разве в тайге найдешь? Это тебе не тундра, где на сто километров ни одного бугорка.
Олени увидели меня, заволновались и, выстраиваясь на ходу в длинную цепочку, побежали в темнеющий слева от долины распадок. По дороге они подняли стаю куропаток. Словно белый вихрь, замельтешили птицы на фоне заиндевевших тальников и скрылись за ними.
Прохожу совсем немного и опять замечаю оленей. Этот табун совсем маленький. Четыре важенки и два довольно рослых олененка. Эти учуяли меня загодя, бросились наутек, и я увидел их уже на склоне сопки. Здесь одни дикари. Бегут легко, словно играючись, вскидывают высоко вверх светлые крупы.
В долине настоящее оленье засилье. Везде глубокие ямы-копанки, усыпанные крошевом сорванного ягеля или стеблями пожелтевшей пушицы. От каждой копанки во все стороны расходятся лучи оленьих троп. У подножий сопок — кучи сорвавшегося с крутых склонов снега. Олени карабкаются туда за ягелем и несмотря на то, что промороженный снег держится на склонах вполне надежно, почти с каждого крутого выступа умудрились столкнуть лавину. Местами эти лавины обнажили сопки сверху донизу.
Непривычно и как-то по-особому неуютно смотреть на открытые морозу и ветру куртинки брусники, зеленые лапы кедрового стланика, широкие листья золотистого рододендрона. Лишь сейчас по-настоящему начинаю понимать выражение «снежное одеяло».
В оттепель, когда снег станет скользким, здесь будет опасно даже хлопнуть в ладоши. Загремит так, только держись.
На лавине, что скатилась с ощерившейся скалистыми останцами сопки, прохаживаются четыре ворона. Осторожные птицы услышали скрип снега под моими лыжами и полетели посмотреть, кого это несет. Удостоверившись, что идет человек, перекликнулись между собой и расселись на лиственнице, что стоит у самой оленьей тропы.
Стараясь не вспугнуть воронов резким движением, искоса наблюдаю за ними и прохожу под самым деревом. Все птицы очень крупные, большеклювые и черные от головы до когтей.
Грудь и крылья отливают металлической синевой. Мне приятно, что птицы не боятся меня, и сердце полнится нежностью к ним. Нужно было прихватить из дому кусок щуки. Сейчас мое угощение было бы воронам как нельзя кстати.
Меня давно интересует один вопрос. С виду все вороны походят друг на дружку и оперением, и статью, да и повадки у них одинаковы. Но почему в нашем поселке возле ящиков с мусором всю зиму держится всего лишь две-три птицы? Еды там сколько угодно, никто на них не охотится, никто не обижает, они же лишь такой маленькой компанией и летают. Остальные же вороны маются здесь, в тайге, и к дармовой еде не торопятся. Не дураки же они в конце концов.
Недалеко от лиственницы с сидящими на ней воронами тропа уходит в сторону от сопки, я останавливаюсь полюбоваться птицами в последний раз, но те уже оставили дерево и вернулись на сброшенную лавиной кучу снега. Что они там нашли? Просто так вороны на одном и том же месте вертеться не станут. Разворачиваю лыжи и направляюсь к подножью сопки. Один из воронов предупреждающе произносит «Крум!» и, описав круг, опускается на склон сопки метрах в двадцати от лавины. Скоро туда же перелетают и остальные птицы.
Сброшенный лавиной снег непривычно грязный. Из серого месива выглядывают камни, ветки кедрового стланика, небольшие вырванные с корнями лиственнички. Ничего такого, что могло бы привлечь внимание воронов, не видно. Я уже хотел было возвращаться к лыжне, но вдруг заметил, что один из торчащих из снега сучьев несколько отличается от остальных. Сначала мне показалось, что это отколовшийся от скалы продолговатый камушек с сильно обкатанными гранями. Похожий голыш можно найти на берегу реки или моря. Но как он оказался здесь? Я ковырнул камушек лыжей, он не шелохнулся, хотя снег подо мною сравнительно рыхлый. Ничего не пойму. Снимаю лыжи и приседаю над непонятной находкой. Вороны заволновались и, сторожко ступая по склону сопки, подошли совсем близко. Сейчас их поведение напоминает игру «Холодно-теплее-горячо!». Чем ближе я к этому «камушку», тем они волнуются сильнее и тем смелее подступают ко мне.
Кажется, это олений рог. Боясь поверить в осенившую меня догадку, торопливо достаю нож, опускаюсь на колени и начинаю раскапывать снег. Скоро из лавины показывается ухо, затем открылась и вся голова оленя. Мне уже понятно, что здесь закопано все животное. Один из бродивших здесь оленей забрался на сопку, стронул лавину, а убежать не смог.
Рассматриваю склон сопки, пытаясь определить, где это случилось, но там целое переплетенье оленьих троп и понять, какой из проложивших их оленей спокойно спустился вниз, а какой попал в лавину — нет никакой возможности. А может, их было здесь целое стадо. Те олени, что паслись выше по склону, толкнули лавину, а этот копался себе внизу и не заметил. Я сам несколько раз натыкался на забравшихся в копанки оленей. Сунет морду в снег, лакомится ягелем и ничего не видит и не слышит, хоть бери его голыми руками.
Голова оленя качается от малейшего моего усилия, значит, погиб он не так давно. Будет мясо мне, будет и Роске. Конечно же, оставлю немного и воронам. Без их помощи мне этого оленя не найти ни за что.
Прежде всего развожу костер, заваливаю его сучьями, вывернутыми из земли полусгнившими пнями, кусками коры. Затем отрываю от сломленной ветром лиственницы широкую щепку и принимаюсь раскапывать снег вокруг оленя. Костер разгорелся, дышит теплом, так что можно работать в одном свитере. Настроение чудесное. В такие минуты работа прямо кипит в руках, и я нравлюсь сам себе. Все делаю легко и без всяких сомнений. Подправил в яме снежную стенку, сделал удобную полочку, чтоб можно было стать ногой, сгонял к ближней сухостоине и принес большую охапку сучьев. Попутно наметил куст кедрового стланика, ветками которого можно будет прикрыть мясо.
Пока то да се, решил сварить чай, но вытопленная из снега вода не так вкусна, надеваю лыжи и с котелком в руке бегу к Фатуме. Там же, на берегу, подобрал плоский голыш, пригодится точить нож.
Вот уж везет, так везет! Есть у меня одна привычка: как бы занят ни был, а всегда хоть на минуту задержусь у воды. Откуда это у меня — не знаю. Ни отец, ни дед рыбаками не были, а я лишь на воду гляну и уже не оторвусь.
Так и в этот раз. Стою с полным котелком в одной руке и с камнем в другой, гляжу на воду и вдруг замечаю трех хариусов. Выплыли на чистое место, чуть постояли и ушли под лед. Значит, где-то рядом у них зимовальная яма и можно будет порыбачить. А мне-то говорили, что вся рыба скатывается на зиму аж за Скалистые плеса.
Наконец снег отброшен в сторону, яма очищена от веток и олень лежит у моих ног. Это довольно крупная важенка со светлыми до белизны ногами. Несколько отростков на рогах сломлено, на морде застыл сгусток крови. Глаза оленухи открыты. Мне почему-то неприятно смотреть на них, и я накрываю голову животного курткой.
…Домой отправился уже в сумерках. До Лиственничного километра четыре, по готовой лыжне да еще вниз по реке это совсем близко. В рюкзак положил немного мяса и голову оленухи. Рога выглядывают наружу и все время спихивают шапку мне на лоб. Все остальное сложил там же, в яме, и прикрыл сверху ветками стланика. На всякий случай повесил над тайником мою майку. Звери боятся запаха человеческого пота и будут обходить яму стороной.
Прибежал в Лиственничное и сразу же в избушку. Роска по-прежнему лежит в углу, но рыба из будки исчезла. Бросаю туда еще небольшой кусок щуки и осторожно устанавливаю будку на прежнее место. Нужно было бы угостить Роску олениной, но я решил до переселения подержать ее на голодном пайке.
Пока выбирал из печки золу, ходил за дровами, Роска учуяла рыбу, вытащила ее из будки и принялась, есть. Ура! Все отлично. Завтра с утра приделаю к ящику дверцу, чтобы можно было захлопнуть, когда Роска полезет за мясом, и можно переселяться. Главное, чтобы к этому времени не явился Шурига, а то и на самом деле устроит скандал.
Поужинал, забрался в постель, немного поворочался и понял, что уснуть не смогу. Обычно, намаявшись, проваливаюсь в сон, едва коснусь головой подушки, здесь же будто меня подменили. Весь какой-то возбужденный, аж тело зудит. Мысли скачут одна за другой. Думается то о Роске, то об олене, то о Шуриге. Потом вдруг начинаешь перебирать папу, маму, братьев, сестер. Но в то же время мысли какие-то рваные, появляются и исчезают, словно в калейдоскопе. Нет, так нельзя. Зажег лампу, оделся и принялся хозяйничать. Прежде всего растопил баню и натаскал две бочки воды, затем с кастрюлей, в которой лежала нарезанная оленина, в одной руке и с зажженной лампой — в другой отправился к Роске. В кармане три свечи и длинная веревка. Устрою в избушке настоящую иллюминацию, приделаю к ящику дверцу, а потом этой веревкой попытаюсь захлопнуть в нем Роску.
Обычно при моем появлении она забивается в дальний угол, сейчас не стоит возле сетки и, чуть наклонив голову, смотрит на дверь.
— Ну как дела? — спрашиваю ее. — Понимаешь, нужно переселяться. Я там тебе новую квартиру организовал. Да и вообще, что это за жизнь под кроватью? Я бы на твоем месте давно возмутился.
Роска переступила с ноги на ногу и снова замерла, а я, все еще продолжая расхваливать удобства жизни под навесом, отодвигаю ящик и принимаюсь ладить к нему дверцу. Щуки там уже нет. Если бы она так же смело полезла и за олениной. Словно угадывая мою мысль, Роска нетерпеливо рыкнула и царапнула когтями по сетке.
— А, голубушка, так ты оголодала, поэтому-то такая и доверчивая. Да и здоровье тоже, по всему видно, пошло на поправку. Ничего удивительного, что появился и аппетит. Сейчас мы угостим тебя оленинкой, только будь, пожалуйста, умницей.
Роска чуть слышно ворчит и укладывается возле сетки. Я работаю пилой, стучу молотком, Роска лежит в каком-то метре от меня и время от времени рычит, приподнимая при этом верхнюю губу и обнажая острые клыки.
— Ничего, Росочка, можешь оскалиться, я-то все равно тебя не боюсь, тем более что улыбка у человека произошла как раз от такого приема. Встретятся два первобытных человека, неандертальцы или питекантропы, и показывают друг дружке! зубы. Мол, ты не очень-то выступай, прежде посмотри, какие у меня зубы. Цапну так, только держись! Потом, конечно, люди кусаться перестали, но зубы на всякий случай при встрече показывают по-прежнему.
Наконец закрепил дверцу, протянул через скобу бельевую веревку и, установив ящик со спрятанным в него куском оленины на прежнее место, бегу в баню подложить в печку дров.
На улице настоящая оттепель. Даже пахнет по-весеннему. Виноват тальник. У него этих ароматов сколько угодно. Один на мороз, другой на оттепель, третий на осень, четвертый на лето. Сегодня он пахнет весной.
Луна спряталась за облака, но ее свет все же пробивается на укрытую снегом землю и никакой фонарик мне не нужен. Я вижу отсюда даже дорогу до самого поворота.
От Фатумы доносится шум воды. Значит, перекат совсем открылся и завтра, когда отправлюсь за мясом, нужно будет прихватить с собою и удочку. Может, удастся хорошо порыбачить. Интересно, что сейчас делает выдра? Может, сидит где-нибудь у промоины и наблюдает за мной. В тайге одному всегда скучно, а увидишь рядом живую душу — уже и легче. Нужно будет угостить ее щукой. Прикармливать не буду, а просто брошу рыбину на перекате, пусть думает, что плыла и зацепилась за камни. Нам с Роской пока что хватит и оленины.
Подложил дров, проверил, как греется вода, и даже почувствовал приятный озноб от предстоящего купанья. Но рассиживаться некогда. Прикрыл поплотнее дверь и бегом в избушку, мяса в ящике, конечно, нет. Роска спокойно лежит возле сетки, словно она здесь ни при чем. Бросаю кусок побольше, поправляю протянутую к дверце веревку и отступаю за порог. Там затаиваюсь и в приоткрытую дверь наблюдаю за Роской.
Она с минуту лежала без движения, затем поднялась, облизала себе бок и, прихрамывая, направилась к ящику. Чуть постояла у входа, наклонилась и исчезла в нем. Дергаю за веревку и, услышав, как сработала защелка, бегу в избушку. Росомаха рычит, бьется о стенки, но ничего страшного. Ящик изнутри обшит матрацем, поранить себя она не сможет. На всякий случай обвязываю новое Роскино жилище веревкой, затем вытаскиваю его за порог.
В калитку, которую я проделал в загородке, ящик, конечно, не прошел. Пришлось отрывать доски. Потом попробовал установить их на место, но в потемках чуть не отшиб пальцы и решил оставить это занятие до утра. Пусть Роска посидит пока что в ящике. Так она лучше пообвыкнет на новом месте, а то начнет носиться по загородке и разбередит себе рану.
Даже в предбаннике стоит такая жара, что сразу же по спине, побежали струйки пота. В самой же бане даже дышать горячо. Забираюсь на полок, но долго выдержать не могу. Хватаю ковшик, сую его в бочку с холодной водой и обнаруживаю, что она пустая. Косари пробили в дне дырку, чтобы сливать остатки воды, я поленился проверить заглушку, и теперь вся вода ушла в камни.
Отыскиваю ведра и совсем раздетый, проваливаясь глубоко в снег, бреду к Фатуме. Можно было бы идти тропинкой, но напрямик гораздо ближе. К тому же раскаленное тело почти не чувствует холода, стынут лишь подошвы да еще почти мгновенно смерзлись волосы на голове. Бедная выдра, если она все еще наблюдала за мной из своей промоины, наверное, с перепугу пошла на дно.
Утром, лишь подхватился, сразу к навесу. Там уже сидят два ворона. Не из той ли компании, у которой я вчера отобрал оленя? Хотя вряд ли. Тем я оставил еды на всю неделю.
Из ящика доносится недовольное рычание. Но толчков или там ударов не слышно. Значит, немного пообвыклась, и вообще в темноте звери ведут себя спокойнее.
— Доброе утро, Роска! Как спалось? — говорю росомахе, какое-то время стою у ящика, словно ожидаю ответа, затем начинаю приколачивать оторванные ночью доски. Все росомахи хорошо лазают по деревьям, поэтому мне пришлось устроить вдоль загородки козырек из широких досок. Вчера в потемках я все сломал, теперь приходится устанавливать на прежнее место.
Наконец все готово. Рядом с ящиком куча сена и две миски. В одной рыба и мясо, в другой теплая вода. В дальнем от ящика углу за ночь надуло целый сугроб снега, но я не стал его убирать. Со снегом все выглядит более естественно. Закрываю поплотнее калитку, тяну за веревку, и дверца открывается. С минуту Роски не было видно, я уже хотел окликнуть ее, но тут она высунула голову, затем медленно, готовая в любое мгновенье нырнуть обратно, ступила на припорошенные снегом доски. Я думал, сейчас Роска начнет метаться в поисках выхода, она же немного постояла и, прихрамывая, направилась к сугробу. Подошла, обнюхала, хапнула снег ртом и вдруг принялась кататься по нему. Она то ложилась на спину и возилась так, часто загребая в воздухе лапами, то переворачивалась на бок и извивалась, словно хотела втереть весь снег в свою шерсть, то терлась о сугроб затылком или шеей.
Какой ужас! Наверное, Роска страдала от грязи, которую развела под моей кроватью, но ничего сделать не могла. А я не сообразил набросать туда снега, считая, что ей достаточно еды и питья.
Как часто мы берем на себя смелость думать, что знаем мысли и желания животного, а потом обнаруживаем, что ошиблись. Помню, как-то собрались мы съездить «дикарями» на Азовское море. Лето, жара, продукты пропадут за один день, а нам нужно прожить в палатках недели три, а то и четыре. Решили взять с собой живых кур, держать на привязи возле палаток и по надобности варить из них бульон. Купили в совхозе почти за бесценок десять выбракованных леггорнов. Несутся, мол, отвратительно, сами — одни кости да перья, вот зоотехники и решили, что держать их не к чему. Привезли куриц к морю, вытаскиваем из корзины, а они, очумелые после автобусной тряски, со связанными ногами и крыльями, лежат на боку и хватают ракушки. Мы их, значит, привязываем веревками, таскаем туда-сюда, они же на все это никакого внимания — знай клюют.
Утром просыпаемся, а у палаток прямо на этом ракушняке лежит четыре яйца, на другое утро уже шесть, на третье — все десять. С тех пор и пошло — как день, так десяток. И на глазунью, и всмятку поесть хватало. Оказались такие несушки — куда с добром. Мы на них потом у местных жителей свинины выменяли. А эти «специалисты», видишь ли, выбраковали!
Я не стал маячить у загородки и поспешил к своей избушке. Там в первую очередь выбросил за порог кровать и сетки. Завтра же нагрею побольше воды и отпарю так, что не останется и следа. Затем принялся выскребать мусор. Росомахи очень аккуратные звери, и туалет у них в строго определенном месте. Даже в такой тесноте Роска сумела сохранить совершенно чистый и сухой угол. Здесь мне в голову и пришла замечательная мысль. А что, если взять и разбросать все это у отметок, оставленных Роскиным соседом? Пусть знает, что Роска жива и уступать своей территории никому не собирается. Неплохо было бы еще и пригрозить ему, но как это делается у росомах — даже не представляю. Медведи — так те наносят царапины на деревья выше царапин соперника. Мол, видишь, как высоко достаю — значит, крупнее тебя и сильнее, уходи, мол, подобру-поздорову. Один захудалый, но довольно хитрый топтыгин приспособился ставить свои отметки, влезая на корягу. Подтащит ее к дереву, заберется повыше и всех медведей таким способом переплюнет. Потом уберет ту корягу в кусты, чтобы ни у кого, значит, не возникло подозрения. Медведи клевали на такую удочку и обходили этого заморыша десятой дорогой.
У навеса жизнь бьет ключом. К воронам присоединились две кукши, кедровка, стайка синиц и поползень. Чуть в стороне на вершине лиственницы дремлет ястребиная сова. Она тоже явилась на птичий гам, но ничего интересного для себя пока что не нашла и, пока суд да дело, решила прикорнуть.
Роска стоит у загородки, сунув нос в щель между досок. Вид у нее вполне нормальный, а вот ходит она плохо. К тому же у нее, наверное, мерзнет выстриженный Демьянычем бок. Роска лижет то место, иногда просто прислонит к нему нос и на какое-то время замрет. То ли греет его, то ли утоляет таким способом боль.
Смотрю на все это минут двадцать и возвращаюсь в избушку. Там я уже навел полный порядок. Все отскреб, отмыл, притащил из соседней избушки новую кровать и бросил под нее охапку лиственничных веток. До приезда Шуриги буду жить в бригадирской, затем возвращусь сюда. В Шуригиной конторе хоть и просторнее, но ее трудно натопить, к тому же она стоит совсем в стороне от Фатумы и из окон, кроме бочек с соляркой да пары механических граблей, ничего не видно.
Приготовил обед, еще раз заглянул к Роске и, прихватив ведро с собранным под кроватью мусором, отправляюсь отваживать Роскиного соседа.
На второй день явился Шурига. До наледи он добрался на тракторе, перебрел ее, переобувшись в резиновые сапоги, и так, с валенками под мышкой, явился в Лиственничное. На широком, чуть приплюснутом его лице выражение брезгливости и недовольства. Вместо «здравствуйте» бригадир еще с порога принялся читать мне мораль. Сначала выговорил за не сброшенный со столовой и мастерской снег, затем поинтересовался, с какой стати я лазил к цистерне с бензином, и наконец спросил, почему я даже не попытался устроить какую-нибудь переправу через наледь. Ему, видите ли, «пришла мысля», что если положить на лед чурки и придавить сверху жердями, то можно ходить по наледи не переобуваясь.
Я внимательно гляжу на Шуригу и молчу. Нужно потерпеть и дать выговориться ему до конца. Его хватит минут на десять, не больше. К тому же в резиновых сапогах у него замерзли ноги, а если начнешь переобуваться, то ты уже как бы не начальник, а просто заглянул погреться.
Неожиданно Шурига споткнулся на полуслове и подозрительно уставился на меня. С минуту так разглядывал, словно видел впервые, и наконец спросил:
— Обожди-ка, а с какой это стати ты сюда переселился? Приезжал кто-нибудь?
Я согласно киваю головой и говорю как можно безразличнее:
— Были здесь одни из Магадана. Хариусов наловили целый ящик, ну и останавливались на ночь.
В глазах Шуриги мелькнули искорки любопытства. Он тоже заядлый рыболов, но спесь не дает признаться в этом. Как-никак начальник — и вдруг такое! Голос его тишится, близорукие глаза исчезают за узкими щелочками:
— Ты что, серьезно? Где они в это время нашли рыбу?
Я наклоняюсь, достаю из-под стола щучью голову и показываю Шуриге:
— Хариус что! Я на Соловьевских озерах таких вот десятками таскаю. У меня и живец есть. Можно было бы прямо сегодня и сходить, но вы же говорили, что вас трактор ждет.
— Мало что я говорил, — отмахивается Шурига. — Хорошая мысля приходит опосля. Давай, гони к наледи и скажи Алешке, чтобы уезжал. Я немного задержусь. Нужно выбрать место под удобрения, да и стога глянуть не помешает. — Шурига загорелся предстоящей рыбалкой. — Постой! Никуда не ходи. Готовь здесь снасти, я сам смотаюсь. А то еще чего напутаешь.
Так и не переобувшись, с валенками под мышкой, Шурига заторопился к наледи. Я прихватил топор и отправился за живцами. Они у меня прямо в заводи и живут. Я ловлю их вентерем, пересаживаю в банку и опускаю на самое дно. Таким способом их можно сохранять целый месяц, и они не то что не худеют, а наоборот — становятся еще более шустрыми.
Вожусь с живцами, приспосабливаю к банке проволочную ручку и обдумываю, как мне вести себя с Шуригой. Про Роску пока что говорить не нужно. Возвратимся с рыбалки, поужинаем и сядем играть в шашки. Шурига играет слабовато, подолгу думает и даже пытается плутовать. Проиграв, сердито перемешивает шашки и долго молчит. Но если выиграет — радости! Он тебя и похвалит, и чаю нальет, и даже шашки за обоих расставит.
Придется партии три ему проиграть, а когда он растает — и сообщу. Главное, чтобы он прежде времени не заглянул к навесам.
Пока привел в порядок гольянов, нажарил мяса и смастерил еще одну удочку, бригадир успел сгонять к наледи. Возвратился он уже в валенках, с лыжами и ружьем. Кроме того, принес целый рюкзак продуктов. Разохотившись, он решил задержаться здесь дня на три. Это мне не очень нравится. Шурига ни на минуту не забывает о том, что он начальник, будет указывать мне даже, в какой руке держать ложку. Но вида не подаю, рассказываю о хариусах, которых видел в верховьях Фатумы, и предлагаю завтра утром отправиться туда. Сегодня наловим щук, а завтра примемся за хариусов. На обратном пути завернем к стогам.
…То ли недавняя ревизия закончилась для Шуриги слишком удачно, то ли, вырвавшись из центральной усадьбы, он совсем ошалел от восторга — не знаю. Но даже за брошенную на озере палатку бригадир меня почти не ругал. А когда он вытащил из воды первую щуку, то чуть не пробил головой и саму палатку. Правда, под конец рыбалки, как бы между прочим, он предупредил меня, чтобы я ни в коем случае никому не рассказал обо всем этом. Я думал, Шурига не хочет, чтобы о его развлечении здесь узнали директор совхоза или главный инженер. Мол, с какой это стати Шурига занялся щуками в рабочее время?
Оказывается, бригадир смотрел куда дальше. Как только в совхозе проведают о добычливой рыбалке, сразу же в Лиственничное нагрянет толпа рыбаков и, как ты ни следи, а обязательно чего-нибудь не досчитаешься: бочки горючего, пары тюков сена или ватного одеяла с подушкой. Кстати, у нас такой случай был. Приехали из города артисты, выступили в поселковом клубе, а потом решили порадовать косарей и явились прямо в Лиственничное. Мы приняли их по-людски, накормили ухой, помогли набрать жимолости, а когда они уехали, Шурига глядь — нет двух одеял и подушки. Вот тебе и артисты!
Сегодня хариусы у лунки даже не появлялись. Но зато щуки словно с ума сошли. Мы поймали шестнадцать штук. Можно было и больше, но трех живцов эти разбойницы умудрились сорвать с крючков безнаказанно, да одного очень шустрого гольяна Шурига нечаянно уронил прямо в лунку. Перепуганная рыбка долго металась по лунке, мы чуть не обломали ногти, вымочили рукава до локтей, но поймать не смогли. Наконец гольян все же сумел нырнуть под лед, где его, без сомнения, встретила голодная щука.
Домой возвратились уже в сумерках. Шурига занялся щуками, а я выбрал из печки золу и отправился за дровами. Попутно решил заглянуть к Роске. Под навесом тишина, моей квартирантки нигде не видно. Наверное, до сих пор отсиживается в будке. Может, на ветру у нее мерзнет рана, а может, росомаха гуляла здесь, но услышала мои шаги и спряталась. В другой раз я обязательно попытался бы выманить ее из ящика, сейчас же лишь заглянул за загородку и, прихватив охапку дров, возвратился в бригадирскую.
Шурига почистил щук и ушел к Фатуме их полоскать. Я разжег печку, вымыл кастрюли, подмел в бригадирской пол, а он все еще не появлялся. Наконец пришел. С головы до ног припорошенный густым инеем, к тому же валенки на ногах обледенели. В одной руке у Шуриги кастрюля с рыбой, в другой ведро воды. Он брякнул этим ведром так, что из него плеснуло на пол, и принялся возбужденно рассказывать:
— Слушай, там выдры! Представляешь, две штуки, и толстые, как поросята. Иду вот так, а они играют. Немного побегали, потом схватились и давай бороться. То один придавит, то другой. И ни капельки не боятся. Вот так подошел, только потом нырнули. Я бы на твоем месте давно ими занялся. Говорят, их вместо кошки держать можно. Представляешь, какая потеха! А то сидишь здесь один. Так от безделья можно и прокиснуть.
Я горько улыбнулся:
— Спасибо, уже занимался. Такая потеха получилась — веселее не бывает. Думаете, почему я сюда, в бригадирскую, перебрался?
Шурига снял шапку и, прищурившись, внимательно посмотрел на меня:
— А что, собственно говоря, случилось? Уж не медведь ли нагнал на тебя страху? Алешка мне рассказывал.
— Нет, совсем не то. Вы помните росомаху? Ту самую, что потрепала собак Митьки Пироговского? Вы еще ее по дороге на Сокжоевы встречали. Светлая такая. Вот я эту росомаху и прикармливал. Она уже в Лиственничное, как домой, ходила. Думал, вообще приручу, а ее наши трактористы из ружья. Прямо вот сюда дробью попали. Прихожу с покосов, а она у меня под кроватью сидит. Чуть за ногу не цапнула. Это я искал, чем ее кормить, вот щук и обнаружил.
— Ты серьезно? — не понять, то ли из простого любопытства, то ли затем, чтобы по-начальнически пресечь такой непорядок, спрашивает Шурига. — А ну-ка, расскажи подробнее. То-то я вижу, слишком уж ты стал сговорчивый, а к чему — никак не соображу…
Минут через двадцать, прихватив фонарик, вместе с бригадиром отправились к навесу. Там по-прежнему полная тишина. Белеют у ящика пустые миски, рядом с ними валяются какие-то щепки, больше ничего не видно.
Мы постояли у загородки, несколько раз стукнули в доски, я даже пытался звать Роску, но она не появилась. Может, чуяла чужого и боялась показываться ему на глаза, а может, не доверял и мне.
Несмотря на то что ее поведение вполне объяснимо, мне вдруг стало очень обидно. Уж на минутку-то могла и выглянуть. Давно должна бы сообразить, что кроме добра я ей ничего не желаю. Обида долго не проходила, и когда, поужинав, убрали со стола, Шурига предложил отнести Роске объедки, я отмахнулся, сославшись на то, что она уже сыта и вообще в такое время я ее не кормлю…
Утром меня разбудил Шурига. В полушубке и запорошенных снегом валенках он стоял у кровати и осторожно дергал за угол одеяла:
— Вставай! Твоя росомаха тю-тю.
— Что-о? — не понял я бригадира.
— Вставай, сбежала твоя росомаха, говорю. Доски прогрызла и дай бог ноги.
Подхватываюсь, натягиваю валенки и, накинув куртку на плечи, бегу к навесу. Сзади с пыхтением поспевает Шурига.
У навесов все без изменений. Гундосят рассевшиеся на лиственнице вороны, сипят кедровки, тенькают синички. Даже ястребиная сова на месте. Сено разбросано по всему настилу, рядом с ящиком гора щепок, в самом настиле темнеет большая дыра. Наверное, одна из досок там оказалась с гнильцой, вот Роска ее и прогрызла. А я-то думал, что она в первую очередь постарается перелезть через загородку или в крайнем случае сделает в ней дырку.
Настил под навесом уложен на толстые схваченные коваными скобами бревна, и между ними ни одной щелочки. Значит, росомаха выбралась через боковой проем. Один из них выходит на кучу выбранной бульдозером земли, а вот другой совершенно открыт. Осенью через этот проем под навес залезал заяц, и я даже пытался его поймать. Там довольно просторно.
Бегу в конец навеса, уверен, что сейчас увижу Роскины следы, но там ничего такого нет. Просвет между землей и настилом занесло снегом. Везде лишь проложенные полевками строчки да давнишний нарыск охотившегося за ними горностая.
Я уже понял, что Роска никуда не убежала, а скорее всего промышляет под настилом полевок или устроила там гнездо и преспокойненько отдыхает. На всякий случай осматриваю снег с обратной стороны и вдруг замечаю там Роскины следы.
Ушла все-таки! Мне становится обидно до боли в сердце. Хотя давно был готов к тому, что Роска скоро покинет меня, и хорошо понимал, что это самый лучший выход для нас обоих, но, оказывается, все далеко не так просто. Я надеялся, что это случится значительно позже да и выглядеть будет несколько по-иному. Пусть бы она окончательно выздоровела, я бы ее хорошо в последний раз накормил, попрощался и беги себе куда хочешь. Но вот так, ни с того ни с сего…
Шурига что-то кричит мне с другого края навеса, но я его не слышу. Стою, гляжу на рассыпанные цепочкой следы, и на бригадира никакого внимания. Где же она пролезла? Подхожу ближе и вдруг вижу, что следы-то не Роскины! Сегодня ночью у навеса побывала хромая росомаха. Вот это событие так событие! Она-то как здесь оказалась? Может, Роска как-то там позвала ее. Хотя нет. Скорее всего Хромая наткнулась на мусор, который я собрал под кроватью и разбросал по следам Роскиного соседа. Она, конечно же, сразу узнала Роскин запах и отправилась на поиски. Нужно проверить, может, сюда заглядывал и Роскин сосед.
Проваливаясь в снегу чуть ли не по пояс, бреду рядом с отпечатками хромой росомахи, но больше ничьих следов не нахожу. Возвращаюсь к Шуриге и рассказываю о своем открытии. Тот и верит, и не верит:
— Ну ты даешь! Не может быть. Значит, эта, ну которую Чернышев ранил, здесь?
Ему не терпится поскорее выманить Роску из-под настила, но я здорово продрог и тороплюсь в бригадирскую. Переоделся, прихватил щуку покрупнее — и к загородке. Шуриге такое расточительство, конечно же, не понравится, но меня это ничуть не тревожит. Вчера снова поставил вентерь на гольянов, глядишь, какой десяток и поймается. А будут гольяны — будут и щуки.
Шурига стоит, прислонившись лицом к доскам, и ждет, когда появится Роска. Осторожно приоткрываю калитку, подтягиваю проволочным крючком пустые миски и оставляю здесь же, у настила, затем бросаю щуку рядом с дыркой.
Довольно долго все остается без изменения. Может, Роска услышала чужого человека и боится оставить свою утайку, а может, наелась полевок и вообще не покажется до самого вечера. Я принялся махать Шуриге рукой, чтобы он убрался подальше от навеса. Тот понимающе кивнул головой, потоптался на месте, изображая этим, что он как бы отправился в бригадирскую, и снова застыл на месте. Ну и Шурига! Он что, за дуру ее считает? Я снова начинаю сигналить бригадиру. В это время один из воронов снялся с лиственницы, сделал круг над навесом и плюхнулся рядом со щукой. Чуть постоял, обошел рыбину со стороны головы и принялся клевать. Скоро к нему присоединились и остальные вороны. Клюют споро, возят щуку по доскам, та под тяжелыми клювами подпрыгивает, словно живая.
Вдруг одна из птиц испуганно вскрикнула, все дружно замахали крыльями и стремглав кинулись прочь. В то же мгновенье из прогрызенной в настиле дырки показалась Роска.
У хищников плохое зрение, мы стояли притаившись за досками и даже дышали не в полную силу, но Роска хорошо видела и чуяла нас. Сначала она поглядела в мою сторону, затем повернулась к Шуриге, и снова ко мне. Словно хотела спросить: «А это кто?»
Чуть постояла, еще раз осмотрелась и неторопливо направилась к рыбине. Вид у нее был вполне нормальный и даже хромала совсем немного. Вот только движения ее были слишком уж осторожными, словно она в любую минуту ждала от нас какого-то подвоха. Наклонилась над щукой, обнюхала и скоро вместе с нею исчезла под настилом.
…Мы позавтракали, сыграли три партии в шашки и отправились за олениной. Я прихватил удочки, а Шурига ружье и лопату. Вчера я рассказал ему о встретившихся у вырубок оленях и куропатках, и бригадир надеялся хорошо поохотиться. Кроме того, он упрекнул меня за то, что я не обследовал до конца всю лавину. Вполне возможно, где-то под снегом лежит еще олень, а может быть, и не один. Я и сам подумывал об этом. Оленя-то я откопал у самого края лавины, все остальное даже толком не осмотрел. А может, в этом виноваты вороны? Больше ничего этих птиц в лавине не интересовало, я поверил им и не стал проверять.
Сразу за Лиственничным спустились к Фатуме. Почти вся ее середина покрылась окнами проталин. Везде видны следы выдр. Наверное, эти зверьки загодя узнали о предстоящей оттепели и явились на промысел. А может, здесь у них постоянные угодья и лишь на время сильных морозов они откочевывают к незамерзающим ключам. Нужно спросить Шуригу, когда выдры появились у Лиственничного в прошлом году. В ту зиму они возили сено с Сокжоевых покосов до майских праздников и, наверное, встречали выдр не один раз.
Хочу окликнуть бригадира, но тот вдруг остановился и поднял руку. Смотрю, куда он показывает, и… вижу росомаху. До нее метров сто, может, немногим больше. Застыла на бугорке рядом с лыжней и внимательно смотрит на нас. Без всякого сомнения, это Хромая. Я чувствовал, что она никуда не уйдет и будет вертеться у Лиственничного, и вот тебе, пожалуйста. Не успели отойти и километра, как она уже тут.
Шурига присел, обернулся ко мне и шепчет:
— Давай потихоньку назад. Попробуем и эту прикормить.
Я протестующе качаю головой и прошу отдать мне ружье. Тот делает удивленное лицо, но ружье все же снимает. Затем достает из кармана пачку патронов и тихо говорит:
— Держи. Только у меня одна дробь. Отсюда не достать.
— Достану, — отвечаю ему. — Еще и как достану! — Заряжаю ружье, все так же пригнувшись, огибаю Шуригу, затем поднимаюсь и стреляю в росомаху из обоих стволов. Я почти не целился, да если бы и попал, на таком расстоянии мелкая дробь даже ранить не может, а вот доверять людям отучит на всю жизнь. Росомаха взвивается на месте, в один прыжок слетает с бугра и бросается наутек. Торопливо перезаряжаю ружье, и еще два выстрела один за другим гремят вслед убегающему зверю.
Дня через три после того, как Шурига возвратился в совхоз, я сидел у окна и наблюдал за желной. Этот большой красно-головый дятел решил разнести в щепки стоящую неподалеку от бригадирской избушку. Ничем от других она не отличалась, а вот не понравилась дятлу и все тут. Занимался он своим преступным делом с таким азартом, что я только диву давался.
Уцепится когтями в бревно, упрется жестким хвостом в другое, стукнет пару раз и слушает, что оно там, в середине, творится? По звуку он, наверное, определял, в какую сторону проделал ход зазимовавший в бревенчатой стене короед, а может, даже угадывал, тощий этот короед или жирный. Затем с озорным криком «Клить-клить-клить!» перемещался вверх или вниз и принимался долбить бревно. Удар следовал за ударом с удивительной силой и скоростью. Впечатление было такое, что там, за окном, кто-то работает отбойным молотком. Крупные, чуть ли не в ладонь щепки усеяли весь снег у избушки. Кое-где дятел навалил их целые холмики.
Наверное, дятла больше увлекала его разрушительная работа, чем короеды, потому что он ни разу не спустился вниз за оброненной добычей, и вскоре ею заинтересовались мои синички. Они тщательно изучали каждую щепку, подбирали короедов и удивлялись, как это их кормилец до сих пор не получил сотрясения мозга?
Внезапно у опушки подступившей к самому Лиственничному тайги мелькнула какая-то тень. Сначала мне показалось, что это глухарь. Вчера два токовика собирали камешки под обрывом у Фатумы, а один даже прогулялся по дорожке, которую я протоптал, бегая к реке за водой. Вот я и подумал на этих глухарей, но сейчас же вспомнил, что время-то позднее, вот-вот начнет смеркаться, и эти птицы давно забрались в лунки на отдых. Ведь глухари, куропатки, рябчики — те же куры. Поднимаются до восхода солнца, а спать ложатся чуть ли не с полудня.
Торопливо одеваюсь и бегу к деревьям, под которыми заметил промелькнувшую тень. Там уже никого нет, но на снегу хорошо видны росомашьи узоры. Роска! Кажется, она! Возвращаюсь к навесу и вижу, что в этот раз не ошибся. В сугробе под настилом темнеет большая нора. Роска легко пробила слежавшийся снег, выбралась наружу и кинулась наутек.
С чего это она? Вела себя тихо-мирно. Совсем недавно прямо на моих глазах съела кусок мяса, затем выбрала несколько травинок из охапки сена, которое я по совету Демьяныча подкладывал каждый день. Даже позволила почесать веточкой загривок. Правда, при этом она немного рычала, но от загородки не отошла.
Смотрю на пробитую в сугробе дыру и вдруг слышу — кто-то меня зовет. У бригадирской два парня. Один высокий, другой с меня ростом. В длинном я сразу же признал горбоносого, что стрелял в Роску. Он снял шапку, помахал ею над головой и крикнул:
— Привет, начальник! Ты здесь бока отлеживаешь, а мы полдня у Родникового, как папы карлы, вкалываем. Где у тебя трос? Трактор так засел, что мы свой порвали на куски…
Вечером в Лиственничное пришли четыре трактора с санями. Вместе с трактористами и грузчиками прибыли два плотника.
Они помогли грузить сено и остались в Лиственничном до весны. Шурига заключил с ними договор на строительство склада под удобрения. Сначала я обрадовался такому событию. Оба молодые, с виду вполне нормальные мужики. Не нужно будет одному заниматься приготовлением еды, заготовкой дров, топить баню и таскать в нее воду. В компании-то и батьку легче бить. И на рыбалку вместе сходим, и вечером есть с кем перекинуться словом.
Но дружбы не получилось. Они приехали на Колыму с единственной целью — заработать денег, а всякая там романтика им, естественно, до лампочки. Теперь в бригадирской то и дело слышалось: «Ты так много сахара не ложи. С такими потребностями мы и на штаны не заработаем!». «Ну и что с того, что воскресенье? Я тебе не Рокфеллер, чтобы рыбалкой развлекаться. Лучше я за это время пару копеек заколочу».
Я пробовал спорить с ними, но бесполезно. К тому же, стоило мне отлучиться из Лиственничного, как они затеяли на устроенном под обрывом галечнике охоту и убили трех куропаток. Этот галечник мне сделал Сережка. Подрезал берег Фатумы с таким расчетом, чтобы получился козырек, под который не залетает снег. Сюда часто заглядывали куропатки, глухари, всевозможная птичья мелочь. А эти, видите ли, устроили промысел. Кончилось тем, что я тайком подпилил бойки их ружья и оставил плотников в покое.
Здесь и произошло загадочное для меня явление. Вспугнутые выстрелом куропатки и глухари не появлялись у галечника одиннадцать дней. Не встречал в это время я и лосиных следов. На следующее же утро после того, как я вывел ружье из строя, на галечнике гуляла огромная стая куропаток, вскоре к ним присоединился и глухарь. Плотник ползает вокруг них с ружьем, а они никакого внимания. Только когда подобрался слишком уж близко — улетели.
А через час оба плотника метались по избушке, мастерили из гвоздей новые бойки и ругались на все заставы. Да и как им не ругаться? Рядом с Лиственничным только что заметили трех лосей. Стоят себе в тальнике и спокойно скусывают верхушки. Возле тальника удобная ложбина, можно подкрасться чуть ли не вплотную. Это же мясо!
С бойками, конечно, ничего не получилось, к тому же плотники подшумели лосей и те ушли в глубь тайги. Мои сотоварищи догадывались, кто виноват в их неудаче, и целый день со мною не разговаривали. Они сердито строгали бревна и без конца подсчитывали, сколько это говядины можно было получить из трех лосей? Меня же мучила совсем другая загадка: откуда птицы и звери проведали, что именно сегодня им у Лиственничного не угрожает опасность?..
Роска в поселке больше не появилась. Правда, я дважды встречал знакомые следы на старых вырубках, но Роскины они или какой-нибудь другой росомахи — не знаю. Это только в книгах легко отличить след от следа. В самом деле, если у зверя все пальцы на месте и ноги ничем не повреждены, разобраться трудно. Хромая росомаха тоже куда-то исчезла. А может, они ушли вместе?
Наконец закончилась суровая колымская зима. Растаял снег, открылись озера и реки, на склонах сопок расцвели голубые прострелы. Из далеких странствий возвратились трясогузки, коньки, соловьи, пеночки. В тайге стало шумно от птичьего пересвиста.
Нужно было готовиться к новому сенокосу, и Шурига отправил меня рубить остожья. Поставленные прямо на землю, стога подмокали и гнили. На остожьях же сено можно было хранить сколько угодно. Я решил начать с вырубки, рядом с которой бежит Хитрый ручей. От дому недалеко, а главное, представлялась возможность заняться тамошними хариусами. Очень уж они разномастные да и повадками не походят друг на дружку. Щука, скажем, зеленоватая, линь желтый, налим темно-серый. Назовите мне любую рыбу, и я скажу, на какую приманку можно ее поймать. А хариусы?
Хитрый ручей разделен на четыре отрезка-плеса. Между этими плесами нет даже маленькой канавки. От плеса к плесу вода течет под землей. И вот в каждом плесе свои хариусы. В первом — желтые, во втором — черные, в третьем — зеленые, вернее изумрудные, а в четвертом — бесцветные, словно выгоревшие на солнце.
Самый ближний к Фатуме плес мы называем Песчаным. Его дно покрыто желтым песком, вот и хариусы оделись там в золотистый наряд. Следующий плес Омут. Здесь много родников, большая глубина, под берегом какая-то пещера. Вода в Омуте непроглядная, а хариусы черные, да еще и с особинкой. Обыкновенные хариусы клюют утром, вечером, иногда в обед. Эти же только перед рассветом. Днем ты не соблазнишь их никакой приманкой. Да что там приманкой! Даже упавших на воду комаров и мошек никто не трогает.
Но как только забрезжит полоска зари — влезай на склонившуюся над омутом толстую лиственницу и пускай «мушку» по воде. Тотчас из самой глуби выметнется крупная рыбина, и, если рыболов удачлив, а леска надежна — быть ему с хорошим уловом.
Клев длится с полчаса, иногда чуть дольше. Потом прекращается почти на целые сутки. Становится светло, и рыба начинает замечать пристроившегося на лиственнице рыбака, а может, причиной тому что-нибудь другое. Догадываться можно сколько угодно, но никому еще не удавалось поймать «черныша», как мы называем живущих в Омуте хариусов, днем…
В сотне шагов от Омута плес Скалистый. В нем много водорослей. Здесь Хитрый прижимается к скалам, на вершинах которых вздымаются буйные шапки кедрового стланика. То ли от водорослей, то ли от стланика вода в ручье зеленого цвета, а хариусы — настоящие изумрудники. Словно селезни в весеннем наряде…
Верхний плес и плесом назвать трудно. Просто россыпь выбеленных солнцем камней, а между ними блестит вода. Под водой в самых глубоких местах лежит лед. Вода, конечно, холодная донельзя, но хариусов здесь, пожалуй, больше, чем в остальных плесах. Рыбки небольшие, светлые и очень проворные. Они могут перебираться из одной колдобины в другую прямо по камням. Клюют эти живчики бойко и так же проворно срываются обратно в воду. С пяти-шести поклевок только одна рыбка оказывается в ведерке. Поэтому-то в Верхнем плесе так много хариусов с рваными губами…
В июне солнце встает рано. Два часа ночи, а уже светло… Просыпаюсь, одеваюсь потеплее — и к Хитрому. Сегодня я ловлю «золотников» из Песчаного плеса. Эти хариусы особого доверия к «мушке» не питают. Целый день они копаются в мелких камешках, извлекая из-под них личинок стрекоз и поденок. Поэтому я ловлю их поплавочной удочкой. Наживляю на крючок пойманного здесь же ручейника и пускаю приманку к самому дну. Минут десять поплавок спокойно лежит на воде, потом исчезает. Происходит это в тот момент, когда меня отвлекает то ли прошумевший над головой табун уток, то ли раскричавшийся на ветке кулик-улит. Всего на мгновенье отведешь глаза — поплавка уже нет. Торопливо подсекаю, но «золотник» успел стянуть наживку и из воды вылетает пустой крючок.
Ругая не ко времени подвернувшихся птиц, забрасываю удочку с новой наживкой, и вскоре проворный «золотник» уже на берегу. Он и вправду словно облит солнцем. Даже на спинном парусе россыпь желтых пятен. Очутившись в ведерке, хариус возмущенно брызгается водой, затем успокаивается и начинает изучать новую обстановку.
Выудив семь «золотников», тороплюсь к Омуту. Я решил перевоспитать хариусов-чернышей и научить их ловиться в обычное для всех хариусов время. Ведь «золотники», «изумрудники» и «беляши» клюют, как и положено всем нормальным хариусам, а эти — только в предрассветную пору. Вчера я выпустил в омут двенадцать рыб со Скалистого плеса и столько же с Верхнего. А вот сейчас, отщипнув на память по маленькому перышку от пышного наряда «золотников», отправляю в гости к «чернышам» и представителей Песчаного плеса.
Интересно, как встретят «черныши» своих воспитателей? Первое время, конечно, будут сторониться, а потом привыкнут. А там, глядишь, вместе с новоселами начнут и комаров ловить. Может, «черныши» просто не знают, что можно неплохо поохотиться и в другое время? Отведу им дня четыре на знакомство и изучение обстановки, а потом устрою экзамены…
В субботу до полуночи разгружали удобрение, я здорово устал и проспал утреннюю зорьку. Омут встретил меня тишиной. Вся вода усеяна комарами, но нигде ни единого всплеска. У берега покачивается снулый хариус. По выщипнутому перышку узнаю «изумрудника». Интересно, отчего он погиб? Может, я неосторожно придавил рыбку, когда снимал с крючка? А вдруг причина в чем-то другом? Вдруг и остальные переселенцы погибли? День-два поплавали и уснули, а вороны с утками подобрали лакомую добычу. Только вот этот и остался.
Пробую ловить и на «мушку», и на поплавок — ничего не получается. Бросив удочку у лиственницы, отправляюсь домой.
Назавтра поднимаюсь затемно. С вечера упала густая роса, холодно так, что попрятались комары. Правда, один все же зудел и несколько раз садился на щеку, но я его не прихлопнул. Может, это какой-то особый морозоустойчивый комар и его пора заносить в «Красную книгу».
Омут маслянисто блестит среди деревьев. Кажется, из него скорее выудишь русалку или водяного, чем хариуса. Я совершенно не вижу скользящей по воде «мушки» и угадываю ее только по усам разбегающихся прямоугольником волн.
Тишину утра будит негромкий всплеск, и я чувствую заходившую на леске тяжелую рыбу. Вот это кочегар! С полкилограмма, если не больше! Бросаю его в мокрую от росы траву и снова опускаю «мушку» к воде.
Рыбы клюют одна за другой. Ах, как хорошо было бы продлить клев хоть на пару часов! Но нет, отгуляв положенные тридцать минут, хариусы ушли на дно и затаились. Понимая, что дальнейшая рыбалка бессмысленна, слезаю с лиственницы и сматываю удочку. Небо очистилось от туч, вокруг стало так светло, что я могу разглядеть пойманных хариусов. Некоторые успели уснуть, другие слабо шевелят жабрами и шлепают хвостами. Как я и ожидал, клевали одни «черныши». Штук пять настоящие великаны, остальные поменьше. Все рыбы — с широкими темными спинами, словно вывоженными сажей боками и такими же черными хвостами.
А это что? У одного хариуса надщипнут грудной плавник. Да это же «золотник»! Рядом с ним еще один меченый. Это «изумрудник» со Скалистого плеса. Но с чего они так почернели? Вот это воспитатели! Вместо того чтобы как-то там повлиять на «чернышей», они сами переняли и цвет, и повадки хозяев Омута…
Складываю и тех, и других в ведерко и, поеживаясь от холода, тороплюсь домой.
Сегодня последний день моей жизни в Лиственничном. Завтра уезжаю в совхоз, а оттуда в отпуск на «материк». Шурига просил меня задержаться, доказывая, что можно потерпеть еще месяц, но я решил ехать. Уже три года не был на родине, а здесь еще приболела мама.
Собрал вещи, узнал, когда будет машина в совхоз, и ушёл к Хитрому ручью.
Лето входило в свои права. Птицы перестали петь песни и занялись выращиванием птенцов. Вчера косари поймали глухаря. Он так вылинял, что не мог взлететь и бегал по тайге, как страус.
На плес прилетела первая стайка самочек куличков-плавунчиков. Значит, они уже отложили яички и отправились гулять до будущей весны, переложив ответственность за насиживание яичек и воспитание птенцов на самчиков. Давно отцвела голубика, у обочины дороги горят звездочки одуванчиков, над ними басовито гудят мохнатые шмели. Вчера на столе поварихи Любы появился букет ирисов. Вот-вот начнется сенокос.
На тонкой лиственничке у Скалистого плеса сидит куропач. Его куропатка притаилась в устроенном где-то неподалеку гнезде, а он бдительно ее охраняет. Заметив меня, куропач тревожно кричит: «Блек-блек-блек-блек!» и, описав в воздухе крутую горку, садится на выступ скалы. Хотя время куропачьих свадеб давно прошло, петушок все еще остается в брачном наряде. Снежно-белый фрак, ярко-коричневая манишка, в хвосте веер черных перьев. Жених да и только!
Я отгибал ветки, чтобы те не мешали забрасывать удочку, разматывал леску, а он сидел и переживал, не трону ли я его куропатку.
Поднявшееся солнце высветило плес до самого дна. Со скалы хорошо видно длинные хвосты водорослей, стайки плавающих между ними хариусов-«изумрудников», усыпанное обломками камней дно. Мое внимание привлек шум, раздавшийся где-то у Верхнего плеса. Кажется, там кто-то бродит. Но кто? Из наших сюда никто не собирался, заезжих рыбаков тоже не было. Может, там вообще не человек, а лось или олень? Когда их слишком уж допекает гнус, они забираются в воду по самую шею и долго отсиживаются на глубине.
Шум стих. Какое-то время над тайгой висела заполненная гулом комаров тишина, затем ее нарушил сильный всплеск. Впечатление такое, что там, на Верхнем плесе, в воду упал кусок скалы.
Стараясь ступать как можно осторожнее, крадусь между деревьев. Ветер тянет вдоль распадка как раз мне в лицо, если у воды зверь, то меня ему не учуять.
Над головой пролетела кедровка. Сейчас эта сплетница поднимет крик на всю тайгу и выдаст меня с головой. Но она даже не посмотрела в мою сторону. Кедровка торопилась к плесу, наверное, там и на самом деле происходило что-то интересное.
Наконец переплетенная ветками шиповника и красной смородины лощина осталась позади. Огибаю гриву поднявшегося на пятиметровую высоту кедрового стланика и, стараясь ступать поосторожнее, спускаюсь к плесу. Делаю шаг, другой, третий и от неожиданности замираю на месте. У плеса хозяйничает медведь. Мокрая шерсть на нем слиплась и блестит на солнце. Сейчас и морда, и лапы кажутся необычайно тонкими, а сам зверь каким-то слишком уж поджарым.
Покопавшись между камней, медведь забрался на огромный, в белых подтеках, валун и притих. В прошлый раз с этого валуна я удил хариусов-«беляшей». Может, медведь пришел сюда с той же целью. Но без удочки ему ничего не добыть. Плес возле камня довольно глубокий, а стограммовый хариус-молния — это тебе не застрявшая на перекате неповоротливая кета.
Медведь сгорбился на камне и внимательно смотрит в воду. На ближнем дереве сидят две кедровки и в свою очередь смотрят на медведя. Словно они в театре или цирке. Заплатили за билеты, устроились получше и ждут представления.
А медведь вдруг насторожился и как есть бултыхнул в воду. Брызги поднялись выше валуна, вода сердито заплескала о берег, а зверь погрузился в воду чуть ли не с головой. Но там не засиделся, торопливо выскочил на мель и принялся хлопать лапами по камням. Кажется, он кого-то ловит? Ага, поймал, забрал в рот, жует. Хариус!
Оказывается, комары здесь ни при чем. Медведь рыбачит! Надо же сообразить! Дождался, когда стайка подплыла к валуну, и плюхнулся на нее сверху. Рыбки, конечно, кто куда. Некоторые с перепугу выскочили на камни. А здесь поймать их нетрудно даже Потапычу. В этот раз он добыл всего две рыбки. Такому великану на один зубок, но медведь не расстроился, а может, на большее он и не рассчитывал. Отряхнулся, куснул зубами засевшую под мышкой блоху и снова полез на валун…
Он прыгал в воду еще раз пять или шесть. Но вот хариусы перестали подплывать к валуну. То ли они наконец сообразили, откуда грозит опасность, то ли удрали по перекату в соседний плес.
Не дождавшись хариусов, медведь спустился вниз, зачем-то понюхал воду и двинулся вдоль распадка. Я был значительно выше и хорошо видел его. Шел медведь не торопясь, несколько раз останавливался и общипывал верхушки кипрея. В эти минуты он напоминал… корову. Да-да! Возвращается себе буренка из стада и на ходу пощипывает травку.
Вел медведь себя на удивление беспечно. За все время он ни разу не осмотрелся и не прислушался. Вот уж действительно властелин колымской тайги.
Я крадучись отправился следом. Интересно все-таки понаблюдать за косолапым. И здесь я понял, что поторопился с выводами. Медведь не так уж и беспечен. Он ни разу не остановился за выступом сопки или у группы густых деревьев, а выбирал для этого открытые места. Стою за выворотнем и жду, когда медведь скроется за деревьями, затем выскакиваю из укрытия и, вприпрыжку добежав до этих деревьев, осторожно выглядываю. Мне кажется, что медведь должен быть совсем рядом, а он уже кто его знает где. Стоит, что-то вынюхивает. И задерживается там очень надолго.
Получается, хоть и ходит медведь густой тайгою, да все равно придерживается открытых мест. И ни охотнику, ни другому более сильному зверю к нему не подобраться.
У невысокой каменной гряды дорогу мишке перегородила поваленная лиственница. Он уже занес было лапу, чтобы перелезть через нее, как вдруг навстречу выбежал медвежонок. Малыш остановился напротив медведя и принялся подпрыгивать. Играет он, что ли?
Я не мог как следует рассмотреть малыша, мешал куст карликовой березки. Успел заметить лишь, что медвежонок значительно светлее медведя и слишком уж тощий.
Взрослый медведь не проявил к малышу никакой симпатии. Он зарычал и замахнулся лапой, словно намеревался его ударить. Я оглянулся. Сейчас можно было бы подкрасться поближе, но между мной и зверями совершенно открытое место. Чуть выше тянется грива кустов кедрового стланика. А что, если рискнуть?
Почти на виду у зверей проскакиваю лощину и ныряю под прикрытие густых тяжелых веток. Кажется, меня не заметили. Пригибаюсь, где на коленях, а где и на четвереньках добираюсь до края гривы. Теперь я как раз над медведями. Слышу, как они рычат и как гремят камни под их лапами.
Откровенно говоря, мне очень страшно. Я испугался еще когда увидел медведя на Верхнем плесе. Но слишком уж его мирный вид, а главное, желание рассмотреть таежного владыку поближе заставили меня следовать за ним. Постепенно меня захватил какой-то азарт. Я дрожал от возбуждения и в то же время, наверное, сильно нравился самому себе, потому что очень хотелось, чтобы в эту минуту меня видела мама. Мне и в голову не приходило, что на самом деле такая картина вряд ли порадовала бы ее. Скорее всего с мамой случился бы сердечный приступ.
Осторожно приподнимаю голову и выглядываю из-за кустов. Медвежонок куда-то исчез. Медведь все так же стоит ко мне спиной и дергается всей тушей. Шерсть на горбатом загривке успела высохнуть и дыбится, как на дикобразе. Вот он снова взмахнул лапой, и тотчас из-за лиственницы выскочил медвежонок. Ой! Да это же не медвежонок, а самая обыкновенная росомаха! Она темней и поджарей моей Роски, но в то же время в ее облике кроется что-то ужасно знакомое. Правда, эта слишком уж сердита. Сгорбилась, опустила голову к самой земле и глядит на медведя исподлобья. Моя Роска так никогда не сердилась. Ну порычит, прыгнет несколько раз, щелкнет зубами и успокоится. Помню, как она лежала под кроватью и смотрела на меня. Тихая-мирная, словно самая взаправдашняя домашняя киска. А эта — комок злобы.
Росомаха сорвалась с места, обогнула поваленную лиственницу и подскочила к медведю сзади. Тот стремительно развернулся и бросился на росомаху. Наверное, мишка схватил бы ее, но она нырнула под толстую ветку и медведь только царапнул когтями по дереву. На землю посыпались ошметки коры, медведь взревел, а росомаха уже выскочила с другой стороны и оказалась за спиной медведя. И на этот раз медведь не успел встретить росомаху, а та цапнула его за гачи. Косолапый рявкнул, рванул лапами мох и припустил за удирающей росомахой. Та бежала, прижав круглые уши и длинный мочалистый хвост.
На пути зверей случился выворотень. Росомаха проворно юркнула за него, а медведь проскочил мимо. Теперь она повернулась ко мне правым боком, и я увидел на нем так знакомое круглое светлое пятно. Роска! Да это же моя Роска!
Забыв обо всем на свете, я проломился через кусты и заорал сколько духу:
— Роска! Роска!
Росомаха резко развернулась и застыла на месте, а медведь, который только что дыбился и размахивал лапами, опустился на четвереньки и кинулся наутек. Он пробил густые ольховниковые заросли, выскочил на склон сопки и замахал прямо к ее вершине. Он мчался широкими прыжками, не останавливаясь и даже не оглядываясь. Я сейчас и не помню, куда он убежал, потому что мое внимание было приковано к Роске.
Она все так же стояла у выворотня и смотрела на меня. Я не узнал ее раньше потому, что она успела вылинять. Новая шерсть была темнее и короче. Поэтому-то росомаха мне и показалась слишком худой.
Без сомнения, и она признала меня, иначе давно бы убежала следом за медведем. Но, с другой стороны, никакой радости от встречи со мною она не проявила. Стоит и смотрит. Мне ужасно хотелось приласкать Роску или хотя бы подойти поближе, но только я ступил к ней, как она опасливо покосилась и отошла в сторону.
Поняв, что любая попытка приблизиться потерпит неудачу, я опустился на мох и стал молча следить за росомахой. Та сразу же успокоилась, обнюхала траву у выворотня и направилась к лиственнице, возле которой встретила медведя.
Только теперь я заметил, что у дерева что-то белеет. Точно. Там лежит какое-то животное со светлой шерстью. Поднимаюсь и осторожно направляюсь к валежине. Теперь мне хорошо видно, что там лежит снежный баран. Увенчанная улитками рогов голова откинута в сторону, на шее алеет кровавое пятно. Как росомаха сумела добыть это быстрое, обитающее среди обрывистых скал животное — не представляю. Скорее всего толсторог заболел и спустился в распадок в поисках целебной травы. А может, где-то здесь у снежных баранов водопой.
Хотелось подойти поближе, но Роска вдруг повернулась ко мне и зарычала. Ее вид не предвещал ничего хорошего. Вздыбленная шерсть, злые глаза, выглядывающие из-под приподнятой верхней губы желтые клыки.
Только что она отстаивала свою добычу перед медведем, сейчас не уступит ее и мне. Я медленно отошел и, стараясь ступать как можно осторожнее, направился к Скалистому плесу.
Перед поворотом к плесу я оглянулся. Роска стояла на валежине и внимательно смотрела мне вслед. Я поднял руку и крикнул:
— До свидания, Роска!
А над сопками плыло теплое июньское солнце. Где-то скрипела кедровка и постукивал дятел. Тайга шумела таинственно и мудро.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |