"Восьмое чудо" - читать интересную книгу автора (Жданов Николай Гаврилович)
Колька
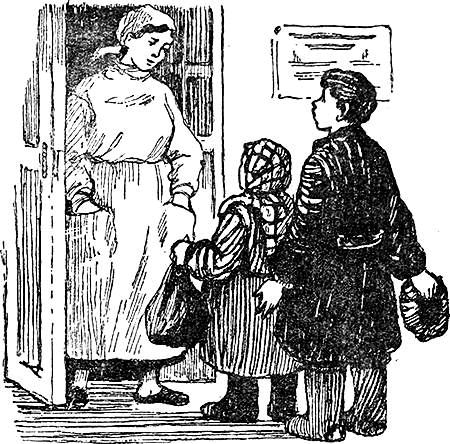 |
В выходной мать устроила стирку. Должно быть, она сильно распарилась у плиты, у кипящего бельевого бака, а когда вечером, накинув на потные плечи ватник, вышла в сени развешивать бельё, её прохватило холодным сквозным ветром.
К ночи у матери начался жар.
Но утром, несмотря на озноб, ломоту в ногах и сильную слабость, она, как всегда, истопила печь, согрела самовар и, покормив Кольку и Саньку, отправилась на фабрику.
И уже там, когда подметала коридор (мать была уборщицей), ей сделалось плохо.
Вызвали врача, и мать отправили в больницу.
…Дети долго не ложатся, поджидая её.
Колька, деловито сопя, выстругивает из полена торпедный катер. Санька, притихшая, сидит на лавке, пугливо поглядывая в окно.
От затона, где зимуют буксиры, изредка доносятся гудки. Вдали, за чёрной полыньёй, сверкает огнями судоремонтный завод. Но в избе темно.
— Чего это наша-то полстанция не тарахтит? — удивляется Санька. — Гляди, как в окнах зачернело.
— Подстанция, а не полстанция! Молчала бы уж!
Некоторое время Санька виновато шмыгает носом.
Но долго не выдерживает:
— Коль, а Коль, ты тогда сам чего-нибудь поговорила то мне боязно!
— Выдумала… Мамка придёт — чай пить будем.
Но матери всё нет.
— Коль, а Коль, — тянет Санька, — ну как солнце не взойдёт больше? Что тогда?
— Наскажешь! — сердится Колька.
Зажигается свет.
Санька от неожиданности дёргается и чуть не падает с лавки, но скоро усаживается опять.
— Коль, а Коль, а верно, раньше совсем электричества не было? Как же тогда жить-то было в темноте? Ничего и не видно! Вот боязно!..
— Все, думаешь, как ты, — пугливые!
Колька прячет полено под лавку, а стружки заметает в угол, чтобы мать, увидев зазубренный нож, не догадалась, чья это вина.
Но опять проходит много времени, а матери нет.
Санька, уронив голову на стол, уже спит. Кольке страшно одному, но он крепится, прислушиваясь к каждому шороху извне.
Вот кто-то взошёл на крыльцо. Слышно шарканье ног по старому голику у дверей.
Колька бросается в сени.
Но это не мать, а тётя Паша, вахтёрша.
— Как вы тут, ребятишки? — спрашивает она, оглядывая избу.
Колька молча вздыхает и смотрит на спящую сестрёнку.
— Намаялась! — Тётя Паша, слегка отодвинув стол, берёт Саньку на руки, относит на материну кровать и укладывает под ватное одеяло.
Санька сперва бормочет что-то сквозь сон, потом, почувствовав подушку под головой, уютно подбирает ноги и затихает.
— Ну вот, Колюшка, ты уж будь теперь за старшого… — садясь на лавку, говорит тётя Паша, и Колька чутьём схватывает, что с матерью что-то случилось.
Он хочет спросить, но не решается и, не сдержавшись, начинает плакать.
— Ну, ты что же это? Ты не хнычь зря. Мать сегодня не придёт — занездоровилось ей, в больницу отправили, в районную. Хорошая больница у нас, сам знаешь. Ей там скоро полегчает. А ты пока за большего будь.
Тётя Паша говорит ещё долго, но Колька слушает плохо. И только когда тётя Паша тормошит его за плечо и спрашивает: «Слышь, что ли?» — он кивает головой и тихо бормочет: «Ладно».
Тётя Паша живёт далеко, на той стороне затона, и потому торопится уйти. Сегодня после работы она ещё не была дома. Верно, её заждались.
Оставшись наедине со спящей Санькой, Колька долго сидит у двери на сундуке, который служит ему постелью, и слушает, как гудит ветер в трубе. Он думает о матери, о том, что ей, наверно, очень худо сейчас. Наверно, она лежит на койке, терпит и не плачет.
Колька видит перед собой её лицо и усталые глаза. Но постепенно веки его смыкаются. В полусне он сбрасывает валенки и, накрывшись полушубком, засыпает.
Когда Колька просыпается, в избе уже светло.
Он вскакивает и, наскоро обувшись, запускает руку под лавку, где хранится недостроенный катер. Но вдруг вспоминает: «Мамка заболела», — и озабоченно хмурится.
Санька тоже проснулась. Она сидит на кровати и, слюнявя нитку, нанизывает свои голубые бусы: должно быть, опять рассыпались.
— Коль, а Коль, — просит она, — полезь под кровать: туда две бусины закатились.
— Ладно, отстань!
— Жалко тебе? У, Колястый, подожди, попомню!
— «Попомню»! — передразнивает Колька. — Мамка знаешь где?
— Небось за дровами ушла — печку топить будем.
Узнав, что мать в больнице, Санька совсем не огорчается. Прошлой осенью, когда у неё был коклюш, Саньку часто водили в больницу, и ей там понравилось.
Самовар греть не стали. Доели вчерашний ужин, и Колька, как всегда, отправился в школу, а Санька, как всегда, осталась дома одна.
У паромной переправы Колька встретил второгодника Квасова.
Узнав, что у Кольки заболела мать, Квасов сказал, что Колька большой дурак, потому что, если бы у него, Квасова, заболела тётка (он был сирота и жил у тётки), уж он бы ни за что не пошёл в школу, и ему бы за это ничего не было.
Разговаривая, они дошли почти до самой школы, и, хотя у Кольки не было никакой охоты идти домой, он всё-таки вернулся, так как боялся, что Квасов поднимет его на смех перед всеми ребятами.
Когда он пришёл домой, Санька сидела на корточках у шкафчика, в котором хранятся продукты, и доставала какие-то кульки.
— Давай мамке каши наварим, сладкой-сладкой! Давай, а? — предложила она, не удивившись, что брат так скоро вернулся.
— Давай, — согласился Колька.
Он пошёл во двор за дровами, утешаясь мыслью: «Остался бы я в школе, как бы тут без меня?»
Когда лежанка была затоплена, выяснилось, что нет сахара. Лежавший в сахарнице большой, не поддающийся щипцам кусок Санька, пока Кольки не было, успела обсосать так, что от куска остался только маленький мокрый комочек. Колька больно дёрнул Саньку за волосы, и минут пять она ревела и ворчала, что вот когда мамка вернётся из больницы, так он, Колястый, узнает…
Но надо было найти какой-то выход, и Колька придумал. Он взял бутылку из-под постного масла, вылил остаток на блюдце, прополоскал бутылку водой, наконец оделся и пошёл в ларёк, наказав Саньке не открывать дверцу у печки, а то выпадут угли и загорится дом.
В ларьке, у пристани, продавщица не приняла бутылку: слишком мутная. Колька долго тёр посудину рассыпающимся весенним снегом и снова мыл её в полынье у затона.
Когда он вернулся к ларьку, там была уже большая очередь.
Придя домой с маленьким пакетиком сахарного песка, похожим на большую козью ножку, Колька обнаружил, что в лежанке уже прогорели все дрова.
Пришлось разжигать печку снова.
Каша вышла, пожалуй, излишне густой, пригорела с одной стороны кастрюли и пахла дымом. Но даже этот запах был таким заманчивым, что Санька не выдержала.
— Давай попробуем? — предложила она.
Пришлось положить ей немножко на блюдце.
В больницу пошли вместе, заперев дом на замок.
Сразу за затоном начиналось заснеженное голое поле, и по ту сторону этого поля было видно светлое здание районной больницы.
Тропинка через поле была кривая и нетвёрдая: мартовский снег уже заметно таял и оседал. Колька шёл впереди и нёс узелок, в котором была завязана кастрюлька с кашей, а Санька бежала за ним. Она старалась не отставать, но ноги её вязли, она громко сопела и задыхалась. Колька торопился — боялся, что каша остынет.
У больничных ворот Колька издали заметил Квасова и Тычкова, возвращавшихся из школы. Они окликнули Кольку и сказали, что Майя Алексеевна на первом же уроке спросила, почему его нет. А когда узнала про больную мать, то не стала сердиться и велела Любке Колышкиной навестить Кольку.
— Любка принесёт тебе примеры, которые задано решать дома, — сказал Тычков. — А задача — сто сорок семь, я запомнил!
— Завтра опять не приходи — ничего не будет, — дружески посоветовал Квасов.
— Законно, — поддержал Тычков. — Дурак будешь — явишься.
Колька молча подтолкнул Саньку, заглядевшуюся на его приятелей, и направился к больничному крыльцу. Но тут, перед массивной полированной дверью, Колька как-то сразу оробел. В приёмной, где весь пол и высокие стены до самого потолка были покрыты блестящими, гладкими плитками, он в нерешительности остановился. Санька же бесстрашно двинулась к другой двери, наполовину застеклённой и чуть отворенной. За этой дверью виден был коридор. По мягкой ковровой дорожке шла к ним громадного роста тётя в белом халате.
— Вам чего тут? — Голос у неё был суровый и басовитый, как у мужика.
— Мы мамке каши принесли! — сказала Санька.
— А она тут у нас голодная сидит, как же!
Женщина смерила их с головы до ног насмешливым и грозным взглядом, затем, подойдя к небольшому столику в углу, достала из выдвижного ящика папку, похожую на классный журнал.
— Как фамилия? — спросила она строго. — Петрухина? Ну да, она и есть. Вчера привезли, а уж сегодня домой просится — из-за вас, видно: как там ребята без неё! Небось ничего, не теряются!
Женщина громыхнула ящиком и, подойдя к шкафу, вделанному в стену, достала оттуда два белых халата.
— Одевайтесь! — сказала она повелительно и протянула ребятам халаты.
Она помогла Саньке справиться с длинными полами, подогнув их под поясок, завязала Кольке тесёмки на рукавах и повела обоих сначала по коридору, мимо белых дверей, потом по лестнице, на перилах которой в красивых горшочках цвели, будто летом, маленькие алые цветочки.
Мать лежала на койке у самой двери и, положив руки поверх одеяла, о чём-то думала. Колька сразу увидел её побледневшее лицо и тёмные, запавшие глаза. Вдруг глаза эти удивлённо расширились. Мать приподнялась на койке и всплеснула руками.
— Глядите-ка на них! Мои, право, мои! — Она озиралась вокруг, словно призывая всех, кто был в палате, разделить её изумление.
— Лежите, лежите! — строго сказала ей сердитая тётя. — Нельзя вставать!
Она подвинула стул и табурет для Кольки и Саньки, хмыкнула и сказала:
— Каши, вишь, принесли!
— Больно тебе? — спросил Колька.
— Нет, ничего не болит, только мне нет… — сказала мать.
Колька торжественно поставил на стул узелок и, развязав его, достал закопчённую кастрюлю.
— Мы сами наварили! — сказала Санька. — До чего сладка-а!!
Мать схватилась рукой за щёку, как будто у неё болел зуб, и закачала головой:
— Нет, вы только поглядите, а? Я-то тут о них издумалась!..
Она наклонилась и достала из тумбочки яблоко и два печенья. Колька почувствовал лёгкую судорогу в животе, но есть отказался, сказав, что ему что-то совсем не хочется. Санька съела и яблоко и печенье, затем принялась за кашу.
— До чего сладка-а! — повторяла она. — Коль, ты только попробуй.
— Не тебе варили! — сердито сказал Колька.
Но и мать стала его уговаривать, и он согласился.
Они уже доедали кашу, когда вдруг все зашептали: «Доктор, доктор!» — и в палату вошёл высокий мужчина в очень белом халате. Он по очереди обошёл всех, кто лежал на койках, и каждому что-нибудь сказал, должно быть, самое важное. У него были внимательные, добрые глаза, и голос его звучал не громко, но внятно. За ним следом двигалась та самая сердитая большая тётя и отмечала на бумажке, что кому доктор велит сделать.
Когда доктор приблизился к матери (её койка стояла последней у дверей), мать как-то виновато, беспомощно улыбнулась и сказала:
— Что же это со мной такое, Тихон Денисыч? Болеть-то мне совсем нельзя, вон они у меня…
— Дело житейское, унывать не надо, — спокойно и мягко ответил доктор и посмотрел на Кольку.
Колька заторопился встать, громыхнул кастрюлей и, застыдившись, спрятал её за спину.
— По-моему, хорошие ребята у вас. — Доктор погладил Саньку по голове и спросил: — Что, вкусная была каша?
Санька отвернулась, закрылась рукавом и не отвечала.
— Вижу уж, ешь с удовольствием, — сказал доктор.
— Сами варили! Матери принесли! — вставила сердитая тетя и подмигнула Кольке, будто приятелю.
Доктор вышел в коридор, снял халат и повесил в шкаф. На сером его пиджаке, у нагрудного кармана Колька увидел полоску орденских ленточек, какие бывают у фронтовиков.
— Собирайтесь домой. Стемнеет скоро. Вон уж больным ужин начали разносить, — сказала мать.
Санька придвинулась к ней и, глядя вслед уходящему доктору, зашептала:
— Мам, а мам, он и не знает: ведь каша-то у нас без судовольствия, на сахаре она.
— Глупая ты ещё, — сказала мать. — Он видит, в охотку ешь — вот и говорит.
Она схватила Санькину голову и, так как Колька возился совсем рядом, завязывая кастрюлю, притянула и его к себе.
— Ох, горе вы моё! — сказала она.
Мать не раз говорила им эти слова. Услышав их, Колька обычно испытывал чувство какой-то неопределённой вины за то, что вот он существует на свете и причиняет ей заботы и огорчения. Теперь, взглянув на мать, он увидел в глубине её глаз такие светлые, весёлые огоньки, что ему и в голову не пришло огорчаться.
…Обратно шли в сумерках. Снег в поле был почти совсем синим. Далеко на той стороне маленький паровоз-«кукушка» тащил состав с торфом. Видно было, как вылетали из трубы красные искры и таяли. Санька шла позади, путаясь в больших валенках, и Колька слышал у себя за спиной её неумолкающий голос:
— Коль, а Коль, почему лошади сначала бывают маленькими, а потом делаются большими, а грузовики сразу большие? Почему, а?..
Колька не отвечал — он думал о своём; лоб его был нахмурен, и мысли витали далеко-далеко.
У перехода через насыпь он остановился, подождал запыхавшуюся Саньку и, хотя паровоз кричал ещё где-то за заводскими стенами, взял её за руку и перевёл через рельсы.
— Ты, как вырастешь, кем будешь? — спросил он.
— Я, как вырасту, плясать пойду, в артисты, — не думая, как о чём-то давно решённом, быстро ответила Санька.
— Это что! А я доктором буду. Вот увидишь!
Санька скоро отстала опять, а он шёл впереди, стараясь шагать широко и прямо, как доктор, и видел себя совсем взрослым, в белом халате нараспашку, из-под которого виднеется пиджак с орденской ленточкой у кармана и блестящим наконечником от автоматической ручки. Он идёт между койками, и больные смотрят на него с уважением и надеждой…
Когда пришли домой, Колька зажёг свет, сел к столу и стал решать задачу номер 147.
— Завтра я в школу пойду, — сказал он Саньке.
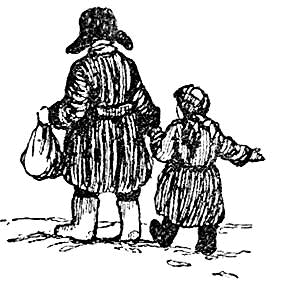 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |