"Девочка и олень" - читать интересную книгу автора (Пашнев Эдуард Иванович)
Глава III. Открытие слета
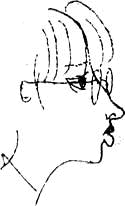 |
Репродуктор в квартире Рощиных висел на кухне. Отец и мать сидели за чистеньким столом и слушали открытие слета. Тут же лежала «Пионерская правда». На первой полосе одним галстуком были повязаны сразу все делегаты и гости III Всесоюзного слета пионеров. Они весело выглядывали из галстука, как из рамы.
А из репродуктора неслась частая дробь барабанов, перемежающаяся с торжественными сигналами горнов. Над стадионом взлетели сотни ракет и рассыпались в репродукторе праздничным треском. Комментатор восторженно описывал зрелище фейерверка, соперничающего с солнцем.
— И Гагарин там, слышишь? — сказал Николай Николаевич.
— Тише, Коля, — попросила жена.
Гагарин сидел на центральной трибуне среди именитых гостей из Москвы. Он был не в своей обычной форме, а в белой рубашке с отложным воротничком и в красном галстуке. И поэтому, пока он сидел с серьезным лицом, Надя его не замечала. А тут он встал и улыбнулся широко и радостно, как на фотографиях, и по этой улыбке Надя его сразу узнала. Она зааплодировала, но не услышала своих аплодисментов, потому что стадион в едином порыве поднялся, и над белыми пилотками ребят заплескались руки, словно огромная стая голубей, стремящаяся взмыть в небо вслед за ракетами.
До приезда в Артек Надя думала, что попадет в такой же пионерский лагерь, как и другие, только чуточку побольше. Она собиралась увидеть пять, шесть, ну, десять спальных корпусов, столовую, площадки для игр. А оказалось, что Артек — это город, состоящий из многих лагерей, что в этом городе есть свой Дворец пионеров, причал для кораблей, киностудия, стадион, верхняя и нижняя дорога с рейсовыми автобусами.
На зеленое футбольное поле выбежала акробатическая группа из Морского лагеря. Они быстро выстроили трехъярусную пирамиду. И Надя увидела, как по спинам и по плечам на самый верх вскарабкалась негритянка. Волосы у нее были заплетены во множество косичек, которые прямыми лучами отходили в разные стороны.
— Девочка-солнце! Девочка-солнце! — пробежал шумок по рядам.
В одной руке девочка держала жезл, похожий на булаву, в другой — кусок стекла, несколько раз ослепительно сверкнувший в ее ладони, пока она карабкалась по пирамиде. Негритянка подняла над головой огромное увеличительное стекло, поймала в него лучи солнца, сфокусировала их в одной точке, и набалдашник булавы задымился и вспыхнул. Жезл превратился в факел, подожженный от самого солнца. Пирамида распалась, и девочка побежала по полю, а потом по беговой дорожке вокруг стадиона, высоко поднимая факел над головой. Ее косички-лучи с маленькими красными бантиками на концах весело подпрыгивали.
Из репродукторов, установленных на стадионе, в квартире Рощиных и по всей стране, летели слова обращения:
Подхваченная новым порывом, поднявшим стадион, Надя аплодировала девочке-солнцу. Аплодировала вместе с Гагариным, который стоял на противоположной трибуне и тоже радовался красивому зрелищу, синему небу, зеленому полю стадиона.
— Молоток негритоска, да? Во причесочка — закачаешься! — крикнула Оля, близко наклонившись к лицу подруги.
Глаза ее сияли. Надя восторженно кивнула. Она переживала уже знакомое чувство. Первый раз это было на Красной площади, когда ее принимали в пионеры.
Праздник шумно катился от одного события к другому. И вдруг Надя услышала из репродуктора свою фамилию. Старшая пионервожатая, вышедшая к микрофону, установленному у кромки зеленого поля, громко и медленно выкрикивала слова:
— Совет!.. Дружины!.. Артека!.. Рекомендует!.. На пост!.. Президента!.. Юных!.. Друзей!.. Искусства!.. Художницу!.. Надю!.. Рощину!..
Трибуны уходили вверх, а Надя сбегала по ступенькам вниз, провожаемая аплодисментами, которые накатывались на ее плечи, как прибой.
Запыхавшаяся Надя стала рядом с пионервожатой.
— Дружины, встать! Смирно! Флаг юных друзей искусства внести!
Ударили барабаны, вскинулись к небу серебряные трупы. Металл горнов плавился в ослепительной игре солнца, и выковывалась музыка, пронзительная и сладкая. Два мальчика и две девочки несли за четыре конца розовое полотнище с эмблемой клуба. Оно плескалось, надуваемое снизу ветром, а ребята, медленно чеканя шаг, приближались к флагштоку.
— Равнение на флаг!
Флаг медленно поплыл из рук ребят вверх. И все, кто был на стадионе, следили за ним, запрокидывая головы, пока полотнище не достигло самой высокой точки. И вот уже флаг затрепетал на солнце. Надя была в восторге от этого артековского ритуала. Это было единственное место на земле, где флаг с эмблемой палитры и кисти поднимался во славу искусства, как на больших спортивных соревнованиях. И все ему аплодировали, усиливая хлопками ветер.
— Сейчас ты будешь говорить, — предупредила шепотом пионервожатая.
— О чем? — испугалась девочка.
— О себе. Расскажи биографию, про польскую и московскую выставки. И прочтешь президентскую клятву.
Она сунула ей в руку лист бумаги, на котором крупными буквами были напечатаны несколько строк.
Надя не помнила, что говорила, как читала клятву. Ее голос, тысячекратно усиленный микрофоном и динамиками, летел над стадионом, и каждое новое слово немного пугало громкостью и торжественностью.
Она опустила бумажку и хотела бежать через футбольное поле стадиона на свое место. Но пионервожатая поймала Надю за плечи и направила на центральную трибуну, в президиум. Пионеры, стоявшие цепочкой, салютуя, пропустили ее, показали свободное место.
Надя села, ничего не видя, кроме флагов, и ничего не слыша, кроме биения сердца. Прошла минута или две, прежде чем она обернулась, услышав знакомый голос, мягкий, с мальчишескими интонациями. Через два ряда от нее сидел Юрий Гагарин. Слегка отклонившись назад, он разговаривал с девочкой, протягивавшей ему открытку для автографа. Надя с досадой подумала о том, что не взяла свои открытки на стадион. И блокнот оставила. Она вспомнила совет отца: «Если хочешь что-нибудь запомнить, несколько раз закрой и открой глаза». Девочка посмотрела на Гагарина и закрыла глаза, стараясь мысленно увидеть каждую морщинку на его лице. Она четко представила его портрет и с этого момента чаще оглядывалась на Татарина, чем смотрела вниз, где на беговых дорожках и зеленом поле продолжался праздник открытия слета.
В тот же день, выбрав минутку, Надя написала домой: «Дорогие родители! Я — Президент КЮДИ (клуб юных друзей искусства). После обеда была председателем жюри на конкурсе имени Чайковского вместе с Олей Ермаковой (девочка-скрипачка из Павлодара). Она мой вице-президент. На море купаться не ходила, потому что заседали, подводили итоги».
Отец коротко ответил:
«Поздравляем с президентством! Будь справедлива!»
Вечером от факела девочки-солнца зажгли костры по всему Артеку. На костровой площади Лесной и Полевой дружины искры пламени улетали так высоко, что казалось — там, над кипарисами, они не исчезают, а превращаются в звезды.
Надя смотрела сквозь очки на пламя и отдыхала, слушая песню о барабанщике.
— А ты почему не поешь, чаби-чараби? — спросил быстроглазый мальчишка из Баку, которого звали не Алик Тофиев, а Тофик Алиев.
— Чаби-чараби? А что это такое? — поинтересовалась Надя. — Как переводятся эти слова?
— Никак. Просто веселые слова. Чаби-чараби прислал вам привет. У чаби-чараби родственников нет. Хочешь подарю насовсем? Ты будешь говорить мою поговорку, а я буду молчать, как рыба.
— Нет, я не могу принять такой дорогой подарок, — улыбнулась Надя.
— Почему не хочешь? «Чаби-чараби» — хорошая поговорка. Сам придумал.
— У меня нет хорошей поговорки взамен.
— Не надо взамен. Бери без замена. Эх, не хочешь, чаби-чараби. Пропадает зря щедрость большого сердца.
Тофика Алиева Марат Антонович тоже, пригласил а пресс-центр, и он успел уже к открытию слета сочинить стихотворение про Гагарина.
— Слушай, — наклонился он к девочке, заглядывая в глаза сквозь играющие на стеклах очков красноватые блики. — Ты любишь стихи?
— Люблю.
— Хочешь, я тебе буду сочинять каждый день по два стихотворения, как для газеты пресс-центра?
— Хочу.
— Тогда бежим к морю смотреть волны при луне. Там знаешь какие сейчас волны, чаби-чараби. Мы вернемся к четвертому куплету.
Надя засмеялась. В песне о барабанщике не было четвертого куплета.
— Сбежим, — согласилась она.
Тофик и Надя ринулись вниз под гору, и, пока долетали до них голоса с костровой площади, они повторяли на бегу третий куплет:
На середине спуска Тофик остановился, собираясь о чем-то спросить. Надя, не ожидавшая этого, налетела на него, и оба чуть не упали. Чтобы сохранить равновесие, они ухватились друг за друга и тут же поспешно отстранились.
— Побежим, чаби-чараби, дальше, — смущенно сказал мальчишка.
Подгоняемые крутым спуском, они понеслись наперегонки к темнеющей внизу кромке берега, устланного морской галькой.
У самой воды Надя остановилась и замерла, неподвижно глядя вдаль. Она вслушивалась в шелест гальки и в шум разбивающейся о скалы воды. Море и небо сливались на горизонте, и огни далеких звезд казались огоньками загадочных корабликов.
— Хорошо здесь, нравится, да? — спросил Тофик.
Надя сбросила тапочки, сняла гольфы и, осторожно касаясь пальцами морской гальки, пошла вперед. Пенный гребешок волны разбился об ее коленки, осыпал брызгами. Надя радостно вскрикнула, но осталась на месте.
— Вы прошли «Евгения Онегина»? — спросила она.
— Прошли, да. Почему спрашиваешь?
Большая волна накатилась, посверкивая белым гребешком. Надя резво бросилась бежать от моря, чувствуя, как оно из-под ног выхватывает мелкие камушки, весело щекоча ступни.
— Зачем спрашиваешь про «Онегина»?
— Это оттуда море, — объяснила она. — То самое море из «Евгения Онегина». Из первой главы, понял? Мария Раевская стояла здесь, где я, а Пушкин сидел там, — она махнула рукой в сторону большого камня. — У Айвазовского есть картина. Это самое место. «Я помню море пред грозою: как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам».
— Я знаю дальше, — оживился Тофик. — Подожди, не читай. Это я должен читать. Стой, как Мария Раевская, а я буду, как Пушкин, читать.
Он подбежал к камню, вскарабкался на него и крикнул:
— «Как я хотел!» Нет! «Как я желал тогда с волнами коснуться…», — взмахнул рукой и замолчал.
Дальше у Пушкина следовала строчка: «Коснуться милых ног устами».
— Я лучше другие стихи тебе прочту, — предложил Тофик, — не из программы.
— Не надо, — остановила его Надя.
В ее голосе прозвучали иронические нотки.
— Почему не надо?
— Потому, что я не Раевская, а ты не Пушкин.
— Да, — согласился Тофик. — Я не Пушкин. А ты все равно Раевская.
«А «Коснуться милых ног устами» не мог произнести», — подумала Надя и засмеялась, как взрослая над маленьким.
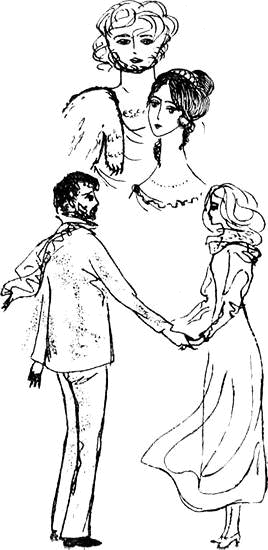 |
Возбуждение дня было так велико, что никто сразу заснуть не смог. Лежала и Надя с открытыми глазами. А стоило ей зажмуриться, как ей представлялись отдельные самые яркие эпизоды праздника. Пламя на костровой площади и бьющееся на ветру красное полотнище с эмблемой клуба юных друзей искусства смешивались, и получался один гигантский костер открытия слета.
— А я не желаю спать, — неожиданно сказала Оля.
— А что ты желаешь? — спросила Люда, сладко потягиваясь.
Большеглазая медлительная девочка потягивалась с грацией ленивой кошки. Домашние ее звали Кисой, но здесь она была просто Люда из Черкасс. Утром после завтрака, когда все уже занимались делом, скрипнула дверь, и в комнату пресс-центра заглянула грациозная Люда.
— Я хочу работать в пресс-центре, — сказала она нараспев и добавила: — У вас тут весело.
— А что ты умеешь? — поинтересовался Марат Антонович.
— Я ничего не умею, — все так же нараспев ответила она. — У меня нет никаких талантов.
Ответ рассмешил всех, и Марат, улыбаясь, сказал:
— Просто счастье, что ты к нам пришла. А то мы собрались тут одни таланты. Оля репортажи пишет, Надя рисует, Тофик рифму к рифме подбирает, я руковожу, и некому выполнять обязанности секретаря редакции. Ты будешь им. У тебя почерк хороший?
— Хороший, когда постараюсь. Значит, вы меня возьмете? — и обвела всех доверчивым взглядом.
— Конечно, чаби-чараби, — поставил точку Тофик.
Так в пресс-центре появился секретарь, и через насколько дней все убедились, что Люда на этом месте талантлива и незаменима…
— А я хочу бросаться подушками, — после паузы сказала Оля.
— Ну и бросайся, — подзадорила ее Рита.
Эта девочка из Свердловска до приезда в Артек тоже считала себя художницей. Она довольно прилично работала акварелью и маслом, но, увидев рисунки Нади, наотрез отказалась делать иллюстрации и писала только шрифтовые заголовки.
Рита была низенькая, настоящая коротышка. Но зато она имела самые длинные косы в Артеке.
— Девочки, она хочет бросаться словами, а не подушками, — медленно, нараспев проговорила Люда-киса. И едва она закончила, как над ней в темноте пролетел большой белый снаряд и плюхнулся на соседнюю кровать. Там спала Ира Апрельмай. Пружины матраса под ней взвизгнули, и обе подушки, сначала чужая, а потом своя, полетели в Олю.
— Надька, наших бьют! — крикнула Рита, вскочила и принялась раскручивать над головой одеяло.
Началась всеобщая потасовка. У чьей-то подушки прорвалась наволочка, и в воздухе замелькали белые перышки и пушинки. Надя тоже сгребла подушку, но никак не могла выбрать момента, чтобы швырнуть ее.
Гейле очень понравилась эта игра. Она подпрыгивала на кровати и хлопала в ладоши:
— И я хотел! Давай! Давай! Пора! Давай! И я!
— Получай-держи! — крикнула Оля.
Гейла радостно поймала подушку, опрокинулась с ней навзничь и захохотала. А вокруг тотчас раздалось несколько боевых кличей:
— За Австралию!
Надя наконец швырнула подушку, но в это время открылась дверь и Милана остановилась на пороге изумленная.
В палате воцарилась тишина. Все сделали вид, что спят, даже Люда, у которой не осталось ни подушки, ни одеяла. Застигнутая врасплох ярким светом, она зажмурилась и лежала на своей кровати в маечке и трусах, оставлявших открытыми цыплячьи ключицы и ноги.
— Чья это подушка? — трагическим голосом спросила вожатая.
— Моя, — ответила Надя и посмотрела доверчиво и беспомощно.
Милана всплеснула руками:
— Надя! — ужаснулась она. — Серьезная воспитанная девочка, — и, покачав головой, начала снова: — Надя, от тебя я этого просто не ожидала.
— Чего вы к ней пристали? — не выдержала Оля. — Отдайте подушку.
— А где твоя подушка, адвокат? — повернулась к ней Милана.
— Я не адвокат, а школьница, — сказала девочка и, не выдержав взятой на себя роли, улыбнулась, приглашая вожатую отнестись с юмором к тому, что произошло.
— Очень приятно познакомиться, школьница. Так где же твоя подушка, школьница?
— Я отдала ее Гейле. Она гость, из Австралии. Мир-дружба.
— Мир-дружба, — оживилась Гейла. — Мир-дружба, — закивала она радостно головой, думая, что помогает вожатой разобраться в несерьезности происшествия.
— А где твое одеяло? — тронула Милана за плечо Люду.
— Не знаю. Наверное, оно упало. Я брыкалась во сне.
— Ну, конечно… Ты тоже из пресс-центра, — вспомнила вожатая и уточнила: — Все трое из пресс-центра. Ну, так пусть с вами разбирается Марат Антонович.
Она вышла, не оглядываясь и не погасив света, давая понять, что разговор только начинается.
Когда пришел Марат, в палате был идеальный порядок. В темноте спокойно поблескивали погашенные плафоны, сквозь раздвинутую стеклянную стану, выходящую к морю, дул влажный ветерок. Взлетала и падала легкая штора.
Вожатый прошел к раздвинутой стене, слегка пригибаясь, словно сзади него показывали кино и он боялся, что тень от головы появится на экране.
— Света зажигать мы не будем, — сказал он, — поговорим так.
Девочки притаились.
— Спите, разбойники, или притворяетесь?
В его голосе не слышалось вражды и нравоучительных интонаций, и девочки осторожно зашевелились.
— Спим, — грустно сказала Надя.
— Дрыхнем без задних ног, — поддержала ее Оля.
— Ага, — подтвердила Люда.
— Насколько я понимаю, отозвались все главные виновники происшествия.
— Не все, — вздохнула Рита.
— Еще одна объявилась. Теперь все?
Марат говорил и чувствовал: нет в его голосе металла. Он отчетливо понимал, что не подходит со своим маленьким ростом и улыбчивым настроением для строгого педагогического разговора. И вообще он не понимал, зачем Милана послала его сюда. Ну, бросалась Надя Рощина подушками. Ей же в конце концов не сорок лет, а пятнадцать. Было бы странно, если бы она не бросалась.
— Ну и хорошо, что спите, — сказал он. — Это от вас и требуется. Обсуждение вашего поведения отложим на утро.
— Нет, Марат Антонович, так не годится, — сказала Оля, — сами говорили, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра мы еще что-нибудь натворим.
Она тихонько засмеялась. И на других кроватях послышались смешки.
— Значит, вы все-таки не спите?
— Мы проснулись, — сообщила Рита. — Правда, девочки?
— Мы проснулись, чтобы вы нас немножко повоспитывали сегодня, — мечтательно произнесла Люда, глядя в потолок.
Девочки уловили, что он хочет сбежать от обязанностей взрослого человека, не желает читать им нотации, и радостно оживились.
— Ну и ну, — засмеялся он. — Какие вы, оказывается, невоспитанные. Не можете уснуть без колыбельной песни.
Всех рассмешило, что Марат назвал нотацию колыбельной песней. Люда от восторга пискнула, Ира Апрель-май так громко хмыкнула в одеяло, что вызвала оживление в палате.
— Ну, так вот, — остановил их вожатый, — подушками бросаться нехорошо. Это безобразие. Я вполне согласен с Миланой Григорьевной. И вы согласны с ней и со мной, а значит, делать этого больше не будете. А будете сейчас спать без задних ног и видеть цветные и черно-белые сны. Спокойной ночи!
— У-у-у! Так коротко, — огорчилась Оля. — Колыбельные песни не бывают такими короткими. Колыбельная песня должна быть длинной и красивой.
— Вы что, — засмеялся вожатый, — может быть, в самом деле собираетесь заставить меня петь колыбельные песни?
— Мы будем лежать тихо-тихо, — пообещала очень серьезная Ира Апрельмай.
— Забавно, — покачал головой Марат. — Я не знал, что мне придется петь в Артеке. Нас этому не учили.
— А вы расскажите, как стихи, — предложила Оля.
В палате возник шумок, подтверждающий, что все согласны с Ирой Апрельмай и Олей. А потом наступила тишина ожидания. Слышно было только, как шелестит ветер шторой и далеко внизу накатывается на гальку и сползает назад море.
Марат решил все обратить в шутку. Он театрально кашлянул и продекламировал первые две строки колыбельной песни, которые ему показались подходящими для такого случая:
Никто не пошевельнулся, все ждали продолжения. Смущенный вниманием, которое с каждым мгновением все нарастало, он прочитал дальше:
— Это вы с ходу про Оленьку сочинили? — удивилась Люда.
— Нет, это Римский-Корсаков сочинил. В опере «Псковитянка», вернее, в прологе к опере, эту песенку поет своей дочери Оленьке Вера Шелога. Отцом Оленьки был Иван Грозный.
— У нашей Оли отец Иван Грозный, — хохотнула Ира Апрельмай, но ее никто не поддержал.
— Марат Антонович, а еще какие-нибудь колыбельные песни вы знаете? — тихо спросила Надя.
— Знаю, — он щелкнул в воздухе пальцами. — Я вам прочту колыбельную песню Марины Цветаевой:
Колыбельную песню Цветаевой Надя слушала с особым настроением доверчивости и благодарности. Ей казалось, что ту, первую, вожатый прочитал для Оли и для всех, а эту читает только для нее:
Слова были непонятные, колдовские, но музыка их завораживала, убаюкивала.
Марат читал с удовольствием стихи. Когда Милана приложила ухо к двери, она услышала:
Милана на цыпочках отошла от двери. Она была в недоумении. Она не понимала, что происходит. Да и Марат не понимал. Он читал все новые и новые песни, которые слышал в детстве или узнал уже взрослым: и «Казачью колыбельную» Лермонтова, и андалузскую Гарсиа Лорки, и колыбельную песню Моцарта. Он купался в тихой музыке, доносящейся к нему из страны детства, как купаются сказочные герои в молоке, чтобы выйти обновленными. Его московские госфильмофондовские знакомые страшно удивились бы, если бы узнали, как странно на него повлиял Артек. «Впал в детство», — сказали бы они.
«А может быть, выпал из скучной взрослости?» — подумал Марат. Там, дома, в Лаврушинском переулке, в его кабинете на стене была фреска. Он проспорил эту стену одному известному актеру, который баловался живописью, писал картины по сухой штукатурке. С дерзостью самоуверенного дилетанта актер изобразил в центре умопомрачительное языческое солнце с отходящими в стороны рогами буйвола, а по краям поместил двух обнаженных женщин. На коленях у них сидели синие птицы. «Хорошо бы закрасить хищные кричащие тела женщин, — подумал он, — и попросить Надю Рощину нарисовать на этом месте что-нибудь тонкое и нежное, как колыбельная песня Моцарта».
После ухода вожатого Надя заснула не сразу. Она лежала с закрытыми глазами и молчала. Ей хотелось продлить ощущение непонятной тревоги, от которой сладостно замирало сердце.
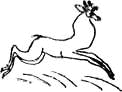 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |