"О малышах" - читать интересную книгу автора (Джером Джером Клапка)
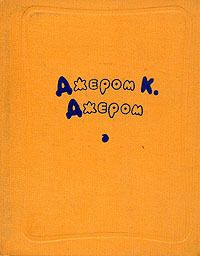 |
Джером Клапка Джером О МАЛЫШАХ Эссе
О да, я много знаю о них, очень много. Я сам когда-то был одним из них, хотя и короткий срок, короче моих детских рубашечек — они-то, помню, были очень длинными и постоянно мешали мне брыкаться. Зачем только детям так много ярдов ненужной ткани? Я спрашиваю не из праздного любопытства. Мне действительно хочется получить вразумительный ответ. Я никогда не мог этого понять. Может быть, родители стыдятся, что младенец так мал, и хотят, чтобы он казался побольше? Как-то раз я заговорил на эту тему с одной кормилицей.
— Боже мой, сэр, их всегда одевают в длинные платьица, да хранит их господь! — воскликнула она.
Когда же я заметил, что, хотя подобный ответ и делает честь ее чувствам, однако едва ли разрешает мое недоумение, она сказала:
— Господи, но не одевать же бедных малюток в короткие рубашонки, сэр! — И она произнесла это таким тоном, словно в моих словах крылось неслыханное оскорбление.
С тех пор я уже не решаюсь доискиваться разгадки этого вопроса, и, если таковая существует, она все еще остается для меня тайной. Но, право, мне вообще кажется нелепым надевать что-либо на маленьких детей. Бог свидетель, нам за всю нашу жизнь так надоедает то одеваться, то раздеваться, что, пока можно, лучше обходиться без этого. Надо думать, что хоть тех представителей рода человеческого, которые еще проводят свою жизнь в постельках, можно бы избавить от мучений. К чему будить по утрам бедных малышей только ради того, чтобы, сняв с них один ворох одежек, заменить его другим и снова уложить их в постельку, а потом, вечером, еще раз вытаскивать их оттуда лишь для того, чтоб одеть по-прежнему. А когда все это проделано, видна ли, позвольте спросить, хоть какая-нибудь разница между ночной рубашечкой и дневной?
Весьма возможно, однако, что, рассуждая подобным образом, я ставлю себя в смешное положение — со мной, говорят, это частенько бывает, — и я воздержусь от дальнейших высказываний по поводу детских рубашечек; замечу только, что неплохо бы ввести два разных фасона, чтобы отличать мальчиков от девочек.
В настоящее время это очень затруднительно. Ни их прическа, ни их платье, ни их речь не дают на то ни малейшего указания, и вам остается только гадать. К тому же, по какому-то непостижимому закону природы, вы неизменно ошибаетесь, в результате чего все родственники и знакомые начинают считать вас некоей помесью глупца и мошенника, — ведь, сказав о новорожденном мальчике «она», вы совершаете страшное преступление, которое по своей чудовищности может сравниться разве только с употреблением слова «он» в беседе о новорожденной девочке. К какому бы полу данный ребенок ни принадлежал, противоположный пол считается не заслуживающим даже презрения, так что всякое упоминание о нем воспринимается всей семьей как личная обида.
И, если только вы дорожите своим добрым именем, не пытайтесь выйти из затруднения при помощи слова «оно». Существуют разные способы достичь бесчестия и позора. Убив с полным хладнокровием большую почтенную семью и сбросив трупы в водопроводный люк, вы завоюете себе этим дурную славу во всей округе. Даже ограблением церкви вы добьетесь того, что вас невзлюбят всем сердцем, особенно приходский священник. Но если вы хотите испить до дна самую горькую чашу презрения и ненависти, какую только ваш ближний может вам предложить, — назовите милую крошку «оно» в присутствии молодой матери.
Лучший способ обращаться к малютке — это именовать его «ангелочек». Слово «ангелочек», применимое в равной мере и к мальчику и к девочке, как нельзя больше подходит для такого случая, и это определение наверняка будет принято благосклонно. Для разнообразия можно еще прибегать к словам «душечка» или «прелесть», но «ангелочек» — именно тот термин, который обеспечит вам прочную репутацию человека умного и доброжелательного. Произнося это слово, нужно предварительно хихикнуть, а затем расплыться в самой широкой улыбке. И уж во всяком случае не забудьте сказать, что у ребенка отцовский нос. Этим вы больше всего умаслите родителей (да простится мне такой вульгаризм). Сначала они притворно рассмеются и скажут: «Какой вздор!» Но тут вы должны прийти в азарт, настойчиво утверждая, что это в самом деле так. Притом ваша совесть может быть спокойна: носик малютки действительно похож на отцовский нос — по крайней мере не меньше, чем на что-либо другое, так как представляет собой просто-напросто «кнопку».
Не пренебрегайте этими советами, друзья мои. Может прийти момент, когда, зажатый с боков мамой и бабушкой, чувствуя у себя за спиной группу восхищенных (однако не вами!) молодых девушек, очутившись лицом к лицу с безволосым маленьким существом, не зная, что сказать, вы будете от всей души благодарны за любую подсказку. Для мужчины — я имею в виду холостого мужчину — нет более тяжкого испытания, чем «лицезрение младенца». Его бросает в дрожь при одном только предложении посмотреть на малютку, и вымученная улыбка, с которой он говорит, что будет этому необычайно рад, могла бы тронуть даже сердце молодой матери, не будь подобное испытание (как я склонен думать) просто женским маневром, имеющим целью отвадить от дома холостых приятелей мужа.
Это, однако, жестокая уловка, чем бы ее ни оправдывать. Вот позвонили в колокольчик и послали кого-то за кормилицей с ребенком. Это сигнал для всех присутствующих женщин с головой уйти в разговор о малышах, во время которого вы предоставлены своим собственным печальным думам и размышлениям о том, нельзя ли сейчас внезапно вспомнить о некоем важном свидании, и если да, то поверят ли вам. Но в тот самый момент, когда вы уже состряпали совершенно неправдоподобный рассказ о человеке, который ждет вас на улице, дверь открывается, и в комнату входит высокая суровая женщина, неся на руках нечто, напоминающее на первый взгляд тощий-претощий постельный валик, в котором все перья сбились на один конец. Однако инстинкт подсказывает вам, что это ребенок, и вы вскакиваете, делая жалкую попытку изобразить нетерпение. Когда иссякает поток восторженных восклицаний, которыми женщины приветствуют вышеупомянутого младенца, и из множества дам, говорящих наперебой, остается не более четырех-пяти, круг трепещущих юбок размыкается, очищая для вас свободное пространство. И вы идете вперед с таким же точно выражением лица, как если бы вас вели на скамью подсудимых на Боу-стрит[1], — и вот, чувствуя себя невыразимо несчастным, вы стоите и торжественно взираете на дитя. Воцаряется гробовое молчание, — вы знаете, что все ждут вашего слова. Вы мучительно ищете, что бы такое сказать, но с ужасом обнаруживаете, что утратили все свои умственные способности. Наступает минута отчаяния, и тут-то ваш злой гений не упускает случая внушить вам самое идиотское замечание, какое только может прийти человеку в голову. Взглянув на окружающих с глупой улыбкой, вы игриво говорите: «А оно, как будто, не отличается пышной шевелюрой?» С минуту вам никто не отвечает, но, наконец, величественная кормилица с важностью произносит: «Ребенку пяти недель от роду и не положено иметь длинные волосы». Снова наступает молчание, — вы чувствуете, что вам вторично предоставлена возможность высказаться, и вы пользуетесь ею, чтобы спросить, умеет ли оно ходить или чем его кормят.
К этому моменту вы уже достигли того, что все считают вас не в своем уме, и вы вызываете только жалость. Все же кормилица решает, что, сумасшедший вы или нет, но никаких поблажек допускать нельзя и вам надлежит пройти испытание до конца. Тоном верховной жрицы, свершающей религиозный обряд, она говорит, протягивая вам свой сверток; «Возьмите ее на руки, сэр». Вы слишком подавлены, чтобы сопротивляться, и робко принимаете сверток. «Держите ее пониже талии, сэр», — говорит верховная жрица, и все расступаются, с интересом наблюдая за вами, словно вы собираетесь показать какой-то фокус.
Что теперь делать, вы не знаете так же, как не знали, что надо говорить. Однако что-то делать необходимо, и единственная мысль, приходящая вам в голову, — это подбрасывать несчастного ребенка, восклицая «оп-ля, оп-ля» или что-либо столь же осмысленное. «Я бы на вашем месте не стала ее подкидывать, — говорит кормилица. — У нее от малейшей встряски расстраивается желудочек». Вы, конечно, немедленно перестаете ее подкидывать, от всей души надеясь, что не успели еще зайти слишком далеко.
И тут сам младенец, который до сих пор только смотрел на вас со смешанным чувством ужаса я отвращения, кладет конец бессмысленной сцене, принимаясь вопить истошным голосом, так что жрица бросается вперед и выхватывает его у вас, приговаривая: «Ну-ну, тише, тише! Где у нас бо-бо?» — «Вот странно! — говорите вы с заискивающим видом. — Что с ним творится?» — «Как что! Вы, должно быть, сделали ей больно! — с негодованием отвечает мамаша. — Малышка не стала бы так кричать ни с того ни с сего». Вас явно подозревают в том, что вы втыкали в младенца булавки.
Наконец плаксу удается успокоить, ребенок готов уже совсем утихомириться, но тут вдруг выскакивает какой-нибудь зловредный бездельник, указывает на вас пальцем и спрашивает: «А это кто, деточка?» — и смышленый малыш, узнав вас, снова начинает орать, еще громче прежнего.
Тогда какая-нибудь полная старая дама замечает: «Прямо удивительно, как это дети проникаются антипатией к некоторым людям». — «О, они все понимают», — подхватывает другая с загадочным видом. «Да, просто поразительно», — добавляет третья, и все искоса смотрят на вас, уверенные в том, что вы самый отъявленный негодяй; и все торжествуют, придя к блестящей мысли, что малое дитя каким-то особым чутьем разгадало вашу подлинную натуру, укрывшуюся от взрослых.
Несмотря на все свои провинности и прегрешения, дети все же небесполезные существа; конечно, они небесполезны, когда могут заполнить собою чье-нибудь пустое сердце; они небесполезны, когда по их зову солнечный луч любви внезапно озаряет отуманенные заботой лица; они небесполезны, когда своими пальчиками разглаживают морщины, превращая их в улыбки.
Забавные человечки! Сами того не ведая, они — комические актеры на великой сцене нашего мира. Они вносят юмор в слишком тяжелую драму жизни. Каждый ребенок — маленький, но решительный противник всего существующего порядка вещей — непременно делает что-нибудь неподходящее, в неподходящее время, в неподходящем месте и неподходящим образом. Молоденькая няня, которая послала Дженни посмотреть, что делают Томми и Тотти, и сказать им, чтобы они этого не делали, хорошо знала детскую натуру. Предоставьте любому нормальному ребенку удобный случай, и если он не сделает ничего недозволенного, то немедленно посылайте за докторам.
Они обладают особым талантом совершать самые смешные поступки с такой милой важностью, так невозмутимо. Когда два малыша, взявшись за руки, бесшабашно пускаются ковылять прямо в восточном направлении, в то время когда встревоженная старшая сестра громко зовет их следовать за нею на запад, — их деловой вид уморительно смешон (только, вероятно, не для старшей сестры). Они ходят вокруг солдата, уставясь с величайшим любопытством на его ноги, и пробуют пальчиком, настоящий он или нет.
Вопреки всем доводам и к великому смущению своей жертвы они упрямо называют «па-па» застенчивого молодого человека в противоположном конце омнибуса. Людный перекресток представляется им самым подходящим местом, чтобы пронзительным дискантом обсуждать вопросы сугубо семейного характера. При переходе через улицу, на середине мостовой, их внезапно охватывает желание танцевать, а на пороге шумного магазина они непременно усядутся, чтобы снять с себя башмаки.
Дома им приходит в голову, что взбираться по лестнице удобнее всего с помощью самой большой трости, какая только найдется, или зонтика, предпочтительно в открытом виде. Они испытывают прилив любви к Мэри-Энн именно в ту минуту, когда эта верная служанка начищает камин графитом, и под напором чувств им необходимо немедленно заключить ее в объятия. Что касается еды, то их любимое блюдо — это уголь или мясо из кошкиного блюдца. Они нянчат киску, держа ее вниз головой, а желая выразить свою привязанность к собаке, тянут ее за хвост.
С детьми не оберешься хлопот, в доме из-за них вечный беспорядок, содержать их стоит больших денег, — и все же вы не захотите, чтобы в доме не было детей. Без их шумных голосов, без их проказливых ручонок не может быть домашнего уюта. Не слишком ли тихо будет в комнатах без топота маленьких ножек и не разойдетесь ли вы в разные стороны, если вас не позовет обратно детский голос?
Так, казалось бы, должно быть, и все же, думается мне, крошечная ручка порою разобщает взрослых, как бы вклиниваясь между ними. Неприятная задача — выступать против одного из самых чистых человеческих чувств, против материнской любви, венчающей жизнь женщины. Это — святая любовь, которую мы, толстокожие мужчины, едва ли можем до конца понять, и мне не хотелось бы, чтобы в словах моих усмотрели непочтение к ней, когда я говорю, что она, тем не менее, не должна поглощать все другие чувства. Ребенок не должен безраздельно завладевать всем вашим сердцем, подобно тому богачу, который обнес оградой источник в пустыне. Ведь рядом есть и другой путник, испытывающий жажду.
В стремлении быть хорошей матерью не забывайте быть и хорошей женой. Нет нужды посвящать все мысли и заботы только одному существу. Когда бедный Эдвин предлагает вам пойти с ним куда-нибудь, не отвечайте ему всякий раз с возмущением: «Как! оставить малютку?» Не проводите все вечера в детской и не ограничивайтесь в своих беседах исключительно коклюшем и корью. Милые женщины, когда ребенок чихает, это еще не значит, что ему непременно угрожает смерть; когда вы уходите из дому, это еще не значит, что дом должен сгореть, а няня — убежать с каким-нибудь солдатом; кошка не обязательно вскочит на грудку драгоценного ребенка, как только вы отойдете от его постели. Вы слишком изводите себя из-за своего единственного птенца, да и всех окружающих изводите.
Попробуйте вспомнить и о других своих обязанностях, и на вашем хорошеньком личике разгладятся морщины, и веселье водворится в гостиной, так же как и в детской. Подумайте немножко и о своем большом ребенке. Похлопочите чуточку и вокруг него, называйте и его ласкательными именами, улыбнитесь иной раз и ему. Только своему первому ребенку отдает женщина все время. Пятерым-шестерым детям уделяется далеко не так много внимания, как единственному ребенку. Но пока они появятся, ущерб уже нанесен. Дом, в котором муж чувствует себя как бы посторонним, и жена, слишком занятая, чтобы думать о муже, успели наскучить неблагоразумному супругу, и он привык искать отдыха и друзей где-нибудь на стороне.
Ну, ну! Тише! Тише! Если я и дальше буду говорить в таком же духе, то приобрету репутацию детоненавистника. Но, бог свидетель, это не так. Да кто бы мог быть детоненавистником, глядя на невинные личики тех, что с робкой беспомощностью теснятся у великих ворот, открывающихся в мир?
Мир! Наш маленький, ограниченный мир! Каким огромным и таинственным представляется он детским глазам! Каким неисследованным материком кажется им сад позади дома! Какие удивительные открытия делают они в погребе под лестницей! С каким трепетом смотрят они на длинную улицу, гадая, где все это кончается, совсем как мы, взрослые дети, когда смотрим на звездное небо.
А какой взор устремляют они на длиннейшую из всех дорог — на длинную мглистую дорогу жизни! Сколько в нем недетской серьезности. Какой это иногда бывает жалкий, испуганный взор. Однажды вечером в трущобах Сохо я увидел маленького ребенка, сидевшего на пороге дома, — я никогда не забуду его взгляда, который я уловил при свете газового фонаря, скользившем по сморщенному личику: это был взгляд, полный тупого отчаяния, как будто из глубины мрачного двора встал перед ребенком призрак его мрачного будущего и поразил его сердце смертельным ужасом.
Бедняжки, только-только ступившие своими маленькими ножками на кремнистый путь! Мы, старые путешественники, ушедшие уже далеко по этой дороге, можем только остановиться и помахать вам рукой. Вы выходите из темной мглы, и мы, глядя назад, видим, как вы, такие крошечные на расстоянии, стоите над крутым склоном, простирая к нам руки. Помоги вам боже! Мы бы задержались и повели вас за ручку, но в ушах у нас стоит рокот великого океана, и нам нельзя мешкать. Нам нужно спешить туда, вниз, где призрачные корабли уже готовятся распустить свои черные паруса.
1886
(support [a t] reallib.org)