"Она смошенничала…" - читать интересную книгу автора (Болчин Найджел)
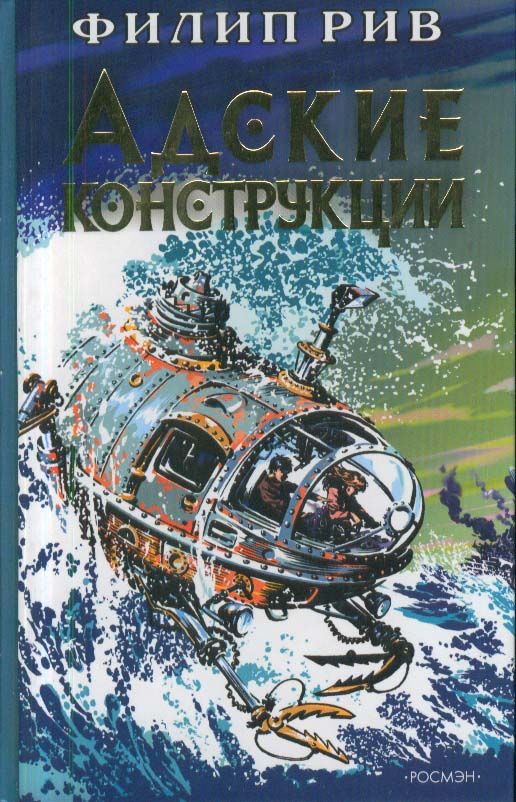 |
Найджел Болчин Она смошенничала…
Доктор Скаулер был физиком с весьма неприятным характером. Он был членом того же клуба, что и я, и время от времени в баре или в курительной, где собиралось более двух человек, любил самодовольно выдавать нам очередную порцию научной чепухи. Мне это никогда не нравилось, и, так как в нашем клубе принято обо всем говорить прямо, я не упускал случая сказать ему, что он напыщенный осел.
Но Скаулер принадлежал к той странной категории людей, которые никогда не делают разницы между старым другом и старым врагом. Стоило несколько раз нагрубить ему, как он начинал смотреть на тебя если не как на товарища, то уж по крайней мере как на человека, чье общество ему весьма приятно. Я не думаю, чтобы у него были настоящие друзья, он не пользовался успехом в обществе, но в своей области у него была репутация человека выдающегося.
Все это было очень давно, еще в начале двадцатых годов, и я не помню, как это случилось, что я попал к Скаулеру домой. Но помню, что у меня осталось очень неприятное впечатление от этого визита.
Скаулер был еще сравнительно молод, но уже имел двоих детей: мальчика и девочку. По всей вероятности, в доме не хватало денег — это как-то сразу бросалось в глаза. Но что мне особенно не понравилось, так это отношение Скаулера к своей семье. Оно представляло собой как бы расширенный вариант его глупого поведения в клубе: самоуверенная снисходительность и зазнайство, доведенные до предела. Он говорил о своей жене и обращался с ней, словно она была слабоумная, надеясь, что и другие станут относиться к ней точно так же.
Бедная женщина попросту боялась его. С детьми он разговаривал в особой, издевательской манере: что бы ни было сказано или сделано ими, немедленно становилось предметом запутанного псевдонаучного спора, главной целью которого, казалось, было сбить их с толку и выставить дураками.
Я помню, как мальчик, которому было лет десять, нечаянно пролил стакан воды. Вместо того чтобы не обратить на это никакого внимания или назвать его растяпой, Скау-
лер завел длинный разговор о физических свойствах жидких тел. Он обращался как бы ко мне, но перемежал свою речь словами вроде «как Рою хорошо известно» или «как моему сыну неоднократно объясняли в школе» до тех пор, пока мальчик не разревелся, что, видимо, доставило Скаулеру большое удовольствие.
Я себя чувствовал очень неловко в этой обстановке и больше к нему не ходил. Вообще я начал избегать Скаулера, и, когда несколько месяцев спустя он перевелся из Лондона в один из провинциальных университетов, никто в клубе об этом не пожалел.
Я не видел Скаулера несколько лет, но время от времени слышал о нем. Он добился блестящих успехов в своей области и считался одним из ведущих физиков Англии.
Однажды — кажется, это было году в 37-м — Скаулер снова появился в клубе. Он не очень изменился ни внешне, ни внутренне, разве что казался еще более уверенным в том, что лучшая часть человечества — это аристократы-физики, а все остальное — просто сброд.
Он снова работал в Лондоне и остался ночевать в клубе, где я в то время жил постоянно.
Поздно вечером, когда все разошлись и мы с ним остались вдвоем, я поинтересовался, как его семья. При упоминании о семье его лицо сразу приняло суровое, я бы даже сказал — злое выражение.
— Если вы не возражаете, я бы предпочел не говорить на эту тему, — сказал он сухо.
Так как особенного желания настаивать у меня не было, я извинился и хотел было заговорить о чем-то другом, но он опередил меня.
— Ведь вы их всех видели как-то. Вам, наверное, уже тогда было ясно, чем все это закончится. Но я, ослепленный своей привязанностью к ним, не мог предвидеть…
И он пустился в дальнейший рассказ о своей неудавшейся семейной жизни. Через пять лет после того, как я видел его в последний раз, жена ушла от него. Очевидно, даже у самых робких и забитых существ есть предел терпения. Сына, которого он вопреки его желаниям послал в Кембридж изучать физику, исключили за неуспеваемость и пьянство. Он стал продавцом в магазине. Дочь, которая по замыслам отца должна была поступить на химический факультет Лондонского университета, вдруг в восемнадцать лет объявила о своем намерении выйти замуж за какого-то парня, совершенно, с точки зрения отца, неподходящего, и, не получив согласия на брак, бежала с ним.
Скаулер даже точно не мог сказать, где теперь находятся его сын и дочь.
Единственное, что представляло интерес во всей этой истории, было отношение самого Скаулера к случившемуся. Ему даже не приходило в голову, что он сам во всем виноват. Он просто считал, что ему умышленно заплатили за добро злом. Скаулер часто говорил: «Меня надули», и я постепенно понял, что он употребляет это выражение в том же смысле, как человек, которому нарочно всучили фальшивую монету. С точки зрения Скаулера, сам факт, что он выбрал эту женщину себе в жены и содержал ее, имел и воспитал детей, предоставлял ему не только права на них, но и обеспечивал полную, высчитанную с математической точностью, уверенность в том, что они должны любить его и беспрекословно слушаться. То, что они нарушили это уравнение, было не только оскорблением для него лично, но и прегрешением против какой-то общепризнанной истины, как если бы они неожиданно заявили, что дважды два есть пять.
Я слушал и молчал. Да и что я мог сказать? Затем Скаулер постепенно переключился на другую тему. Он заговорил о работе, пытаясь мне доказать, что во всей этой неприятной семейной истории была и своя положительная сторона. Став свободнее, он мог целиком посвятить себя науке. Скаулер дал мне понять, что фактически ушел от мира, закрывшись в своей лаборатории, и этот уход вполне себя оправдал. Бедняга пытался меня убедить, что лучше иметь дело с электронами, чем с живыми людьми. Ему нравилось думать, что физические явления обладают первозданной чистотой и непорочностью, качествами, которых так не хватает роду человеческому.
Все эти рассуждения показались мне просто детскими и наивными.
— Бросьте, Скаулер, — сказал я, — вы пытаетесь уверить себя и меня, что разница между человеком и неодушевленной материей состоит в том, что человек лжет, а материя нет. Человек может наплести бог знает что, а кирпич никогда этого не сделает. Но если уж на то пошло, то кирпичи не пишут стихов и не играют на скрипке. Неодушевленная материя, может быть, и честна кристально, но общество ее невероятно скучно, и в кабачок с ней не пойдешь. Приходится как-то расплачиваться за те преимущества, которые дает человеку интеллект.
— Возможно, — сказал Скаулер вяло. — Но мне думается, что часто приходится платить слишком уж дорого.
А то уважение к человеческому интеллекту, которое испытывают многие люди, есть лишь продукт невежества. Вот вы упомянули, в частности, игру на скрипке. Но было бы совсем нетрудно, например, имея в распоряжении достаточно времени и денег, создать механического скрипача, который…
— Конечо, конечно, — согласился я. — Или, например, механического сочинителя сонетов. Но ведь они не могли бы мыслить самостоятельно и не испытывали бы никаких эмоций, не правда ли? Вы надеетесь, что можно создать машину, которая напишет нового Гамлета?
— Я не вижу в этом ничего невероятного. — Скаулер замолчал, затем, подумав, спросил:
— Вы играете в шашки?
— Играл когда-то.
— Как вы считаете, для этой игры нужен интеллект?
— Думаю, что да. До известной степени, конечно.
— Но до довольно-таки высокой степени, не правда ли?
— Требуется знание определенных правил, умение принимать решения и так далее.
— Безусловно. — Скаулер улыбнулся. — Но, несмотря на это, если вы как-нибудь вечерком заглянете ко мне в лабораторию, то сможете сыграть партию в шашки с машиной, над которой я сейчас работаю. И, если вы хотите, я готов поставить пять фунтов, что моя машина выиграет.
Он протянул мне руку.
— Только, пожалуйста, не говорите, что между игрой в шашки и сочинением Гамлета огромная разница. Мне это самому известно. Но дайте нам время. В конце концов, ведь у вашего возлюбленного «человеческого интеллекта» за плечами несколько тысяч лет развития, не так ли?
Примерно неделю спустя я зашел к Скаулеру. Это была первоклассная новая лаборатория, созданная специально для него.
Когда я ехал туда, то мысленно рисовал себе шашечную машину как нечто среднее между доспехами средневекового рыцаря и кассовым аппаратом — короче, в виде традиционного робота, угловатой стальной рукой передвигающего фигуры на доске.
Но то, что я увидел, никак не походило на робота. Это была комната, полная специального оборудования, отдаленно напоминающая небольшую электростанцию.
— Довольно громоздкое устройство, Скаулер, а я думал, что машина, играющая в шашки, может быть товарищем, с которым приятно проводить долгие зимние вечера. Но теперь вижу, что не всякий найдет для нее место в своем доме. Интересно, сколько все это стоит?
— Эта машина пока что стоила мне около пятидесяти тысяч фунтов, — ответил Скаулер. — Но она только в зачатке. На ее усовершенствование нужно потратить еще не менее ста тысяч.
Лично мне показалось, что игра в шашки за пятьдесят тысяч — слишком дорогое удовольствие, но я промолчал. Скаулер между тем продолжал рассказывать о машине.
Я не помню всего, что он мне наговорил. Это было очень сложно и запутанно, тем более, что Скаулер обожал говорить о технике так, что никто, кроме узкого специалиста, не смог бы разобраться, о чем идет речь. Но при этом он все время делал вид, будто собеседник понимает его с полуслова. В его объяснении было полно выражений вроде: «как вы, конечно, знаете», «как вы, несомненно, слыхали», и все это живо напомнило мне мой давний визит к Скаулеру и несчастного мальчугана, пролившего воду. Из всего объяснения я запомнил одно: машине надо было задать программу, то есть дать определенные указания, следуя которым, она рассматривала все возможные ходы и после ряда молниеносных математических вычислений выбирала наилучший вариант. Он также заметил — и мне это показалось весьма интересным, — что машину можно было с тем же успехом научить проигрывать. Но в данном случае в ее программу входило играть без промаха. Это означало, что, как бы я ни старался, рассчитывать мог только на ничью, а если бы случайно зевнул, то проиграл немедленно.
Скаулер начал объяснять в своей обычной холодной манере, но по мере того, как он рассказывал о скорости и безупречности производимых машиной вычислений, его облик менялся. Голос потеплел, в глазах вспыхнули огоньки, и весь он воодушевился, словно говорил о каком-то божестве.
Скаулер восхищался и как бы приглашал восхищаться вместе с ним этим высшим проявлением истины и красоты. Надо сказать, что в таком виде он мне нравился куда больше. Я по природе человек сдержанный и тем более не склонен приходить в восторг от математических вычислений, но мне нравятся увлеченные люди.
А затем внезапно настроение у него переменилось, и без всякой видимой причины он заговорил о своей семье и о том, как его обманули. Он говорил с такой горечью и злостью, что было просто неприятно слушать. Я пытался напомнить ему, что пришел к нему играть в шашки, но безуспешно.
Постепенно я понял, что эти два вопроса — совершенство и красота машины, с одной стороны, и недостатки и неприглядное поведение его жены и детей, с другой, были самым тесным образом связаны в его мозгу. Он постоянно противопоставлял их друг другу, и разница доставляла ему видимое удовольствие. Эта комната, полная разного оборудования, была идеальным плодом его идеального второго брака — брака с наукой.
Все это продолжалось добрых полчаса. Я уже подумывал о каком-нибудь предлоге, чтобы уйти, когда он резко прервал свою речь и предложил мне наконец сыграть с машиной.
Доска представляла собой освещенный щит, расположенный в передней части машины, а шашками были красные и белые лампочки. Непосредственно передо мной тоже была доска, но с кнопками в каждом квадрате. И когда я нажимал кнопку того квадрата, куда бы я поставил шашку, в соответствующем квадрате на щите зажигалась лампочка. Когда машина делал ход, что происходило почти мгновенно, зажигалась другая лампочка. Когда съедали шашку, лампочка, обозначавшая ее, гасла, а когда шашка становилась дамкой, загоралась ярче. Это было очень просто, но немножко непривычно, да к тому же я давно не играл в шашки. Поэтому в первые три партии я зевнул, и машина выиграла без всякого труда. После этих партий у меня возникло чувство растерянности, усугублявшееся еще и тем, что машина делала ходы с невероятной скоростью. Если я на минутку задумывался, мне казалось, что машина от нетерпения стучит ногой…
Я, как уже говорил, не очень-то подходящая аудитория для демонстрации всяких научных чудес. Я их просто воспринимаю как факт.
В данном случае, сыграв с машиной Скаулера несколько партий, я был готов признать, что она может играть в шашки, и с меня этого было достаточно. У меня не было никакого желания продолжать игру, так как личность моего «партнера» не представлялась мне особенно привлекательной. Помимо того что у него не хватало терпения, у него не было и того тонкого чутья, без которого игра в шашки теряет для меня всю прелесть. Но Скаулер явно наслаждался игрой и не переставал любовно расхваливать скорость, точность и ловкость своей машины. Он, однако, ни разу не отметил мои способности, так что я чувствовал себя так, как должен себя чувствовать футболист во время финальной встречи на чужом поле. Он настаивал, чтобы мы продолжали игру, и от скуки я решил проделать один опыт.
Я заметил, что, несмотря на то, что машина играла превосходно и улавливала малейшую мою ошибку, ее мастерство заключалось исключительно в умении быстро реагировать на любой ход. Она никогда не устраивала мне ловушек и не делала неожиданных ходов, так что я начал подозревать, что она не очень-то хорошо разбирается в самой игре и что ее легко можно сбить с толку чем-нибудь необычным.
Поэтому я начал делать не то чтобы неправильные ходы, а скорее бессмысленные, и хотя некоторые оказывались гибельными для меня, другие заставляли машину задумываться несколько дольше обычного.
Скаулер заметил это и тотчас пустился в длинное техническое объяснение, суть которого сводилась к тому, что машина не была виновата, а программа, заданная ей, рассчитана на обычную игру с разумным противником и не предусматривала никаких дурачеств. Ему явно не нравились мои фокусы, и он дал мне понять, что я веду себя не совсем по-джентльменски. Но теперь я сам уже увлекся и начал вести такую необычную игру, что машина, казалось, была в полной растерянности, она начала отдавать шашки одну за другой. Было совершенно очевидно, что я выиграл партию.
Скаулер прервал свое объяснение и теперь сидел рядом со мной, молча уставившись на освещенный щит. Лицо его выражало такую боль и растерянность, что я на минуту искренне пожалел, что затеял этот опыт. Но теперь уже не оставалось ничего другого, как продолжать. И я сделал последний решающий ход.
После этого хода наступила длительная пауза в игре. Видимо, машина долго соображала, что же ей делать дальше. А затем она смошенничала. Она, нисколько не стесняясь, просто взяла и передвинула свою шашку назад. Это было то трогательное, наивное мошенничество, которое можно было ожидать в аналогичных обстоятельствах только от маленького ребенка.
Кажется, я рассмеялся и сказал что-то вроде «послушай-ка» или «ну, ты не очень-то». А затем взглянул на
Скаулера. Его лицо стало беловато-серым, и он смотрел на машину с таким ужасом, словно человек, на глазах у которого только что произошло убийство. Так он стоял несколько минут, затем, не сказав ни слова, повернулся и вышел. На меня он даже не взглянул.
Я подождал его несколько минут, потом спустился вниз. Он уже был в машине и собирался уезжать. Так как у меня не было ни малейшего желания оставаться в такой поздний час вдали от Лондона, я быстро вскочил в машину рядом с ним.
Минут десять мы ехали молча. Затем я сказал:
— Было очень интересно!
— Но она смошенничала!
— Да, но не очень-то ловко. Вы бы ее научили перевертывать доску с фигурами в подобных случаях.
Спустя милю Скаулер сказал устало:
— Это все объясняется очень просто, конечно!
— Конечно, просто. Она не хотела проигрывать!
— Задавая программу, — сказал Скаулер, как будто он и не слышал меня, — я запрещаю ей нарушать правила игры, а также проигрывать…
— Большинство из нас старается придерживаться такой программы.
— Но… но абсолютного запрета не может быть потому, что все зависит от числа, а машина оперирует числами лишь в определенных пределах, и всякое запрещение также не должно выходить за эти пределы. Поэтому, если машине приходится иметь дело с двумя неразрешимыми задачами, она работает до тех пор, пока ее возможности не иссякнут, а затем…
— Затем она пускается на хитрости?
— Нет, — сказал Скаулер угрюмо, — не обязательно.
— Но ведь проигрывать также запрещено?
— Видите ли, когда машина думает над ходом, она смотрит, какое получается число: четное или нечетное. Если четное, оно нарушает запрет обманывать. Если нечетное, то проигрывать. Вот и все.
Он помолчал немного, а затем проговорил почти с отчаянием:
— А что же ей еще остается делать? Ведь программу-то надо задать, и нет никакого способа ввести абсолютный запрет.
— Блюстители нравственности не раз сталкивались с подобными затруднениями, — сказал я. — Откровенно говоря, что мне больше всего понравилось в вашей машине,
Скаулер, так это именно этот обман. В нем было что-то от первородного греха, что-то подлинно человеческое. Скаулер долго молчал, потом вдруг тихо рассмеялся: — Пожалуй, вы правы, — сказал он. — Мне не приходило в голову взглянуть на нее с этой стороны.
После того вечера я редко виделся со Скаулером, но один случай мне хорошо запомнился. Я как-то встретил его в ресторане, где он обедал с сыном и дочерью. Он познакомил меня с ними. Они мне очень понравились — весьма милые молодые люди. Да и сам Скаулер как-то изменился: подобрел что ли…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |