"Передайте в «Центр»" - читать интересную книгу автора (Вучетич Виктор)
Глава II
Поздним вечером в жарко натопленную приемную члена коллегии ВЧК вошел высокий, слегка сутулый человек в черном полушубке и мохнатой сибирской шапке. Оглянувшись и сняв шапку, он подождал, пока миловидная большеглазая секретарша примет пакет у стоящего возле нее курьера, распишется в толстой тетради, и затем коротко кивнул:
— Здравствуйте. — Голос у него был негромкий и низкий, с хрипотцой, вероятно, от давней простуды.
Секретарша с интересом посмотрела на него и, приняв мандат, внимательно прочитала.
— Здравствуйте, — с теплой улыбкой, осветившей ее осунувшееся лицо, произнесла она. — Наконец-то! Что ж это вы так задержались, товарищ Сибирцев? Вас еще позавчера ждали. Мартин Янович все время спрашивает. Садитесь, я доложу.
Но Сибирцев продолжал стоять, только положил на стул шапку да тощий вещмешок.
— Вот ведь незадача-то… — сказал он, переминаясь с ноги на ногу и растирая широкой ладонью глаза. — Заносы по всей дороге. Думал, вовсе застряну. Двое суток то пути расчищали, то дрова рубили. Мне — куда ни шло, — он усмехнулся, — бог силушкой не обидел, а там публика была всякая… Стоны, слезы… Пробились, однако. Так вы уж доложите, пожалуйста.
— Скоро закончится совещание, а вы пока отдохните. Можете раздеться — у нас тепло, и садитесь вон поближе к огоньку.
Сибирцев взглянул на раскаленную “буржуйку”, поежился и сел на короткий диванчик, вытянув длинные ноги и откинув на спинку голову. Прошептал: “Благодать…” — и через мгновение уже спал.
Входили и выходили люди, приносили пакеты, срочные документы, громко докладывая о своем прибытии. Секретарша их строго останавливала и, прижимая палец к губам, указывала на спящего. Те переходили на шепот и понимающе кивали.
Как всегда, вихрем ворвалась, стуча подковками сапог, курьерша Генриэтта — личность восторженная и самостоятельная, поклонница нового искусства, в котором она, однако, как все полагали, ровным счетом ничего не смыслила. Черные ее волосы, подстриженные под Анну Ахматову, выглядывали из-под пухового платка.
— Симочка! — еще с порога воскликнула она. — Достала пропуск на “Канцлера и слесаря”! Знаешь, кто автор? Сам Луначарский! — И не обращая внимания на предостерегающий жест секретарши, продолжала так же громко: — Ты себе не можешь представить, идет всю ночь, целых пять часов подряд! Уж и не знаю, как выдержу! Как выдержу?! Ты чего это? — удивилась она вдруг, снизив тон.
— Человек же спит. Неужели не видишь? Тише!
— А кто это? — Генриэтта капризно скривила губы.
— Какая тебе разница? Устал человек. Ехал издалека.
— А-а… А еще мне обещали завтра на “Мистерию-буфф” Маяковского. Это — у Мейерхольда. У него, говорят, там прямо с потолка прыгают! Представляешь?
— Нет, не представляю, — нетерпеливо поморщилась секретарша. — Ну, что у тебя?
— У меня?.. Да, вот же пакет! Феликс Эдмундович велел твоему начальству, — она кивнула на кабинет, — ознакомиться и в десять к нему.
— Давай распишусь. Только не шуми, бога ради…
— Слушай, Сим, а может, пойдешь со мной? Пробьемся как-нибудь?
— Не могу, мама болеет… Да и сама что-то неважно себя чувствую.
— Ну, как хочешь, я ведь по-товарищески. Прямо не представляю, как выдержу, как выдержу!
— Выдержишь, — засмеялась секретарша. — Иди уж, да не топай, как солдат…
Звонили один за другим телефоны, секретарша, поглядывая на Сибирцева, негромко отвечала в трубку, записывала сообщения, выясняла, где и какие предстоят совещания. Все было срочно, экстренно. В десять — у Дзержинского, в одиннадцать — в Наркомюсте, потом требовалось обязательное присутствие Лациса в Наркомпросе, на деткомиссии… И так каждый день. Можно подумать, что Мартин Янович всесилен, как бог, и без него никто не мог обойтись, сам решить свои вопросы. А он опять сегодня не успел поесть. Вот уже третий час сидят, дымят. Там, в кабинете, хоть топор вешай.
Секретарша поставила на пышущую жаром “буржуйку” чайник. Подумала, что перед очередным заседанием успеет хоть чаем напоить Лациса. Машинально протянув ладони к печке, она долгим материнским взглядом посмотрела на спящего Сибирцева и вздохнула: “Вот ведь какой здоровый мужик, и симпатичный еще, а выглядит стариком — так умаялся. Интересно, сколько ж ему лет? Под сорок, наверно… Виски седые. И позу выбрал неудобную, спит, прямо не дышит…”
Она обернулась на шум открываемой двери. Из кабинета Лациса вместе с клубом табачного дыма показались трое сотрудников, докуривая на ходу свои папиросы.
— Товарищи! — взмолилась секретарша. — Вы бы хоть здесь не дымили!..
— Прости, Симочка, — отозвался тут же один из них. Он подошел к “буржуйке” и, открыв дверцу кочережкой, швырнул туда свой окурок. Двое других продолжали спор, начатый еще в кабинете у Лациса.
— Да пойми ты, умная голова! — мотая рыжим чубом, наступал веснушчатый коротышка Нефедов. — Я же был там, Бы-ыл!
— Проездом, — поправил его Коля Васильков, беловолосый стройный парень из оперативного отдела.
— Ну и что, что проездом? — кипятился Нефедов. — Был же? Видел. Положение действительно угрожающее. А сегодняшние сводки…
— Плюнь ты на эти сводки, что ты носишься с ними, как с писаной торбой. Читал я их. То же самое, что вчера. И позавчера. И месяц назад. Феликс Эдмундович, помнишь, еще в октябре говорил, что с бандами все кончено. Причем официально заявлял. Я думаю, Нефедов, что эти твои товарищи просто трусят. Положение стабилизировалось, а лишние средства им, конечно, не помешают. Вот и нашли способ выжать их из центра.
— Ну, ты скажешь! — Нефедов хлопнул себя ладонями по ляжкам. — Какая ж это стабилизация? Ты хоть на карту взгляни! Вся ж губерния в огне… Честное слово, давно я такого размаха не наблюдал.
— Послушайте, друзья мои, — прервал их спор третий чекист, стоявший возле печки. Сима мало знала его, он работал недавно, а приехал откуда-то из Заволжья. — Да послушайте же! Мартин Янович абсолютно, стопроцентно прав. Просто проспали мы это дело.
— Это как же так проспали? — удивился Васильков. — В каком смысле?
— А в прямом. Самым натуральным образом. — Он посмотрел на Сибирцева. — Вот вроде него. И нечего на дядю ссылаться. Мещеряков приезжал из Тамбова еще в сентябре. К Владимиру Ильичу ходил? Шлихтер бомбил шифровками? А? Еще как. А что мы делали? Как отнеслись к указаниям Совнаркома? Вот так относились, — он пальцем указал на Сибирцева. — Спали. Говорили: стабилизируется… Ах черт, хорошо спит… Славно… Даже зависть берет… Ну, ладно шуметь, айда работать.
Они ушли, унося с собой запах табачного дыма и отчаянную — так показалось Симе — тревогу новых, навалившихся где-то в южных губерниях бед.
Сима проверила собранные в особую папку документы для члена коллегии ВЧК и только собралась было войти в кабинет Лациса, как оттуда навстречу ей шагнул Михеев. Он придержал ее за плечи и отвел от двери.
— Что нового, Симочка? — спросил и закашлялся. — Ну и надымили, черти, задохнуться можно. Как их терпят?..
Сима знала, что Михеев не курил и сидеть в дыму было для него пыткой.
— Из Тамбова товарищ прибыл?
— Да. Он уж больше часа внизу ждет.
— Тогда вот что, Симочка. Его надо устроить отдохнуть до… — он посмотрел на часы. — До двенадцати. Потом ко мне. Теперь, вот эти бумаги, — он протянул Симе тонкую папку, — срочно к телеграфистам. И последнее. Поступили какие-нибудь сведения о Сибирцеве?
— Господи, товарищ Михеев! Да вот же он, спит. Тоже уж с час, пожалуй. Такой усталый прибыл. Заносы, говорит, еле добрался. Прямо жалко бедняжку! Как сел, так и провалился. Даже раздеться не успел.
Михеев легонько отстранил Симу рукой, мягко ступая, подошел к Сибирцеву и склонился над ним, разглядывая.
Крепко устал Сибирцев. Откинутое на спинку дивана его бледное, застывшее лицо казалось гипсовым слепком, и только острый кадык на шее, изредка вздрагивая, убеждал, что перед Михеевым был все-таки живой человек.
— Мишель! — негромко позвал Михеев и легонько похлопал Сибирцева по коленке. — Слышишь, Мишель? Проснись. Царствие небесное проспишь, господин прапорщик!.. Спит, — он огорченно покачал головой и тронул Сибирцева за плечо. — Эй, ваше благородие!
— А? — захлопал глазами Сибирцев, отходя ото сна и не понимая, где он и что с ним. — Кто меня?
Сквозь сонную одурь он увидел перед собой щеголеватого адъютанта в черной коже, перетянутого желтыми ремнями. Резко сжав глаза ладонью, выпрямился было на диване, щурясь и недоверчиво разглядывая розовощекое юношеское лицо с кокетливыми усиками.
Словно из забытого далека всплыло перед Сибирцевым это хорошо знакомое лицо. Но, видимо решив, что сон продолжается, Сибирцев снова откинулся на спинку дивана, слабо улыбнулся и прошептал: “Володька…”
Из кабинета Лациса вышли несколько человек. Громко разговаривая, они мельком посмотрели на Михеева и двинулись к двери. Наверно, привыкли ничему не удивляться.
— Да проснись же наконец! — воскликнул Михеев, тормоша Сибирцева за плечи.
Сима, широко распахнув глаза, наблюдала за ними: ей такое приходилось видеть впервые.
Наконец Сибирцев с усилием поднял веки, тяжело выпрямился и глаза в глаза встретился с Михеевым, взгляд его приобрел осмысленность.
— Володька?! — спросил недоверчиво. — Володька, ты! — он вскочил, уронив на пол шапку, и сжал Михеева в объятиях.
— Пусти, чертяка! — застонал Михеев. — Ну и здоров же!
— Живой… — отпуская его, выдохнул Сибирцев.
— Да живой, живой, — кривясь и распрямляя плечи, засмеялся Михеев. — Ну, медведь! И откуда сила берется?.. Сам-то как?
— А так, брат, все как на том медведе. Заросло. Ты что ж молчал, вражья твоя душа?
Михеев положил руку на плечо Сибирцева, сажая его на диван, и сам примостился рядом.
— Ты прости, понимаешь… — сказал он, отводя глаза в сторону. — Я тебя тогда в больницу доставил, мне доктор сказал, что рана опасная, сволочной какой-то попался осколок. Ну, пока то да се, на меня приказ пришел: в Омск, а потом вот — сюда. Знаешь, как у нас — всегда срочно. Всегда бегом. Где-то с месяц назад сделал я запрос в Верхнеудинск в больницу, я тогда только фамилию твою назвал — и больше ничего, сам понимаешь. Ответили: такого нет. Вроде был, да выбыл. Куда — неизвестно. А ребят, которым я про тебя шепнул, просил, чтоб проследили и сообщили, уже в живых нет. Вот так. Такая вышла история…
— Тебя ж тогда тоже задело, я помню.
— А, — отмахнулся Михеев. — Пустяки…
— Погоди, — словно опомнился Сибирцев. — Теперь-то как нашли? Я ведь не давал о себе вестей сюда, в Центр. А Иркутск меня сразу в глубинку, в тайгу отправил.
— Мартин Янович все службы на ноги поднял. Он о тебе, оказывается, еще от иркутян знает, как ты там милицией заправлял. Не может быть, сказал, чтоб живой человек без следа исчез. Кровь, говорит, из носа — сыскать. У него на тебя серьезные виды, — Михеев отодвинулся и с улыбкой окинул взглядом Сибирцева с ног до головы, будто прикидывая, годится он или нет для “серьезных видов” Лациса.
— Куда, не знаешь? — через паузу настороженно спросил Сибирцев.
— Вот чудак, — усмехнулся Михеев, — конечно, знаю… Сам скажет.
— Прежнее что-нибудь? Старые связи, поди…
— Ох и не терпится! — Михеев покрутил головой. — Все равно не скажу. Погоди маленько, сам узнаешь… А ты изменился, Мишель, — сказал вдруг, без всякого перехода. — Похудел. Седина вон появилась.
— Ну! — вскинулся Сибирцев. — Зато уж ты вовсе не меняешься. Гусар, понимаешь, недорезанный!
— А мне что? — в голосе Михеева прозвучали беспечные нотки. — Помнишь? — он негромким, но чистым тенорком запел: “И по щеке моей румя-а-ной слеза скатится, ох, скатится с пья-а-ных глаз…” Так?
— Так… — щуря глаза, словно от яркого света, качнул головой Сибирцев и прижал Михеева к себе, широко обняв рукой его плечи. — Так, вражья душа…
— Слышу, поют! — раздался громкий голос. Сибирцев с Михеевым увидели в дверях кабинета Мартина Яновича Лациса, и оба вскочили. Сибирцев вытянулся по-военному.
Он много слышал о Лацисе в Иркутске, но вот так, лицом к лицу, встречаться еще не приходилось. А Мартин Янович, оказывается, знал о нем, и знал, видимо, хорошо, иначе не стал бы поднимать ради Сибирцева стольких людей.
Сибирцев и сам был росту немалого, но перед Лацисом почувствовал себя подростком. От двери шагнул чернобородый великан и, поводя усталыми после долгого сидения плечами, остановился посреди комнаты.
— Поют? — удивленно повторил Лацис, закладывая большие пальцы за поясной ремень. — Что такое, думаю? А тут еще и обнимаются. С кем вы обнимаетесь, Михеев?
— С самым большим своим другом, Мартин Янович, — сразу отозвался Михеев. — Можно сказать, со спасителем своим.
— Ну уж спаситель… — буркнул смущенный Сибирцев. Он оглянулся, поднял с пола шапку и снова вытянулся перед Лацисом. — Товарищ особоуполномоченный, Михаил Александрович Сибирцев прибыл по вашему распоряжению.
Жесткое, словно вырубленное из камня, лицо Лациса, глубокие глаза источали силу и власть. Сибирцев с сожалением подумал, что уж его-то собственная физиономия наверняка такого впечатления не производит, особенно теперь, после сна. Да еще комната эта натопленная расслабляет, плывет перед глазами, покачивается.
Во взгляде Лациса сверкнули веселые искорки.
— Здравствуйте, товарищ Сибирцев, Михаил Александрович, — медленно и раздельно сказал он. — Рад вас наконец видеть. Я полагаю, задержка вызвана объективными причинами?
Кровь прихлынула к лицу Сибирцева.
— Заносы… — выдавил он из себя.
— Заносы… — качая головой, повторил Мартин Янович. — Топлива нет. Банды гуляют, портят пути. Понятно. Как здоровье?
— В порядке, товарищ…
— Зовите просто.
— Здоров я, Мартин Янович.
— Очень хорошо, — удовлетворенно кивнул Лацис — Так, значит, спаситель?
— Точно, Мартин Янович, — тут же встрял в разговор Михеев. — Не будь его, не стоять мне перед вами.
Лацис хмыкнул, подошел к печке с булькающим на плите чайником и приблизил ладони к горячей трубе, протянутой через всю комнату к окну.
— Давайте сядем… Тут тепло и совсем нет дыма. Вот что такое женщина. Здесь не курят. А там, — он кивком показал Сибирцеву на свой кабинет, — дымят как паровоз. Проветрите, пожалуйста, Михеев. А вы, Сибирцев, можете раздеться. Здесь правда тепло. Снимите ваш роскошный полушубок.
Михеев ушел в кабинет, быстро вернулся и остановился, привалившись к косяку двери и картинно заложив ногу на ногу. Сибирцев повесил на крючок полушубок, шапку и почувствовал себя просто.
Если бы он не знал Михеева, то подумал бы, что перед ним самый обыкновенный штабной адъютантишка времен недавней германской, никогда не нюхавший пороху, но явно бравирующий своей завидной свежестью и выправкой. Но в том-то и дело, что Сибирцев знал Михеева хорошо.
Сибирцев с завистью смотрел в его чистые, улыбающиеся глаза и не замечал в них ни капельки усталости. Таков уж он, Михеев.
Лацис между тем плотно и обстоятельно уселся на диванчике возле “буржуйки” и жестом пригласил Сибирцева.
— Мартин Янович, — секретарша наконец выбрала паузу и взяла в руки папку с документами. — Здесь принесли для вас материалы от Феликса Эдмундовича. У него в десять совещание. Потом — из Наркомата юстиции. У них совещание в одиннадцать. Звонили из деткомиссии — там в двенадцать. Чайник вот закипел.
— Хорошо, оставьте бумаги, — кивнул Лацис. — У вас усталое лицо. Сделайте нам чай и идите отдыхать. В деткомиссию поедет Глебов. Сообщите ему и будьте свободны. — Лацис говорил негромко, четко выговаривая каждое слово, что выдавало его прибалтийский акцент. — А мы, пожалуй, будем здесь, возле “буржуйки”. Почему такое смешное название?
Секретарша тем временем собрала бумаги, заперла их в сейф. Отнесла папку в кабинет Лациса. Потом из ящика стола достала три стакана в подстаканниках и чайные ложечки. Ополоснула кипятком маленький заварной чайник и сыпанула из бумажного пакетика пару щепоток розоватой стружки.
— Морковка! — Михеев подмигнул Сибирцеву. — Ты такого, поди, не пробовал.
— Многое пробовал, — вздохнул Сибирцев. — А это нет. — И потянулся к своему вещевому мешку.
— До свиданья, — секретарша ласково посмотрела на Сибирцева и обернулась к Лацису. — Я передам, Мартин Янович, чтобы поехал Глебов. Всего доброго, товарищи.
Сибирцев склонил голову, прощаясь. Михеев легонько махнул ладонью и, едва дверь за Симой закрылась, обернулся к Лацису:
— Это потому, Мартин Янович, что она такая толстая и горячая. Как буржуйская жена.
— Кто? — не понял Лацис.
— “Буржуйка”. Вы же спрашивали.
— Ох, Михеев, Михеев, — Лацис укоризненно покачал головой.
— Мартин Янович, — Сибирцев пошарил в своем мешке и добыл газетный сверток, развернул его. — Вот сахару есть немного.
— Очень хорошо, — утвердительно кивнул Лацис. — Значит, будем пить чай с сахаром. Это приятно знать, что хоть у вас там живут богато… Вы вздыхаете, Сибирцев? — он удивленно поднял брови. — Я не так сказал?
Сибирцев машинально пожал плечами, но тут же спохватился:
— По-разному живут там люди, Мартин Янович. У кого есть, и много, а у кого совсем пусто.
Он вспомнил прошедший свой год работы в Иркутске, дорогу до Москвы и поежился, словно от холода…
В глубоких снегах, морозах и метелях ушел двадцатый год. Ушел голодный двадцатый, с его жестокой засухой, предвестницей еще большей беды. Смерть, разорение, озлобленные орды мятущихся, измученных людей, штурмующих проходящие поезда, — хлеба, дайте хлеба!.. А хлеб был. Только брать его приходилось с бою, с выстрелами и кровью, с ночными пожарами в полнеба, ценой гибели многих товарищей — продотрядовцев. В каком кошмарном сне, в какой изощренной дьявольской фантазии родились те муки, которые суждено было принять людям, спасающим страну от голодной смерти…
Сибирцев знал о великой беде. Знал потому, что сам в течение последнего года не раз отправлял из Иркутска эшелоны с зерном и мороженым мясом, рыбой и одеждой…
— Как наш чай, Михеев? — ворвался в его мысли голос Лациса. — Надо угощать гостя. Возьмите ваш стакан, Сибирцев.
Сибирцев принял протянутый ему Михеевым стакан и, сосредоточенно дуя, стал пить новый для него напиток, но никакого вкуса почему-то не ощущал. Он снова подумал: какое задание приготовил ему Лацис? Зачем так срочно вызвали в Москву?
Мартин Янович словно углубился в себя. Он пил мелкими глотками, помешивая в стакане ложечкой, и аккуратно откусывал мелкие кусочки сахара. Казалось, это занятие целиком поглотило его.
— Ну, так что там у вас было, Михеев? Почему — спаситель? — спросил он вдруг, отставляя стакан. — Расскажите. Люблю интересные истории.
— Шутит он, Мартин Янович, — неловко перебил Сибирцев. — Уж если кто кого и спасал, так это он меня. Вот еще в Харбине…
— А, — небрежно отмахнулся Михеев. — Мура в Харбине. Обычная работа. Помните, Мартин Янович, я вам рассказывал, когда мы с ним золото уволокли из тайги, бой у нас приключился. На железной дороге. Черт меня дернул высунуться из вагона. А он, Мишель, значит, кинул меня на пол и собой закрыл. От гранаты. В двух шагах рвануло. Могла бы меня, а вышло, что его, и довольно крепко. Вот и все… Я уж, грешным делом, решил, что он, как в Сибири говорят, к верхним людям пошел. А он выжил, чертяка, медведище, и теперь мне по гроб жизни в должниках ходить.
— Не слушайте вы его, Мартин Янович, — поморщился Сибирцев. — Он ведь такое понарасскажет, хоть святых выноси.
— А сколько вам теперь лет, Сибирцев? — прищурив один глаз, неожиданно спросил Лацис.
— Двадцать шесть. Старый я уже… Лацис громко и заразительно рассмеялся.
— Совсем пожилой! Да… Ах, юноши… Ну, а что там у вас случилось в Харбине? Расскажите вы, Сибирцев. У нас есть еще немного времени.
— Да я ж говорю, мура, Мартин Янович, — снова влез Михеев. — Мура — и все.
— Я спрашивал не вас, Михеев, — деланно сердито сказал Лацис. — Когда вы, черт побери, будете уважать свое начальство?
— Виноват, Мартин Янович, — с готовностью согласился Михеев. — Только…
— Нет, вы неисправимый. Сядьте на свой стул и молчите. Я хочу слушать Сибирцева.
— Не знаю, как и рассказать, Мартин Янович, — смущенно начал Сибирцев. — Вообще-то мы с ним, — он кивнул на Михеева, — об этом случае не докладывали… Чтоб лишними шифровками не загромождать. Ну, в общем, служил я летом восемнадцатого у Семенова. Даже не столько у атамана, сколько у харбинского его представителя, что-то вроде посла при правительстве Хорвата. Скипетров его звали. Полковник.
— Он все метил в генералы, — не выдержал Михеев, — и потому пил как лошадь.
Мартин Янович обреченно махнул на него рукой.
— Я теперь знаю, кто вы есть, Михеев. Вы -анархист. Молчите, это так!
В тот день в харбинском кабаке “Палермо” шел грандиозный пир. Гуляли калмыковцы — они, видать, произвели очередную “калмыкацию”, то бишь ограбили проходящий пассажирский поезд в районе Гродековских туннелей. Если бы семеновцы ограбили, это называлось бы “семенизацией”, а у этих “калмыкация”.
Гуляли в кабаке и орловцы. Эти — с горя. Шли упорные слухи, что их полк собирались расформировать: обнаружилась растрата по хозяйственной части — ни много ни мало в полмиллиона рублей. Да и как ей не быть, если у полковника Орлова всего три сотни штыков, зато два оркестра. И сведения о безобразиях орловцев ежедневно ложились толстой пачкой на стол начальника военного отдела генерала Колобова. Это он подсказал в свое время главноначальствующему в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги — генералу Хорвату идею создания ударных “кулачков”, а попросту — мелких банд, которые должны были постоянно терроризировать большевиков на границах полосы отчуждения, то есть в районе станций Маньчжурия и Пограничная. Однако созданные ударные “кулачки”, в массе своей, за исключением крупных отрядов Семенова и Калмыкова, предпочитали оставаться в Харбине. Да и чего бы им не оставаться, если даже младшим офицерам платили по двести рублей в месяц на всем готовом. К тому же дежурные по отрядам регулярно получали авансы, чтобы расплачиваться с извозчиками, привозящими господ офицеров из кабаков в казармы. Ну, а ежели кому бы пришло в голову сделать им замечание — о взыскании и речи быть не могло — в таких случаях обычно следовал доклад обиженного о переходе в другой отряд. Нет, не рвались они тогда из Харбина защищать веру и отечество.
Такими были, разумеется, и орловцы. Вот кабы не эта злосчастная растрата.
Но все это, в сущности, мелочи, потому что Семенов, сидевший на станции Маньчжурия, “зарабатывал” по два миллиона в день да плюс звание “благодетеля населения”.
Семеновцы тоже гуляли в “Палермо”. Гулял харбинский посланник атамана полковник Скипетров, ждавший очередного производства, и с ним хорунжий Кабанов. У этих была серьезная причина. Во-первых, позавчера обнаружили в Селенге труп известного золотопромышленника Шумова, ехавшего в семеновском бронепоезде с большим грузом золота. Что там произошло, где золото — никто не знал, но, разумеется, догадывались. А во-вторых, несколькими днями раньше была произведена “семенизация”: реквизировали двадцать девять вагонов кожи, и затем неизвестные лица продали их какому-то спекулянту в Хайларе. Об этих злополучных вагонах уже шел разговор по городу, громко негодовал недавно прибывший в Харбин Колчак, ждали каких-то ревизоров омского правительства, но разговор разговором, а деньги были. Только у кого? Этого не знали. Семенов бушевал. Скандал разгорался.
Ночью, с охраной на пяти казенных автомобилях, приехал в “Палермо” Скипетров. На одном из них вместе с полковником прибыл и Сибирцев, доверенное лицо Скипетрова. Когда же это было? В июле? Нет, еще в июне восемнадцатого. Да, великий был пир…
Сибирцев задержался с шоферами, указывая им место, где они должны были ждать господ офицеров хоть до самого рассвета, пока те не нагрузятся до полного безобразия. Таков был заведенный порядок, ибо, как говаривали в Харбине, всякая власть начинается с автомобиля. И уж вовсе никого не заботило, что стоимость автоверсты перевалила в ту пору за пятнадцать рублей. Золотом.
Войдя в ресторан, Сибирцев окинул взглядом тусклый и задымленный зал. Как-то, видно, с самого начала пошло, что в нем собирались русские. “Высокие” иностранцы сюда избегали заглядывать, хотя их миссий и всяческих комиссий в городе было предостаточно. Среди багровых, испитых физиономий “спасителей России” Сибирцев отметил сидевших группами и в одиночку эмигрантов: бежавших заводчиков, купцов, спекулянтов. Попадались офицеры, пока никуда не приставшие. Эти были, как правило, особняком, пили, вспоминали германскую. Но в основном зал заполняли шумные и крикливые атаманские орды. Однажды появился здесь доселе никому не известный украинский консул. Он начал было предъявлять свои державные права, но ему тут же пригрозили плеткой, и он стушевался. Револьверы и шашки с большой легкостью пускались в дело под предлогом оскорбления мундира.
Сибирцев отметил несколько знакомых лиц и среди них пьяного офицера-орловца. Из того угла, где сидел орловец, слышались крики, хохот, хлопки пробор шампанского. Взгляды встретились, орловец растянул губы в пьяной улыбке, но, видимо, не узнал Сибирцева, тут же отвлекся и стал что-то кричать на ухо соседу. Да и где было узнать, виделись, кажется, в ставке Хорвата — раз-два — не больше. И фамилию его Сибирцев тоже не запомнил.
Сибирцев подошел к сдвинутым столам, которые накрывали, быстро скользя черными тенями, два суетливых, прилизанных официанта.
— Где вас черт носит, Мишель? — недовольно прохрипел Скипетров.
— Прошу прощения, господин полковник, — Сибирцев наклонился над ним, — распорядился насчет автомобилей, — и поднял голову, снова оглядывая зал.
— Не гляди, — Скипетров хлопнул его ладонью по спине, — садись. Сейчас привезут. Я Ваську послал, велел, чтоб мигом доставил. Он знает, где хорошие девки.
— А если не достанет? — тряхнул петушиным хохолком уже заметно набравшийся поручик Козюля, начальник охраны Скипетрова.
— Как так не достанет, когда я приказал? — возмутился полковник. — Не достанет?! Задницу его заголю и прямо тут, на столе, при всех, господа, всыплю сотню соленых, таку их…
— Гульнем, стало быть, господин полковник? — ухмыльнулся Сибирцев.
— Гульнем, не будь я генералом! — захохотал Скипетров. — Тащи живей! — заорал он на официантов. — Все тащи, китайская твоя харя!
В зале появился Кабанов. Он крепко покачивался, и его поддерживали под руки двое башибузуков Козюли.
— Господин хорунжий! — раздался голос от стола, где пили калмыковцы, давно враждовавшие с семеновцами.
Кабанов остановился, уперся глазами в поручика, окликнувшего его.
— Вы ко мне? — спросил с хмельной важностью.
— Именно, — поручик поднялся, опираясь на плечо соседа. — Не могли бы вы сделать нам всем небольшое одолженьице-с?
— Если в моих силах, господа, — Кабанов, качнувшись, развел руки в стороны.
— Вполне. Продайте нам один маленький такой, знаете ли, вагончик кожи. Сапоги, сами изволите видеть, износились, а до первопрестольной топать еще… — поручик высоко над столом поднял ногу, показывая свой сапог, и хохот за столом не дал ему закончить фразу.
— Зря шутите, господа, — выпрямляясь и выпячивая грудь, мрачно выговорил хорунжий. — Мы ведем следствие…
Хохот вспыхнул с новой силой, истомленный поручик упал на стул.
— Кабанов! — зарычал Скипетров. — Сядьте, ну вас к черту! Сплошной позор с вашими этими… пинчерами.
— Пинкертонами, господин полковник, — с легкой улыбкой поправил Сибирцев.
— Один хрен, — яростно отрубил полковник, — все суки!
Кабанов грузно шлепнулся на стул и заорал:
— Шампанского, живо! — и затуманенными глазами пристально взглянул на Сибирцева.
От стола за спиной Кабанова повернулся какой-то незнакомый штабс-капитан и брезгливо сморщился, увидев хорунжего.
Будет драка, понял Сибирцев. Не сейчас, а позже, когда еще подопьют.
А драка уже вспыхнула. В углу, где сидели орловцы, послышался стук падающих стульев, звон посуды и пьяные крики. Вскочили два офицера: один тут же с лязгом обнажил шашку, второй выхватил револьвер. На них навалились, растащили в стороны. Того, кто размахивал шашкой, с трудом поволокли к двери, а он плевался, рассыпая, словно горох, матерную брань, и грозил оставшимся обнаженным клинком.
— Что-то нынче орловцы развоевались… — заметил кто-то из сидящих справа от Скипетрова. — Куш, что ли, сорвали?
— Господа! — Кабанов выпрямился на стуле, вскинув подбородок. — Их расформируют, господа. Я точно знаю. По хозяйственной части недостача в два миллиона. Все они жулики!
“Уже два миллиона, — мысленно усмехнулся Сибирцев. — Быстро растут слухи. Да уж и кто бы говорил…”
Он услышал негромкие голоса за своей спиной, обернулся нехотя: там ужинали двое штатских со своими дамами. Женский голос произнес:
— Ох, не нравится мне эта их компания…
На что один из мужчин немедленно отреагировал:
— Когда гуляют семеновцы, жди неприятностей. Умоляю вас, Нелли, не обращайте никакого внимания. Умоляю. Никакого.
Сибирцев презрительно скривился и обернулся к Кабанову:
— Значит, слухи верные? Расформируют орловцев?
— А на хрена они кому нужны? — Скипетров хлопнул ладонью по столу и надулся индюком. — Самостоятельная боевая единица! Полк! — он явно копировал генерала Колобова. — Дерьмо. Пущай к нам идут. Вы, Мишель, знакомы с кем-нибудь из них?
— Да так, господин полковник, больше по мелочам, — Сибирцев пожал плечами.
— А какая разница? Всем говорите: жрем до отвала, пьем до беспросыпа, препятствий никаких, а служба — одно удовольствие! Сами прибегут… Где же Васька, сукин сын? Ох, выдеру! — Скипетров откинулся на спинку стула и вдруг заявил жалобно: — Надоело в послах ходить. Живого дела хочу!
— Надо полагать, уже недолго, господин полковник? — полуутвердительно спросил Сибирцев.
Он почувствовал на себе злобный взгляд хорунжего и, подняв брови, хмыкнул. Затем мельком, словно по пустому месту, скользнул глазами по Кабанову, и, взяв бокал шампанского, поднялся, и пошел к полковнику. Склонился к его плечу, шепнул на ухо:
— А Кабанову разговоры о вашем повышении будто клизма. Взгляните, господин полковник.
Скипетров посмотрел на хорунжего, напряженно вытянувшего шею в их сторону и старающегося расслышать, о чем шла речь, и расхохотался: уж больно нелепой была его фигура.
— На чем сидишь, Кабанов? — крикнул он, утирая слезу.
Кабанов дернулся, будто его стукнуло, и машинально огляделся, чем вызвал новый приступ смеха у полковника.
— Молодец! — Скипетров толкнул Сибирцева в плечо. — Быть тебе поручиком!
Возвращаясь на свое место, Сибирцев громко сказал:
— А все-таки зря вы, господин полковник, так-то легко хотите расстаться с посольской миссией. У вас отменные дипломатические качества.
— Я же говорю: живого дела хочу! Наливай по этому случаю! Всем пить! — он в два глотка выпил свой бокал и добавил, отдуваясь: — А Ваську выдеру, господа. Видит бог, выдеру! При дамах!
Появились официанты с многочисленными подносами, и дальше все закружилось, завертелось. Пили и ели без разбору, поначалу с каким-то мрачным ожесточением, а потом, по мере насыщения, постепенно отваливались от стола, стали воинственно поглядывать на соседей, кидая весьма недвусмысленные замечания по поводу их дам.
Сибирцев осторожно посмотрел на часы и, улучив минуту, поднялся. Пошатываясь, он отправился через весь зал в глубину ресторана. Прошел длинным коридором, откидывая бархатные занавески, вошел в туалет, огляделся. Туалет был пуст.
Сибирцев начал медленно мыть руки, ополоснул лицо, пригладив влажные волосы. Через короткое время в туалет вошел тот самый розовощекий орловец. Мундир его был распахнут, он качался, громко икал и пробовал, ужасно фальшивя, петь: “Без сюр-р-р-тука, в а-адном хала-ате…” Увидев Сибирцева, смолк и, подойдя к соседней раковине, сунул голову под кран и пустил сильную струю воды.
— Сильный северный ветер, — пробормотал он вдруг, словно про себя.
Сибирцев замер, услышав эту фразу, скосил глаза на орловца, так же еле слышно ответил:
— Сегодня тепло…
— Па-азвольте мыла! — вызывающе громко, так что Сибирцев вздрогнул, объявил орловец и взял обмылок с раковины Сибирцева. — Благодарю-с!
Вместо обмылка остался лежать в мыльнице маленький бумажный комочек.
Сибирцев небрежно положил сверху ладонь, прополоскал водой горло еще раз и вошел в кабинку. Орловец уже умылся и с песней удалялся обратно в ресторан. “Когда я пьян, а пьян всегда я, я буду вспоминать о вас, и по щеке моей румя-а-ной…” — донеслось из коридора.
Быстро развернул бумажку. Там было несколько слов:
“Берегись Кабанова. Срочно уходи. Гродеково, Вокзальная, 3. Пароль прежний. М”.
— Кто же этот — “М”? У Сибирцева и в мыслях не было, что его непосредственным руководителем мог быть кто-нибудь, подобный этому юному орловцу. Нет, сейчас, скорее всего, приходил связник.
Он тщательно порвал бумажку и спустил воду, проверив, чтоб не осталось клочков. После этого снова пригладил волосы, стряхнул капли воды с мундира и тоже отправился в зал.
Компания напилась. Дамы уже прибыли и теперь с визгом и хохотом усаживались рядом с семеновцами. Официанты тащили стулья. Васька бурно объяснялся со Скипетровым.
Усевшись на свое место, Сибирцев окинул туповатым взглядом опустошенный и разграбленный стол, взялся за бутылку. В этом момент кто-то крепко сжал его плечи и, горячо дыша в ухо, прошептал:
— Ты где был, а?
— Блевать ходил после этого дерьма, — пьяно отозвался Сибирцев, не оборачиваясь.
Цепкие пальцы сдавили сзади его шею.
— А если я пойду проверю, а? — прошипел голос за спиной.
Скривившись, Сибирцев резко повернулся на стуле. Пальцы на его шее разжались. Перед ним, держась рукой за спинку стула, стоял Кабанов и пристально-пьяным взглядом сверлил его зрачки.
— Иди, Кабанов, тебе только этим и заниматься.
— А… — начал было хорунжий, но Сибирцев так же мрачно и убежденно перебил его:
— Уйди, говорю, Кабанов, а то в морду дам… Эй, водки! — Сибирцев сел и, отодвинув от себя пустую бутылку, крикнул в пространство: — Чеа-ек! Пардон, мадам, — он отодвинулся вместе со стулом от оказавшейся рядом дамы.
Кабанов постоял еще, будто раздумывая, покачался вперед-назад с носков на пятки, потом пошел и сел на свое место.
“Случилось что-то серьезное, — размышлял Сибирцев. — Зря не стали бы паниковать. “Берегись Кабанова…” Неужели контрразведчик вышел на него? Вряд ли. Уж очень он откровенно зол. Подозревает? Возможно. Завидует доверительному тону со Скипетровым… Однако приказ ясный: надо смываться. А как?..”
Сибирцев вдруг обнаружил, что рядом с полковником сидит невесть откуда взявшийся молоденький калмыковец. Встречались они как-то на Пограничной. Это когда Сибирцев по приказу “временного правителя” Хорвата ездил к Калмыкову с посольской миссией помирить далеко зашедших в своих разногласиях забайкальского и уссурийского атаманов. Никак не хотел признать Семенов равенства Калмыкова, с позором изгнанного в свое время из 3-го конного корпуса генерала Крымова за всяческие подлоги и интриги против офицеров. И Сибирцев принял все меры, чтобы желательный Хорвату альянс так и не состоялся.
А калмыковец между тем с восторгом рассказывал:
— …Весь юридический отдел… И всех — расстрелять. Всех до одного. А почему, я спрашиваю? А потому, что, — он слегка понизил голос, — много брали. А сдавали мало. — Он захохотал. — А чтоб помирать не тошно — водки ведро, и отдали им на сутки всех девок… Мы их взяли как большевичек. В разведке. Много взяли. Ха-арошие девки, молоденькие. А потом их всех вместе. В расход.
За столом поднялся хохот. Прибывшие дамы явно чувствовали себя неуютно. Но, как понимал Сибирцев, это было только начало.
— Мальчишки… Все вы, калмыковцы, — сопляки… — прохрипел Скипетров. — Без девки подохнуть не можете.
— А на что они нам? — пьяно вскинулся калмыковец. — Мы их в плен не берем. Нам это лишнее. Разве когда нужда в них есть. Поигрался — и в сопки. Пух!
— Это же черт знает что, господа! — воскликнул штабс-капитан и грузно повернулся на стуле к семеновцам. Сибирцев даже вздрогнул, увидев его взгляд, столько в нем было ненависти и презрения.
В глазах Кабанова тоже разгорелась звериная ярость. Сибирцев внутренне напрягся, понимая, что все это неспроста. Но в этот миг произошло неожиданное.
Совершенно багровый, штабс-капитан вскочил со стула, сделал нетвердый шаг к Кабанову и, сорвавшись на визг, закричал:
— Пошел вон, скотина! Дерьмо! Убийца!
В зале повисла мертвая тишина.
Опираясь обеими руками о край стола, Кабанов стал медленно подниматься и вдруг резким, сокрушающим ударом врезал штабс-капитану в подбородок. Тот с грохотом рухнул на свой стол. И тут все словно сорвалось. Треск ломаемой мебели, звон битой посуды, пронзительные вопли женщин. Бабахнули выстрелы. В углах погас свет. Было впечатление, что все бьют всех, на самом же деле целый зал обрушился на семеновцев. Летели бутылки, сыпались с потолка осколки люстр. По распластанным на полу, истошно визжавшим женщинам ожесточенно топтались сапоги господ офицеров, сшибавшихся в рукопашной: бутылка — против ножки кресла, вилка — против кулака, разодранный в неистовой ярости рот, захлебнувшийся ватерным криком, располосованные мундиры…
Раздавая удары направо и налево, Сибирцев стал пробиваться к коридору. Рывком отшвырнул вцепившеюся ему в рукав Кабанова. И в этот же миг что-то будто обожгло ему спину. Ринувшись на пол, в ноги атакующим, он резко обернулся и снова увидел Кабанова, целящегося ему в спину. Выстрел был неизбежен, но тут розовощекий орловец, каким-то чудом оказавшийся рядом с хорунжим, ловким и сильным ударом сапога взметнул его руку, и выстрел грохнул в потолок. Следом раздалось еще несколько выстрелов подряд, дикий вой, и наступила тишина. Публика рвалась из зала, но в центре его битва как-то сразу прекратилась. Рыдали женщины, поднимались с пола окровавленные офицеры, тщетно пытались застегнуть разорванные мундиры, трезвели на глазах, и у всех было видно лишь одно желание — быстрее исчезнуть. Все знал Харбин, ко многому привык, но такого… Это даром пройти уже не могло. Все это понимали. И потому публика в зале как-то сама по себе рассачивалась.
Четверо семеновцев подняли с пола неподвижное тело Кабанова. Один из них неловко выпустил ногу, тело перекосило, и вдруг из кармана хорунжего посыпались деньги, много денег. Все словно оцепенели. Потом чьи-то руки стали хватать эти рассыпавшиеся по полу ассигнации.
— Назад! — заревел Скипетров. Прижимая к подбитому глазу скомканную салфетку, он вместе со скатертью смахнул со стола осколки посуды и приказал: — Клади его сюда!
Кабанова положили на стол. Скипетров залез в один его карман, в другой, расстегнул мундир и отовсюду вынимал толстые запечатанные пачки денег.
— Ох ты… — простонал кто-то. — Да их тут целый мильён.
— Тысяч на двести, — определил другой голос.
Послышался быстрый топот, лязг затворов, и в зал ворвался патруль.
— Всем оставаться на местах! — раздался резкий, повелительный голос.
Случилось так, что Сибирцев оказался почти рядом с бархатными портьерами коридора. Охрана, естественно, сразу бросилась к столу с убитым Кабановым, а Сибирцев, воспользовавшись тем, что внимание всех было приковано к трупу и пачкам денег, кучей лежащим на столе, сделал шаг назад и скользнул за портьеру.
— Быстро за мной! — услышал он шепот.
Мгновенно обернувшись, увидел офицера-орловца, того самого, что заходил в туалет, а позже, во время драки, спасшего Сибирцева от выстрела хорунжего.
Ступая на носки, они почти бегом прошли по коридору, свернули за угол, по темной лестнице спустились во двор ресторана и, обогнув его, остались в тени, наблюдая, как патруль начал выводить и усаживать в автомобили арестованных кутил.
Сибирцев взглянул на орловца, отметил про себя его откровенную молодость и, на всякий случай, негромко сказал:
— Я твой должник. Кабы не ты, лежать мне сейчас там.
— Мура, — отмахнулся орловец.
— Это ты его? — снова спросил Сибирцев.
— А что ж оставалось делать-то? Под шумок, из кармана…
— Лихо!
— Дырку теперь зашивать, — орловец сунул ладонь в карман галифе и показал через отверстие палец. — Ладно, пустяки. Ты, ваше благородие, счастливым родился. Крепко, видать, копнул тебя Кабанов. Началось, наверно, с того, что больно уж благоволил к тебе Скипетров, а кончилось — вон чем. Едва на тот свет не отправил. Аккуратно и быстро проверь свои связи, может, где-то обнаружится прокол. Кабанов — контрразведчик, а попер, вишь, напролом… Но теперь нет Кабанова. Не только самого убрали, но и большое грязное пятно наложили на твое непосредственное начальство. Не думал я, что с деньгами так-то удачно получится. При полном, что называется, стечении народа. Как теперь твой атаман почешется! А? Славно… Твой уход временно отменяется. Но адрес запомни: верный алрес. И последнее. Думаю, тебе сейчас самое время оперативность проявить: дуй-ка к атаману в Маньчжурию, в ноги пади — Григорий Михайлович, отец родной, наших, мол, забижают, это все Калмыкова происки. Полагаю, выручит атаман твоего Скипетрова, а он нам еще пригодится, как прикрытие. И про деньги не забудь. Они сейчас рады будут все свалить на Кабанова, поскольку тот — труп. Ну, бывай. Двинем в разные стороны. Ваши автомобили вроде за тем углом, а я пешком, так скорее… — И он шагнул в темноту.
Сибирцев хотел было его окликнуть, но орловец вернулся сам.
— Ладно, — сказал он. — Раз уж так сложились обстоятельства, знай, я — Михеев. Понял? Самый я что ни на есть натуральный Михеев. У Орлова служу, пока нас, конечно, не разогнали. И наша встреча нынче вынужденная, поскольку вое те же обстоятельства. А ты на меня больше не выходи. Мы с тобой знакомы — и только. Если чего — сам тебя найду. Связь прежняя. Бывай. — Он тронул ладонью Сибирцева за локоть и растворился в ночи.
Вот так и произошла их первая встреча. Давно это было, еще в Харбине…
В кабинете Лациса зазвонил телефон. Мартин Янович встал и, сделав знак Сибирцеву и Михееву следовать за собой, пошел к аппарату. Жестом пригласил сесть у длинного стола и снял трубку.
— Лацис у аппарата. Слушаю, Феликс Эдмундович, — он стал перелистывать бумаги в папке, оставленные секретаршей. — Да, здесь. Буду смотреть… Скажите, Михеев, — Лацис прикрыл ладонью трубку, — товарищ из Тамбова прибыл?
— Прибыл, — поднялся Михеев. — Я его отправил отдыхать до двенадцати.
— Хорошо, — кивнул Лацис и продолжил в трубку: — Прибыл. Все данные по Тамбову и губернии готовы… Буду ровно в десять. — Он повесил трубку, дал отбой и посмотрел на часы.
— Пожалуйста, Михеев, принесите все материалы для Сибирцева. Сейчас девять, у нас есть ровно час времени. — Лацис обошел свой письменный стол и сел напротив Сибирцева. Чуть сощурившись, посмотрел на него — по губам скользнула легкая усмешка — кивнул: — Хорошо, курите. Вот пепельница, — он придвинул пепельницу, набитую окурками. — Дымите. Что вы знаете, Сибирцев, о Тамбовской губернии?
— О Тамбовской?.. — в раздумье повторил Сибирцев. — Земля там, говорят, хорошая. Народ не бедный. Кулаков много. Яша Сивачев был родом оттуда. Из-под Моршанска. Погиб он…
— Он был ваш друг?
— К сожалению, только становился. Не успел. Его взяла контрразведка в прошлом году.
— Семья осталась? — спросил Лацис после паузы.
— Искать надо, — вздохнул Сибирцев. — Вроде были мать и сестра. Где-то там, наверно, живут.
— Вот и выясните. Попутно. Потом сообщите сюда, и мы постараемся помочь семье… К Делу, — уже другим, суровым голосом сказал он и взял принесенную Михеевым папку с бумагами. — Вам надлежит утром выехать в Тамбовскую губернию. В Сибирь пойдет экстренный поезд, он доставит вас в Козлов. Оттуда направитесь в Тамбов. — Лацис посмотрел на него: — Окончательно вопрос решится позже, у Дзержинского. Так что и вы, Михеев, будьте готовы тоже.
— Нищему собраться, Мартин Янович… — начал Михеев, но Лацис махнул рукой:
— У вас представится возможность острить в дороге… Так вот, Сибирцев, ваш друг подготовил для вас обширное досье. С ним следует внимательно ознакомиться.
— Времени маловато, Мартин Янович, — озабоченно сказал Михеев.
— Ничего. Отберите сейчас самое главное. Остальное можно в поезде.
Михеев вышел в приемную, притворив за собой дверь.
— Итак, продолжим. Я имел разговор с председателем губчека. В губернии положение чрезвычайное. Очень. Начну с того, что в наши руки попали документы, которые говорят об участии партии эсеров в кулацком и бандитском движении. Среди этих документов есть весьма любопытные. Здесь, — он хлопнул ладонью по папке, — имеются письма членов эсеровского цека из Бутырской тюрьмы, где они в настоящее время содержатся, а также переписка тамбовского губкома правых эсеров.
Мартин Янович поднялся и стал прохаживаться по кабинету. Поскрипывали сапоги, поскрипывали ремни портупеи, четко и тяжело, с металлической резкостью падали слова особоуполномоченного:
— Это была очень серьезная операция, Сибирцев. Благодаря ей мы твердо установили, что существует связь между кулацко-бандитскими мятежниками и эсеровским центром. Эсеры, конечно, открещиваются, так? Но у нас на этот счет имеются железные факты. В декабре в Ревеле вышел первый номер журнала “Революционная Россия”, центральный орган их партии. Небезызвестный Виктор Чернов наконец отбросил свою демагогию и открыто призывает подпольные организации к активизации борьбы с Советской властью. Вы знаете его?
— Лично не приходилось встречаться, Мартин Янович. Но слышал, читал, конечно, достаточно. Я ведь в Сибири нагляделся на них, кое-кто даже за своего считал… — Сибирцев усмехнулся.
— Это мне известно, — Мартин Янович лукаво сощурился. — Больше скажу, именно это ваше прошлое должно сыграть важную роль в предстоящей операции. Именно оно остановило наш выбор на вас. Когда мы закончим, Михеев познакомит вас с той легендой, которую он разработал… Но вернемся к Чернову. Виктор Михайлович — серьезный противник.
— Бессменный член цека партии эсеров, — добавил, словно в раздумье, Сибирцев — Я бы сказал: мозг движения.
— Совершенно правильно. Только так и должны мы к нему относиться. Фактически в настоящее время он идейный руководитель так называемой “Заграничной делегации эсеров”. Как человек неглупый, Чернов понимает, что поднять массовое движение против Советской власти только силами своей организации он не сможет. Он вступает в союз с меньшевиками и кадетами. Восстание в Кронштадте — дело их общих рук Только что в Петрограде за контрреволюционную деятельность мы арестовали более сотни эсеров и меньшевиков. А их комитет снова открыто призывает к забастовке Рука Чернова тянется далеко: в Воронеж, в Поволжье, в Сибирь и, разумеется, в Тамбов. Посмотрим, что он использует. Первое — голод. Вы, Сибирцев, должны знать, какой сейчас в стране голод.
— Насмотрелся, пока ехал сюда, — кивнул Сибирцев.
— Из окна поезда не так много видно, — возразил Лацис. — В центре России мы имеем жесточайший продовольственный кризис, который перерастает в кризис политический. Нами установлено, что банды в районах Тюмени, Саратова и Тамбова действуют по заранее намеченному плану. Они разрушают железнодорожные пути, грабят продовольственные поезда и ссыпные пункты, зверски убивают наших товарищей-продотрядовцев. Разграблено около шести миллионов пудов хлеба Это самые приблизительные данные. Голод сегодня для эсеров — средство политической борьбы Опираясь на недовольство значительной части крестьянства и даже рабочих, они пытаются взорвать нас изнутри. У них есть оружие. Много оружия…
— Этого добра, Мартин Янович, по всей России-матушке хватает. Бери не хочу.
— Вот именно! — Лацис рубанул ладонью. — Еще вчера у них был Кронштадт…
— Был? — вырвалось у Сибирцева. Он знал о мятеже, слышал и о том, что на его подавление брошены крупные силы, вплоть до делегатов X съезда большевиков.
— Теперь — был! Мятеж подавлен… — Лацис молча прошелся из угла в угол своего кабинета, резко остановился. — Но! Это стоило большой крови. Кто может оценить стоимость крови?.. Второе. — Он снова пошел размеренными, скрипучими шагами, глядя себе под ноги. — Сознательного пролетариата в Тамбовской губернии очень мало. Многие лучшие большевики были мобилизованы, погибли на фронтах, вследствие чего партийные организации ослаблены. Понимаете ситуацию?.. Так вот, опираясь на кулаков, дезертиров и несознательную, неграмотную крестьянскую массу, эсеры сумели сколотить “Союз трудового крестьянства” с совершенно конкретной программой тщательной и хорошо законспирированной подготовки кулацко-бандитских восстаний. Мы имеем экземпляр их программы, — Лацис пальцем показал на папку, лежащую перед Сибирцевым. — Правильнее было бы назвать этот союз — по тем же буквам — союзом тамбовских кулаков… Вам надо хорошо знать эту программу… А скажите-ка, пожалуйста, Сибирцев, у вас теперь не складывается ощущение, что мы, судя по тому, что я говорю, знаем достаточно много, а дела пока не видно?
Сибирцев смутился от такого прямого вопроса. Он машинально сунул руку в карман к кисету с табаком. Достал, стал сворачивать самокрутку. Лацис молча и с интересом наблюдал за ним.
— Я, Мартин Янович, — сказал наконец Сибирцев, — понимаю всю эту работу как предварительную. Ежели, скажем, здесь случится у меня неувязка, значит, там, у них, считай, гроб с крышкой. Поэтому вся эта подготовка, считаю, правильная.
— Это хорошо, что вы так думаете, — Лацис возобновил свое размеренное хождение.
— Мне еще трудно судить о положении вещей здесь, то есть в Тамбове. Но если говорить о Сибири, мне кажется, Мартин Янович, что одной из главных причин общего недовольства является продразверстка.
— Так! — Лацис будто обрадовался. — Вот мы и подошли к самому главному. В свое время, помните… Ах да, — он улыбнулся, — откуда вам это помнить, когда вы были гам, за кордоном… В свое время мы ввели продовольственную разверстку, как вынужденную меру. У нас просто не было иного выхода, иначе армия и рабочий класс погибли бы от голода. Но сегодня — другое дело. Сегодня уже назрел вопрос о замене продразверстки натуральным продовольственным налогом. Этой мерой мы можем дать крестьянину определенную свободу и определенный доход от своего труда. Теперь все будет зависеть от его личной заинтересованности Подробно об этом вы прочтете в соответствующих документах X съезда партии большевиков, которые мы тоже вам даем. В настоящее время Центральный Комитет рассматривает это предложение Владимира Ильича. Повсеместным введением продналога, в котором будут точно указаны его размеры, и при жестком соблюдении классового принципа мы выбьем землю из-под ног эсеров и кулаков. Оторвем от них трудовое крестьянство, и в первую очередь середняка. Вот наша главная задача на сегодня.
— Простите, Мартин Янович, а какие-либо сроки уже известны? Когда его введут?
— У вас, в Тамбовской губернии, продналог уже вводится. Это в какой-то мере облегчит вашу задачу. Я постарался ввести вас в общий курс событий. А теперь конкретно о вашем деле… Итак, Александр Степанович Антонов. Вам что-то говорит это имя?
— Нет, — покачал головой Сибирцев. — Ничего.
— Хорошо, вкратце. Подробности — в папке. Эсер с девятьсот пятого года Мещанин из города Кирсанова. Сын слесаря. Был в ссылке, вернулся в феврале семнадцатого. До октября был начальником уездной милиции. Позже неоднократно поднимал восстания по деревням, но мы быстро их ликвидировали. Однако наступление Деникина и особенно рейд Мамонтова на Козлов сильно оживили его деятельность. В настоящее время он имеет, по нашим приблизительным подсчетам, несколько десятков тысяч штыков и сабель.
— Ого! — вырвалось у Сибирцева.
— Да, увы, это так. Как человек, имеющий далеко идущую цель, он построил свои силы по образцу Красной Армии. То есть создал полки, институт политотделов, ревтрибуналы, вплоть до войск внутренней охраны. Кроме того, он имеет контрразведку и обширную, хорошо законспирированную сеть агентуры. А мы в это время — как это? — спали на лаврах? Да. По вине нерадивых губисполкомщиков и чекистов Центр еще в прошлом октябре получил ложные сведения о том, что восстание в Тамбовской губернии уже ликвидировано заодно с его руководителем эсером Антоновым. Вы меня понимаете, Сибирцев? А в это время Антонов, отсиживаясь в лесах, укрепил свои банды и сегодня разоружает наши мелкие воинские части, милицию, забирает скот и зерно. Он уже показал себя самым гнусным убийцей из-за угла и безжалостным головорезом. Но самое опасное: он держит под контролем железные дороги восточного и южного направлений. Он держит нас за горло. Понимаете?
— Понимаю, — эхом отозвался Сибирцев. — Положение действительно…
— Нетерпимое! Вам не надо этого объяснять. Вы ведь врач?
— Недоучившийся, к сожалению. Ушел на фронт в шестнадцатом. Ну, еще госпиталь…
— Да-да, — перебил Лацис. — Будучи врачом, вы должны знать, как важно вовремя поставить диагноз. Как необходимо отделить больную ткань от здоровой. Операцию нельзя сделать вслепую. Можно задеть жизненно важные органы А организм еще не выправился от другой, более мучительной и опасной болезни. Так? Да. Но операцию необходимо делать. Вот вы и будете диагностом в этой операции. Орловскому округу дано соответствующее указание. На Тамбовщину мы срочно стягиваем крупные соединения, аэропланы, бронесилы. Предполагается прислать кавбригаду Григория Котовского. Мы усиливаем партийную организацию, местную чека, милицию, посылаем опытнейших руководителей, агитаторов. Только что туда выехал уполномоченный ЦК и ВЦИК Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, который возглавит борьбу с мятежом. Зная вас как опытного чекиста, мы остановили свой выбор на вашей кандидатуре.
— А когда она начнется, эта операция? — Сибирцев уже представлял приблизительно, что ему предстоит, что ему уготовил особоуполномоченный ВЧК.
— В самые ближайшие дни, — взмахами кулака Лацис словно вколачивал гвозди. — Поэтому надо спешить. Феликс Эдмундович уже указывал на несостоятельность принципа окружения бандитов небольшими силами. Мы меняем как организацию, так и тактику борьбы. Не разрозненные действия отдельных отрядов, от которых бандиты легко уходили, а сильные маневренные группы, крупные воинские соединения, которые будут преследовать их до конца, до полного уничтожения. Только что мы ликвидировали кулацкое восстание Колесникова в Воронежской губернии, но остатки его шайки бежали сюда, к Антонову. Уничтожили банду Вакулина на Дону, но и его недобитые бандиты перебрались к Антонову. К нему стягиваются бывшие белогвардейские офицеры, кулаки, эсеры, дезертиры, сгоняется силой крестьянская масса. Такова обстановка. В общих чертах. Весьма общих. Конкретно с задачей вас познакомит Михеев. Он готовил операцию. Феликс Эдмундович подпишет соответствующий документ. По мере развертывания боевых действий ваши функции будут меняться. Первое, что нам предстоит, — это изолировать кулацко-бандитскую верхушку от основной крестьянской массы. А второе — вскрыть эсеровскую и белогвардейскую агентуру, внедриться в эти организации с целью их дальнейшего уничтожения.
Лацис остановился посреди кабинета и заложил большие пальцы за ремень. Выжидательно смотрел на Сибирцева, словно зависел от его решающего слова.
Не в первый раз Сибирцеву оказываться в незнакомой обстановке. Опыт подсказывал ему: не торопиться, все взвесить и проверить тут, чтобы уже там быть свободным в своих решениях. Хотя, в случае чего, рассчитывать, судя по всему сказанному Лацисом, можно будет не только на одного себя. Интересно, что за легенду приготовил Михеев… Вскрыть агентуру — это ведь просто сказать. Сидя в той же губчека, ее не вскроешь. Значит, надо идти вглубь, влезать в эсеровскую шкуру, вспоминать все их программы и решения. Враг, с которым предстоит встреча, конечно, очень серьезный. Эсеры — народ суровый и безжалостный, а в данной ситуации у них, пожалуй, и другого выхода-то нет, как быть безжалостными: все на карту поставлено…
Сибирцев вздохнул, поднял глаза.
— Я понял, Мартин Янович. Постараюсь сделать все, что нужно.
— Хорошо, — сухо заметил Лацис, но глаза его потеплели. — Я был уверен в вас, Сибирцев.
В кабинет вошел озабоченный Михеев, и видеть его в этом состоянии было непривычно. “С чего бы это он?” — подумал Сибирцев.
— Извините, Мартин Янович, через пять минут совещание.
— Благодарю, Михеев, я помню. Мы уже заканчиваем. Пока идет коллегия, вы, Сибирцев, смотрите материалы. Возможно, мы вас пригласим, уточним детали. Будьте готовы.
Все трое вышли из кабинета в приемную, и Лацис запер дверь своим ключом.
— Михеев, — сказал он, обернувшись, — не забудьте, пожалуйста, накормить Михаила Александровича. Умная голова не должна быть голодной, — он улыбнулся. — Время…
— Ну, Мишель, задали вы мне задачку. Прямо ума не приложу, как ты все это осилишь… Тут, — он показал на пухлые папки, разложенные на столе секретарши, — на неделю делов.
Сибирцев с сомнением посмотрел на них, открыл одну, полистал, снова закрыл.
— М-да… — он почесал пятерней затылок. — Постарался ты, брат. Ничего не скажешь… Действительно, на неделю. Что ж, не будем терять времени. Давай показывай все, что касается моей легенды и главных действующих лиц. Остальное потом. — Он плотно уселся на стуле, сдвинув папки в сторону, вынул из кармана гимнастерки несколько сложенных листков бумаги и карандаш. — Давай то, без чего никак нельзя. О деталях поговорим после.
— Вот, — протянул ему тонкую папочку Михеев. — Тут про тебя. Конфетка, Мишель, — оживился он. — Для себя готовил, да уж чего теперь считаться? Бери, пользуйся… Решил я: быть тебе представителем. Знаешь чьим? Смотри, — он перевернул лист, и Сибирцев прочитал: “Всесибирский союз трудового крестьянства”. — Тут, — продолжал Михеев, — начальник Главсибштаба эсер Родионов. Дальше — его военный отдел. И кое-кто из наших с тобой старых знакомых. В частности, полковник Гривицкий. Помнишь такого?.. Маковкин, Гривицкий…
— А-а, — протянул Сибирцев, — поручик? Вот где он оказался… Он что, уже полковник?
— Как видишь. Я ж говорил, старые связи и знакомства всегда пригодятся. Держи. Тут дело верное. Никакой липы… Ты, кстати, тоже полковник.
— Ну да?.. — хмыкнул Сибирцев. — Гривицкий, значит… Помню я его…
— До последнего времени он руководил военным отделом. Недавно взяли мы его. Вообще, почистили ихнюю верхушку: Тагунова и иже с ним тоже. Но об этом их провале пока никто в Тамбове толком не знает. А Гривицкий только числится в начальниках. Сидит он в тюрьме. Официальный начальник теперь ты, как его заместитель. Понял? И зовут тебя Сибирцевым. Есть или, вернее, был у них такой в штабе. Так что ты — самый что ни на есть натуральный Михаил Александрович Сибирцев. И идешь ты к Антонову для установления контактов о совместных действиях… Все чисто. Документы подлинные. Ну как, ничего легендочка? Комар носа не подточит. А для тщательной перепроверки у них не будет времени. Это мне гарантируют наши военные. Ну, поехали дальше… В этой папке все материалы по бандам. Попов — в Поволжье. Вакулин. Это — Дон. С ним, правда, покончено, но многие его бандиты у Антонова. Серов — саратовский. Чует мое сердце, что с ним еще придется помучиться. Серьезный дядя. Знать тебе про них необходимо. В Сибирь такие сведения должны были поступать. Так что изучай… Ну, и вот еще. Здесь, — Михеев прижал папку к груди, заговорил проникновенно, — антоновская агентура в Тамбове. Собрали, что могли, но… все надо проверять и перепроверять. Она вроде как и есть, и нет ее. Понимаешь, Мишель, все это пока мелочовка. А нам нужны киты. Нужны связники. У Антонова железная конспирация и дисциплина. Это без шуток.
— На кого ж я должен выходить? — недоуменно спросил Сибирцев, откладывая в сторону карандаш. — На самого, что ли? А он меня ждет, разумеется, чтобы тут же выложить всю свою агентуру. Так? Лихо придумал.
— Не торопись, Мишель. Я пока, честно говоря, не знаю, сумеешь ли ты проникнуть к Антонову и надо ли это вообще делать. Может, тебя и не допустят. У них свои порядки. Но связь для начала я тебе приготовил. Для них ты — человек новый, пока пойдет проверка, мы постараемся обеспечить твою легенду. А дальше уж придется самому. Зацепка нужна. Понимаешь, зацепка. Причем не эти, которых я тебе даю, а кто-то из крупных, из идейных, из приближенных к самому… Бери, вручаю. А я схожу каши тебе раздобуду. Чаек есть. Может, хлеба достану. Дома-то у меня есть маленько, но далеко туда ехать, а часы бегут.
— Не надо, — отмахнулся Сибирцев. — У меня в мешке есть кое-что… А ты что, уже дом имеешь?
— А, угол снимаю, какой дом! Нет у нас с тобой, Мишель, своего дома. И когда он появится, одному богу известно… Видишь, встретились, а уже скоро расставаться…
— Что это тебя, Володька, на сантименты потянуло? — Сибирцев подозрительно взглянул на Михеева.
— Так ведь живешь, живешь и не знаешь, когда следующая встреча… И будет ли… Ладно, пойду каши все-таки добуду.
Михеев ушел, а Сибирцев углубился в изучение бумаг, изредка делая для себя короткие пометки карандашом. Работа была трудная и спешная, и он полностью ушел в нее. От нее зависело теперь все: успех операции или полный ее провал. Десятки фактов, дат, фамилий укладывались в его мозгу, приобретая строгую последовательность, свою четкую логику.
Шло время. Сибирцев не видел, как вернулся Михеев, принеся с собой миску каши, прикрытую другой такой же миской. Не слышал, как шепотом, настороженно глядя на Сибирцева, отвечал Михеев на телефонные звонки.
Сибирцев нещадно дымил, сворачивая одну за другой самокрутки. Постепенно вырисовывалась перед ним панорама глухих заснеженных лесов, редких деревень и хуторов, скрывающих огромные воинские силы, массу оружия. Кулацкая Тамбовщина… Волчье логово. За мешок пшеницы горло перервет. И вся губерния, словно незримыми прочными нитками, прострочена тайными связями. А на концах этих связей — взрывы, убийства, пожары, грабежи, невероятные насилия…
Очередной требовательный звонок ворвался в сознание Сибирцева, оторвав его от бумаг. Он взглянул на Михеева, нахмурился.
Тот снял трубку, откашлялся.
— Михеев слушает… Так. Ясно. — Он повесил трубку и кивнул Сибирцеву: — Ну, Мишель, не успел ты поесть. Придется позже. Все бумаги срочно в сейф, потом досмотришь. А теперь айда со мной. Зовет Феликс Эдмундович.
Экстренный поезд пришел в Козлов после полуночи. Михеев растолкал, растормошил Сибирцева.
— Вставай, вставай, господин прапорщик, — посмеивался Михеев, он имел вид отлично выспавшегося человека.
— А сам какой? — лениво огрызнулся Сибирцев и сладко, с наслаждением потянулся на свежих жестковатых простынях, радуясь последним остаткам сна и словно догадываясь, что подобное счастье может не повториться. Не будет больше ни литерного вагона, ни свежих простынь, ни упоительного наслаждения быть самим собой.
— Что ж в том позорного, — широко улыбнулся Михеев. — Я, ваше благородие, горжусь тем, что на германской начинал с прапора. Уж чего-чего, а первая-то пуля всегда твоя. Разве не так?
— Храбрости тебе не занимать. Умишка бы… — Сибирцев рывком поднялся, едва не стукнувшись теменем о верхнюю полку.
— Ну, насчет умишка, — капризно надул губы Михеев, — тут вы, конечно, правы. Уж вы-то вовремя смылись. Хотя, кто знает, были бы у атамана наверняка в чине полковника. Генерала — нет, не потянете. Там, знаете ли, порода нужна. А у вас какая порода? Лапоть вы сибирский.
— Ладно, лапоть так лапоть, — усмехнулся Сибирцев. — Семенова, между прочим, верховный генерал-лейтенантом сделал. Вот так. А он — наполовину бурят. Где ж логика?
— А тут своя логика. “Без доклада не входить, а то выпорю!” Помнишь? Во! Как при такой широте взглядов не стать генералом? Очень даже надо быть генералом. Спит сейчас, поди, твой-то атаман на станции Маньчжурия и видит себя в Москве белокаменной под перезвон всех сорока сороков. Вот он спит, а ты поэтому кончай спать. Протри глаза, умойся и пошли завтракать. Или ужинать, бес его знает. Все перепуталось.
— Где мы, уже в Козлове? — Сибирцев только сейчас заметил, что поезд стоит.
— Да, — сразу посерьезнев, сказал Михеев. — Давай-ка, Мишель, одевайся быстрей. Мартин Янович ждет.
Он присел на соседнюю полку и, вынув из внутреннего кармана кожанки металлическую пилку, стал тщательно подтачивать ногти.
Сибирцев не мог понять, каким образом Михееву удается сохранять свежий и бодрый вид. Ни тени усталости. Сам же Сибирцев утомился до предела. И в Москве, и тут, в поезде, работал беспрерывно и, если бы не приказ Лациса, так бы и не коснулся головой подушки. Сколько он спал: час, два — он не знал. И сон не только не освежил, но расслабил, и все тело теперь было мятым, ватным.
— Прибыли, значит, ваше благородие, — задумчиво сказал Михеев. — Вспоминать-то хоть будете?.. Хотя зачем? Воспоминания только отягощают нашу и без того суматошную жизнь. Думать мешают. А мы с вами старые боевые кони. И скакать еще, и скакать…
— Ну тебя, Володька, к черту! — рассердился Сибирцев. — Не порть настроения. И так, понимаешь…
— А хорошо мы поработали. Без похвальбы, хорошо, — Михеев замолчал, глядя, как Сибирцев одевается, закручивает портянки. — Сапоги-то худые, — вдруг пробормотал он. — Знаешь что, Мишель, возьми-ка мои. Размер у нас, вижу, одинаковый. — И он тут же стал стягивать свой надраенный до блеска сапог.
— Ты чего, спятил? Какие сапоги? — опешил Сибирцев. — Не валяй дурака.
— Делай, что говорю, — словно обозлился Михеев. — Я ему, может, жизнью обязан, а он про какие-то вшивые сапоги. Запомни, заместитель Гривицкого в лаптях не ходит. А обо мне можешь не беспокоиться. Сегодня твои сапоги не развалятся, а завтра где-нибудь раздобуду. Я, как говорит Мартин Янович, совсем неисправимый. На худой конец, у какой-нибудь богатой бабы обувкой обеспечусь. За ласку. Они, брат, за ласку — чего хочешь, не только сапоги… Да шучу! Не делай страшные глаза. Для своих бандитов прибереги. Неужели ты думаешь, что для меня пары сапог не найдется? В той же Москве, на Сухаревке? Или на Хитровке? Вот вернусь и добуду. Давай сюда свои.
Сапоги Михеева удобно и плотно сидели на ноге. Сибирцев встал, с удовольствием притопнул каблуками по полу, затянул на поясе ремень и с неловкой признательностью взглянул на Михеева, на свои старые, разбитые сапоги, так не вязавшиеся с лощеной внешностью друга.
— Вот, значит, как, — смущенно сказал он. — За сапоги, брат, спасибо. В самый, что называется, раз сапоги.
— Ладно, — отмахнулся Михеев, — ступай давай. Я тебя потом провожу…
Потирая виски, Сибирцев прошел в середину вагона, в просторный салон особоуполномоченного ВЧК. Он даже зажмурился от яркого света, заливавшего плотно зашторенное помещение. Вытянулся у дверей по стойке “смирно” и хотел было доложить о приходе, но Мартин Янович сам стремительно поднялся из-за стола, заваленного письмами и какими-то документами, поверх которых, свисая на пол, лежала большая карта.
— Явился, богатырь? — без тени иронии, твердо выговаривая слова, сказал Лацис. — Проходи, пожалуйста. Садись вот здесь. — Он показал на широкое мягкое кресло, совсем не вязавшееся со строгой рабочей обстановкой кабинета. — Давай будем говорить на прощанье.
Он снова сел за стол, положил длинные руки с широкими кистями на карту и остро взглянул на Сибирцева.
— Я знаю, что все материалы, которые тебе дали, ты проработал. Это очень хорошо. Но теперь, — Лацис сделал небольшую паузу, — наш план будет меняться. Временно.
Сибирцев насторожился. Он все еще не мог сосредоточиться после сна. И кресло это — мягкое, расслабляющее. Он попробовал выпрямиться, но кресло словно не отпускало. Так и хотелось закинуть ногу за ногу.
— Здесь, — продолжал, по-прежнему глядя в упор, Мартин Янович, — я снова имел беседу с председателем губчека. Он, конечно, жаловался, что положение резко осложнилось. В Козловском уезде участились взрывы на железной дороге, грабежи, убийства. Просил помощи. Да, я знаю, здесь трудно. И у нас нет лишних людей, Но мы обязаны обеспечить, чтобы поезда с хлебом, чтобы все они шли без задержки. Обеспечить безопасность пути. Как это сделать? Времени у тебя, Михаил Александрович, будет очень мало. К тому, о чем мы уже говорили, прибавляется новое задание. Срочно разберись, что происходит в Козлове. Кто здесь действует, Антонов или это самостоятельные банды? С кем они связаны в городе? Вот вопросы. Ты понимаешь, что сейчас, когда в губернию пойдут войска, всякие задержки на железной дороге должны быть исключены. У тебя есть опыт, партия тебя знает и верит. Помоги местным товарищам и постарайся не задерживаться, Михаил Александрович. Помни, для нас сейчас главное — Козлов. И сразу — в Тамбов. — Лацис вынул из-под карты пакет, протянул: — Твои документы, инструкции здесь. Ознакомься. Потом обсудим твое новое задание…
Ушел поезд перед рассветом.
Ушел, унося с собой тепло и уют литерного вагона. Растаял в предутренней дымке фонарь на площадке последней теплушки, развеялась паровозная гарь. Некоторое время еще казалось Сибирцеву, что он различает высокую стройную фигуру Михеева, стоящего на подножке литерного вагона, а потом и это видение пропало. Сама по себе рассеялась толпа, осаждавшая поезд, ушла охрана.
Стало совсем тихо. Насыщенный влагой воздух мелкими капельками оседал на меховых отворотах полушубка, дразнил обоняние резким запахом отсыревшей кожи.
Оглядевшись, Сибирцев увидел прямо перед собой возвышающуюся темную массу вокзала. В редких незаколоченных окнах его дрожали слабые отсветы, вероятно от керосиновых ламп. Близко от Сибирцева хлопнула дверь, и в светлом проеме обозначился на миг силуэт мужчины в шинели, с каким-то странным сооружением на голове. Сибирцев вскинул на плечо свой тощий вещевой мешок и пошел к той двери.
Взбудораженная отходом поезда людская масса снова обреченно устраивалась на каменном полу зала для пассажиров, на редких скамьях, подоконниках. Едко дымили самокрутки, слышался возбужденный, постепенно стихающий гомон. На вошедшего Сибирцева никто не обратил внимания. Был он еще одним не уехавшим неизвестно куда и вынужденным теперь ждать неизвестно какого счастливого случая. Так, скользнуло по нему несколько взглядов, ну разве что привлекли внимание его добротный, черный полушубок и начищенные, справные сапоги. Но и эти взгляды равнодушно погасли.
Перешагивая через лежащих на полу людей, Сибирцев добрался до окошка кассы и негромко спросил сонного, небритого кассира в форменной фуражке, когда ожидается поезд на Тамбов. Тот, позевывая, ответил, что этого в настоящий момент никто знать не может.
Через зал, медленно пробираясь между обалдевшими от ожидания пассажирами, двигались двое патрульных, время от времени поднимая с пола очередного мужика и проверяя документы. Сибирцев двинулся было к ним, но, почувствовав на себе чей-то внимательный взгляд, скосил глаза, медленно повернулся и увидел мужика, укутанного в непомерно великую ему солдатскую шинель. Он сидел неподалеку, на подоконнике, и, слюнявя клок газеты, скручивал цигарку. Заметив движение Сибирцева, поспешно отвернулся. На голове мужика был надет бесформенный лисий малахай, из-под которого торчали концы яркого бабьего платка. “Похоже, что это его силуэт мелькнул в двери”, — подумал Сибирцев и откровенно широко зевнул. Он постоял еще недолго, лениво разглядывая пассажиров, а после так же лениво побрел к выходу, вслед за охраной.
Он расстегнул полушубок, с наслаждением вдохнул свежий воздух и окончательно понял, что все, что было, безвозвратно прошло. И снова, как уже случалось не раз, надо начинать с нуля. Он постоял, поглядывая, не выглянет ли кто за ним вслед, послушал тишину и только потом шагнул в соседнюю дверь, куда ушли патрульные.
Молоденький дежурный, в потертой кожаной тужурке и с огромным маузером в новой лаковой кобуре, висевшей на ремне через плечо, привстал было при его появлении, однако крепко ему, видимо, хотелось спать, потому что он тут же сел на место и подпер кулаками подбородок. Глаза его сонно таращились на вошедшего. Не обращая внимания на вопросительный взгляд дежурного, Сибирцев подошел к столу, сел напротив, устроив вещмешок у ног, огляделся. В помещении больше никого не было. Только за плотно прикрытой дверью в глубине комнаты слышались приглушенные голоса.
— Начальство еще здесь или укатило? — спросил Сибирцев со спокойной усмешкой.
— А ты сам кто такой? — в свою очередь задал вопрос дежурный, и тон его голоса был весьма не ласков.
— Узнаешь… Так где его найти?
Срочно надо. Уверенный тон Сибирцева вроде успокоил дежурного, а протянутый мандат, по которому Сибирцев являлся уполномоченным по всякого рода заготовкам, внушил даже уважение.
— Они все тут были, — ответил он, по-детски потирая глаз кулаком, — но, скорей всего, теперь уехали, как поезд ушел. Домой поехали, куда ж еще.
— Та-ак, — протянул Сибирцев. — Ну-ка, давай, брат, покрути свою машину, — он показал рукой на телефонный аппарат, — да соедини меня с Нырковым.
Названная фамилия окончательно убедила дежурного, что перед ним серьезное начальство. Так что лучше не спорить. Он послушно завертел ручкой аппарата, долго дул в рожок микрофона. Наконец станция отозвалась.
— Семнадцатый мне! — потребовал дежурный. — Семнадцатый, говорю! — он уже почти кричал.
— Полегче, полегче, — Сибирцев положил ему ладонь на плечо. — Ты, брат, так весь вокзал всполошишь.
Он забрал рожок и услышал далекий хриплый голос.
— Нырков у аппарата. Кто это?
— Я это, Нырков. Гость с поезда. Что ж не дождался? Ищи тебя, видишь ли, по всему городу.
— Виноват, товарищ, — сразу сообразил, о чем идет речь, Нырков. — Я велю дежурному проводить тебя. Чтоб дал охрану.
— Опять ты не прав, Нырков. Ну какой мне резон таскаться по городу? Поступим иначе. Ты давай-ка подходи сюда, обсудим ситуацию и решим, как жить дальше. А что не дождался — сам виноват. Спал бы уже себе спокойно.
Сибирцев услышал что-то неразборчивое, и станция дала отбой.
Разговор приезжего с Нырковым произвел на дежурного благоприятное впечатление. Он вышел в соседнюю комнату, где слышались голоса, и вернулся с закопченным чайником. Потом достал из канцелярского шкафа две кружки, дунул в них и что-то потрусил из бумажного кулька.
— А здесь что пьете? — спросил Сибирцев с интересом.
— Как везде, морковь, — объяснил дежурный.
— А-а, уже пробовал. Брусничный лист лучше. Душистый чай получается… Охрана? — Сибирцев кивнул на дверь.
— Она. Все у нас там. И арестованных держим.
— Устрой-ка ты для меня, брат, небольшую проверочку. Этак аккуратно пусть пройдут по залу, посмотрят документы у одного–другого и особо обратят внимание, но без навязчивости, на мужика в рыжем малахае. Под малахаем еще бабий платок повязан. Яркий такой платок. И шинель не по росту. На подоконнике он сидел, неподалеку от кассы.
— Сейчас распоряжусь, — с готовностью отозвался дежурный и ушел в другую комнату. Через минуту оттуда появились двое солдат и протопали к выходу.
— Аккуратно и без навязчивости! — крикнул им вдогонку дежурный.
Сибирцев улыбнулся, взял протянутую кружку и стал пить мелкими глотками. И опять он не ощутил вкуса. Только что горячее, да отдает прелью. Какая-то непонятная мысль тревожила. Нечеткая, расплывчатая, но беспокойная. Надо было понять ее, а поняв, успокоиться. В чем дело? Мужик этот, что ли? Платок дурацкий? Физиономия красная, сытая… Нет, незнаком. Взгляд его острый, заинтересованный? Может быть, не просто заинтересованный?..
Стуча подковками сапог, вернулась охрана. Старший склонился к дежурному и, глядя исподлобья на Сибирцева, вполголоса доложил:
— Нет там такого мужика.
Дежурный встрепенулся, но, встретившись с глазами Сибирцева, махнул рукой. Ладно, мол, нет так нет. На всякий случай спросил:
— Вы внимательно смотрели?
— А как же? — обиделся было старший.
Дежурный снова махнул рукой.
— Отдыхайте.
“Вот она, загадка”, — понял Сибирцев. Неужели он все-таки был неосторожен и где-то прокололся? А может быть, просто внешним своим видом привлек внимание? Нет, внешний вид он менять не собирался. Все же из Сибири прибыл, да в чине немалом.
Заметив пристальный взгляд дежурного, Сибирцев поплотнее запахнул полушубок и спросил, кивнув на дверь охраны:
— Что-нибудь интересное есть?
Дежурный понял вопрос.
— Нет, ничего особенного. Мешочники, спекулянты. Мелочь… — Он вдруг смущенно хихикнул: — Парочку тут раздели… Она — почти в чем мать родила, а он — в котелке и ботинках. Умора! — Дежурный покрутил головой. — И с гонором. Вы, говорит, обязаны сыскать, а не то… А чего там, если Клавка известная тут… Сама небось и навела на своего клиента.
— Так ты ж сказал и ее…
— А для отвода глаз. Вроде как, значит, и она пострадавшая. Дали им по шинели, сидят там… Мелочь все. Утром разберемся.
— Мелочь… Ну-ну… Далеко Ныркову-то добираться?
— С минуты на минуту будут… Да вот они сами.
Дежурный резво вскочил, вытянулся, услыхав быстрые шаги на перроне. Невольно усмехнувшись, поднялся и Сибирцев. В помещение не вошел, а скорее вкатился невысокий плотный человек, в просторном пальто с вытертым бархатным воротником, какие носили еще недавно провинциальные чиновники, и солдатской папахе. Руки он держал в оттопыренных карманах.
Мельком взглянув на дежурного, вошедший тотчас перевел взгляд на Сибирцева. И, увидев его добродушное круглое лицо, стремящиеся быть строгими глаза, Сибирцев почувствовал облегчение и протянул руку:
— Здравствуй. Извини, что пришлось тревожить.
Нырков сжал его пальцы неожиданно жесткой и сильной ладонью, взял мандат, не садясь, прочитал его, сложил и вернул Сибирцеву.
— Здравствуй, — ответил наконец. — Малышев, — не поворачиваясь, сказал дежурному, — ступай к ребятам. Я позову, когда будешь нужен.
Дежурный вышел. Нырков сел на его место, расстегнул пальто, снял папаху, обнажив лысую крупную голову.
— Ну, как прикажешь звать-величать?
— Михаилом, — ответил Сибирцев, тоже садясь.
— Ага, — подтвердил Нырков, — а я, значит, Ильей буду. Неувязка вышла, Миша.
— Ничего, оно, может, к лучшему. Зачем лишние встречи, разговоры.
— Не думал я, что Москва так быстро откликнется.
— А я к тебе не надолго, Илья.
— Это как же? — опешил Нырков.
— Да вот так. Дня два–три, думаю. И — в Тамбов.
— Понятно… В Тамбов. А мы вроде как уже и не люди, — заговорил он вдруг с обидой. — Мы, значит, так, сами по себе. А ему, — он качнул головой в сторону выходной двери, — может, вовсе и не Тамбов, а Козлов наш поперек горла.
“Ему, — понял Сибирцев, — это Антонову”.
— Нет, ты ответь, где справедливость? Где революционная сознательность? — Нырков произносил букву “р” так, словно ее стояло в слове по меньшей мере сразу три подряд. — Как настоящий профессиональный кадр, так дяде. А мне каково? Вон мой кадр! Малышев — вчерашний гимназер. Прошу, умоляю: дайте кадры! А мой собственный профессионализм? Ссылка да Деникин. Это что, опыт?
— У меня примерно такой же, — успокоил его Сибирцев.
— Это ты брось! Я настоящий кадр за версту чую… Такой же… Слушай, Миша, оставайся у меня. Я тебе чего хошь сделаю. Сам к тебе в помощники пойду. Мне же контру брать надо. А с кем ее брать?
— Ну-ну, не прибедняйся.
— А я и не прибедняюсь. Обидно.
— На кого обижаешься-то?
— На кого, на кого… Некоторые думают, что в губернии — там главные дела заворачиваются. В Тамбове. А у нас уезд. Какие, мол, такие дела особые? Промежду прочим, не где-нибудь, а именно у нас, в Козлове, известная тебе Маруся Спиридонова в девятьсот шестом вице-губернатора Луженовского ухлопала. И на каторгу пошла. Очень за это наш Козлов у эсеров-то в чести. Тут осторожный, тонкий подход нужен. Крепкий мужик у нас. Все у него есть: и хлеб, и скот, и граммофон американский, и что душе угодно. Кому голод, а кому, сам понимаешь, это на руку. И за так просто он тебе это дело не отдаст, нет. Он, может, пока и ничейный, а чуть прижмешь — к Александру Степанычу бух в ноги: помоги, мол, большевики одолели продразверсткой. И пошли гулять пожары…
— По части продразверстки имел я беседу. Перед отъездом. Со дня на день заменят ее продналогом.
— Скорей бы уж, — вздохнул Нырков. — Большое для нас облегчение. Чем иначе мужика-то от Антонова оторвешь?.. Так ты, стало быть, не надолго?
— Я уже сказал.
— А мне что надо для тебя сделать?
Сибирцев оглянулся, на что Нырков встал и проверил, плотно ли закрыты обе двери, вернулся на свое место.
— Задача у меня… у нас, Илья, такова: обеспечить бесперебойную работу железной дороги. Выяснить, кто тут действует: Антонов или твои, извини, собственные, уездные. Вскрыть агентуру.
— И это за три дня? — недоверчиво взглянул на Сибирцева Нырков.
— Ну, сам, брат, понимаешь, к слову. Задерживаться не велено, и баста Поэтому… — Сибирцев вынул из кармана гимнастерки сложенный вчетверо исписанный листок бумаги и протянул его Ныркову. — Вот взгляни на мои вопросы. Общая ситуация в губернии мне вроде ясна. Требуются уточнения по ряду пунктов Я подчеркнул их. Видишь?
— Вижу… Ага. — Нырков покачал головой, почесал мизинцем за ухом. — Глубоко хочешь вспахать.
— Иначе нельзя.
— Чую. Только скоро не получится.
— Это почему же? Надо скоро.
— Дак это я вон как понимаю… Решили, значит, по-серьезному взяться? Что ж, это пора. По милиции я б тебе уже нынче мог дать материал… А эти твои, — Нырков ткнул пальцем в записку, — сидят себе посиживают. В учрежденья ходят — и вроде как ни при чем… Кто-то, может, и ни при чем, да ведь как разобраться-то? Кто прав, кто виноват? А поезда горят… Потому и говорю, скоро не получится.
— Ждать, Илья, не могу.
— А я могу?.. Вон контрика взяли, — снова завелся Нырков. — Полдня с ним бился, и впустую. Нутром чую, что контрик, а доказательств нет. Несет какую-то чертовщину… Станешь проверять — неделя уйдет. А где она, эта неделя? Нет ее у меня. На мне вон вся дорога. Чую, что потянется от него ниточка. А как размотать клубок? Опыт, говоришь…
За окном посветлело.
— Да ты устал, поди? — встрепенулся Нырков.
— Нет, ничего. В поезде отоспался… Записку-то убери. Так что ты говорил насчет контрика?
— Егерем он был. У Безобразовых. Жили тут такие помещики — не то князья, не то графы. Митька, младший их, был у Деникина. Это я сам точно знаю. Видел, проверять не надо. После, когда Мамонтов сюда рейд делал, с ним шел. Попил кровушки, бандит. За разорение поместья, значит, мстил. И нынче где-то неподалеку обретается. Это он, думаю, и держит дорогу в клещах. Зверь — не человек. И главное, все про нас знает. Когда и куда какой поезд пойдет, да с чем — все ему известно.
— Может, из твоих станционных кто-нибудь снабжает его? — спросил Сибирцев. — Кассиры там, телеграфисты, или в депо свой человек есть.
— Проверял уж. Всех-то не проверишь! В Тамбове хоть гарнизон, а у меня узловая станция Охрана, правда, есть, но ведь мало. На каждый поезд ее не бросишь. И кадры — сам видел. Пушку таскать — много ума не надо… А Митька тем временем кружит вокруг Козлова, момент ловит. И бьет нас тогда, когда меньше всего ожидаем. Сам ли он по себе, Антонову ли служит — не знаю, не уверен… Я, было дело, в уком уж ходил. Дайте, прошу, верного человека, чтоб в банду проникнуть мог. У меня ж нет таких, все наперечет и всякая собака их знает. А мне в ответ — ищите сами людей У нас нет лишних. Вот тебе и весь сказ…
— Худо, выходит, твое дело, Илья. Ну а контрик этот чего же?
— Слышь, Михаил, ну хоть ты помоги мне Ваньку размотать. Егеря. Ведь чую, не зря он появился. Прямая ниточка к банде. А я для тебя в доску расшибусь, отдельный вагон дам до Тамбова, что хошь сделаю.
— Ишь ты, брат, вагон! — усомнился Сибирцев. — Знаю я ваши вагоны. На крышу подсадишь — и на том спасибо… А насчет егеря твоего давай подумаем.
— Сейчас я его, — рванулся было из-за стола Нырков, но Сибирцев осадил его.
— Погоди, не мельтешись. Расскажи-ка, брат, поподробнее, что ты о нем знаешь.
Ивана Стрельцова, бывшего егеря помещиков Безобразовых, неожиданно узнал сам Нырков в вокзальной толчее. Неказистый, тщедушный мужичонка, был он когда-то грозным и опасным стражем хозяйских лесов и вод. Время и революционные бури, казалось, не тронули его. Разве что поредели серые волосы да порыжели от постоянного курения усы. Таким помнил его теперь уже тоже бывший мастер Козловского железнодорожного депо, страстный охотник Илья Нырков. Еще он знал, что Стрельцов исчез с глаз где-то в конце сентября восемнадцатого, когда в Кирсановском уезде поднял восстание начальник местной милиции Антонов. Восстание разрасталось и, по мере приближения Деникина, активно пополнялось дезертирами, бежавшими из армии, кулацким элементом. Больше двух лет не было о Стрельцове ни слуху ни духу. Зверствовал в уездах Митька Безобразов, но о егере сведений не поступало. И вот — на тебе. Сам. Собственной персоной.
Нырков поступил разумно: не стал брать его на вокзале. Проследил лично весь путь до конца и взял буквально у дверей фельдшера Медведева, который в данный момент сидел в городской каталажке по подозрению в хищении лекарств из больницы. Цепочка замкнулась. Стрельцов понял, что опознан, сам узнал Ныркова, и был преспокойно доставлен на вокзал, благо он под боком, в комнату охраны. Но, запертый в тесной камере, вдруг взбунтовался, стал плакать, кричать, требовать, просить, умолять, чтоб выпустили. Мол, девица какая-то помрет и гак уж еле дышит, криком исходит. Толком Нырков так ничего и не понял, а Стрельцов словно впал в прострацию. То плакал, то молчал, глядя куда-то в угол дикими глазами. И дальнейшие допросы ничего не дали. Бился Илья, и все — впустую.
Когда Стрельцова ввели, Сибирцев увидел совершенно уничтоженного бедой старика. Плечи и руки его мелко тряслись, но тусклые глаза оставались сухими. Сибирцев нарочно отсел в темный угол, чтобы на первых порах не привлекать к себе внимания. Стрельцов отрешенно сидел на табуретке посреди комнаты и, опустив голову, глухо постанывал.
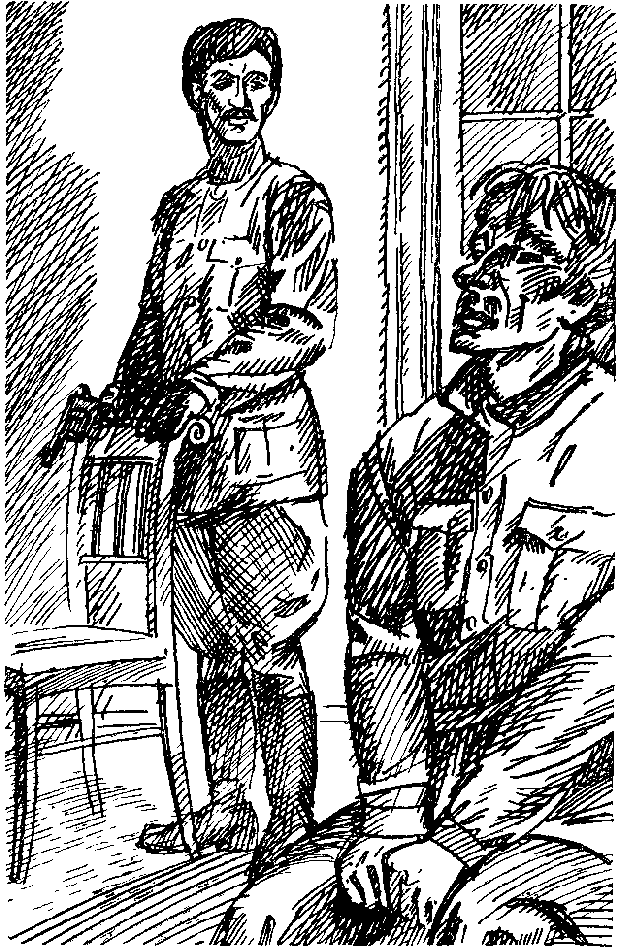 |
— Ну, Ванятка, — строго заговорил Нырков, — давай не тяни. Рассказывай подробно, к кому и зачем шел. Откуда шел. Все говори как на духу. Цацкаться я с тобой больше не хочу. Пущу в расход, вот как светло станет. И так уж сколько времени потерял.
Стрельцов медленно поднял голову, взглянул в совсем уже светлое окно и вдруг с размаху рухнул на колени перед столом Ныркова.
Нечеловечески воя, он бился лбом об пол и выкрикивал:
— Илья Иванович, милостивец, христом-богом молю, отпусти меня… Помирает ведь… Милостивец, родной ты мой, хоть глаза своей рукой закрою… Отпусти…
У Сибирцева аж мороз по коже прошел, столько было в этом крике отчаяния. Это не игра. Так не играют. Это действительно смерть. И не за себя боится старик, не свою смерть чует, с этой-то он, видимо, смирился. С той, другой, смириться не может…
Он посмотрел на Ныркова и заметил крупные капли пота, выступившие на его побагровевшей лысине.
А старик все бился головой об пол и выкрикивал что-то уже совсем бессвязное.
Медленно, словно пересиливая себя, Сибирцев поднялся, шагнул к старику.
— Встать! — скомандовал он хоть и негромко, но столько было власти в голосе, что старик будто запнулся, замер, распростертый на полу, а потом с трудом поднялся, вздернул заросшее свое, дремучее лицо и застыл так, вперив в Сибирцева незрячие глаза.
Сибирцев знал за собой эту силу. Знали ее многие в далеком теперь Харбине. Случалось ему утихомиривать разбушевавшегося семеновца или калмыковца.
— Кто умирает? Где? Говорить быстро!
Взгляд старика постепенно становился осмысленным, именно постепенно, не сразу. И эту деталь отметил Сибирцев.
— Ва… ваше благородие… — залепетал Стрельцов, и глаза его наполнились слезами. — Марья помирает… дочка…
— Где она? Ну?
— Там, — беспомощно мотнул головой старик. — На острове.
— Отчего помирает?
— Родить не может… Господи, другие уж сутки…
— Так. Садись! — приказал Сибирцев, и старик прямо-таки рухнул на табуретку. — Ну? — Сибирцев взглянул на напрягшегося Ныркова. — Давай, Илья, разматывай…
Через полчаса из сбивчивого рассказа старика картина почти полностью прояснилась. Прав был Нырков: вывела ниточка на самого Митьку Безобразова. Старик, похоже, сломался и теперь уже ничего не таил, с нескрываемой надеждой почему-то поглядывая на Сибирцева.
Картина-то вроде прояснилась, но легче от того никому не стало. Трудная задача оказалась перед сидящими возле старика чекистами. По-человечески трудная задача.
Где-то на острове, в районе гнилых болот, свил себе гнездо бандит Безобразов. Вернувшись в уезд вместе с мамонтовскими головорезами, разыскал он жившего в уединении старого своего егеря, а чтоб покрепче привязать к себе, силой сделал своей любовницей единственную его дочку, о которой до сих пор никто толком-то и не слыхал. Собрал банду, делал налеты, грабил, жег, убивал и использовал старика по прямой принадлежности — назначил ею проводником в гиблых болотных местах. Банда невелика: десятка два — в землянках на острове, остальные — по деревням. С полсотни дезертиров да мужиков, недовольных продразверсткой. Но вот пришла пора Марье рожать, а Митька и слышать не хотел, чтобы тайно переправить ее в город, в какую-либо больницу или хоть к повитухе какой в дом, — боялся потерять единственного проводника. Когда начались боли, Митька, отправляясь на разведку в уезд, обещал подумать и найти доктора. И ушел. А Марья кричит, света белого не видит в землянке своей. Тогда старик, посоветовавшись с двумя–тремя мужиками, решил на свой страх и риск смотаться в город, уговорить знакомого доктора. Тут его и взял Нырков. Доктор тот и раньше, бывало, не раз выручал лекарствами, а то и оружием, не раз приходил на остров. Вот какая история приключилась.
Старик молчал, совершенно теперь опустошенный. Молчали и Сибирцев с Нырковым.
Первым очнулся Сибирцев:
— Старика, брат, давай-ка пока в камеру, а сами покумекаем.
Вошел охранник, тронул Стрельцова за плечо. Тот послушно встал и, посмотрев на Сибирцева с тоскливой собачьей безнадежностью, сгорбившись, побрел в камеру.
— Что скажешь, Илья?
— Помог ты мне… Превеликое тебе, прямо скажу, за это спасибо. Тут он, значит, бандит Митька-то. Чуяло сердце мое… Ну, я скажу, полета бандитов — это нам выдержать. Тут нам помощь не нужна. Сами справимся… Ах ты, Медведев, сукин сын! Вот ты какой… Теперь не открутишься…
— Что выдержите, это хорошо. Не об этом речь. Девка-то его вправду помирает… А я ведь врач, Илья. Диплома только не успел получить, в шестнадцатом на германскую пошел.
— А чем мы поможем? Была б она в городе, а штурмовать остров — мертвое дело.
— Надо ли его штурмовать?
— Да ты что, в своем уме? — изумился Нырков. — Кто ж туда пойдет? Какой ненормальный согласится сунуть голову в самое логово? Они ж бандиты… Может, и она уже…
— Боли иногда начинаются за неделю до родов. Перед его уходом, он сказал, кровь появилась. Думаю, что сутки еще есть. Больше — вряд ли… Далеко туда?
Нырков, оторопев, уставился на Сибирцева и молчал.
— Чего молчишь? Далеко туда добираться, до болот этих твоих?
— Нет, он спятил! — сорвался на крик Нырков. — Да кто тебе позволит? Меня же за это повесить мало! Ты знаешь, что со мной сделают, если с твоей головы хоть волос упадет?! Нет. Нынче же отправляю в Тамбов. Тебя еще не хватало на мою голову!
Как ни странно, крик Ныркова успокаивающе подействовал на Сибирцева. И укрепил его решение.
Риск? Да, риск есть. Но ведь это Ныркова знает в городе каждая собака, а он — человек чужой. Почему не быть ему обыкновенным проезжим врачом? Другой вопрос: выдержит ли игру старик? Он, похоже, уже в полной прострации. Но ведь все рассказал, терять ему, с одной стороны, вроде и нечего, а с другой… Продал ведь своих-то. Есть о чем подумать… Думай, Сибирцев, думай. Помимо всего прочего, другого способа проникнуть в банду может просто не представиться…
— Знаешь что, Илья? — сказал он решительно. — Давай сюда еще раз твоего старика.
На Ныркова было жалко смотреть. Он совершенно сник, представляя себе, какие беды вызвал этот проклятый егерь на его голову.
— Ты послушай меня, — продолжал Сибирцев. — Не скажу, чтобы я не боялся смерти. Но мне не впервой. Головорезы, которых я видел, тебе, пожалуй, и не снились. Хоть, в общем, все они одинаковые. Но ведь меня-то они не знают. А риск в нашем с тобой деле нужен. Не выходи г. у нас без риска. Никак пока не выходит. Значит, надо нам, брат, во имя дела рисковать. Разумно рисковать. Если Митька еще здесь, то банда без главаря — не всегда банда. Поверь мне. Да и возможности другой, чувствую, больше не будет… И не гляди ты на меня как на покойника! Бот вернусь, ответишь ты на все мои вопросы и отдашь свой отдельный вагон до Тамбова. Как есть, брат, отдашь. А сейчас кличь сюда старика. Я твердо решил.
Приведенный Стрельцов словно бы уменьшился в размерах, словно бы совсем усох и сморщился.
— Слушай меня внимательно, Иван… как тебя, разбойника, по батюшке-то?
— Аристархович он, — подсказал Нырков.
— Так вот, Иван Аристархович, доктор я. Понял? — Сибирцев сурово посмотрел на старика.
— Господи, батюшка! — Стрельцов попытался было упасть на колени, но они не сгибались. — Милостивец, христом-богом!..
— Цыц! — прикрикнул Сибирцев. — Молчи и слушай. Пойдем сейчас с тобой спасать твою дуру. Это ж надо? Любовничка себе выбрала — бандита отпетого!
— Не выбирала она! — заверещал старик. — Это он, паразит, споганил ее. Из-за меня он ее так, будь я трижды проклят…
— Теперь это меня не интересует, — перебил Сибирцев. — В пути расскажешь, коли захочешь. Сколько времени уйдет на дорогу?
В Стрельцове мгновенно пробудилась надежда, и его понесло. Без пауз, захлебываясь, он стал объяснять, что ежели сперва поездом, так поезда сейчас нет. А ежели подводой, то он сам-то приехал поездом, и потому подводы тоже не имеет. Из всего этого словесного потока Сибирцев понял, что если добираться подводой, то они, пожалуй, еще до вечера поспеют до болот, а уж в сумерках перейдут на остров. Одна беда, вода сейчас большая, снегу много было, и тает дружно. Но старик знает все потайные тропки да кочки, доберутся в лучшем виде. И лошадь будет где оставить.
— Я тебя, батюшка, ваше благородие, — захлебываясь, причитал старик, — на руках донесу, ноженьки замочить не дам…
Наступила реакция, понял Сибирцев. Пора было заканчивать разговоры и переходить к делу. Кое-какие детали можно уточнить и по дороге.
Но тут вмешался Нырков.
— Где сейчас Митька, а, Стрельцов? — строго спросил он.
— Здесь он, где ж ему быть? — испугался старик.
— Ты точно знаешь, что нет его на острове?
— Да уж, милостивец, Илья Иваныч, мне ль сейчас обманывать-то? Вот, как перед христом-богом… Он же без меня в болоте и шагу не ступит. Велел послезавтра встречать. А сам он ни-ни… Утопнуть можно, такие болота.
— А где ты его встречать должен? — сразу ухватился Нырков.
Старик помигал глазами, видно испугался вырвавшихся слов.
— Ну, отвечай!
— Так, Илья Иваныч, он говорит: сиди в сторожке и жди. Я сам приду. Вот и ждешь его день, а то два.
Сибирцев с Нырковым переглянулись, и Сибирцев отрицательно качнул головой. Конечно, заманчиво было бы устроить Митьке засаду, да ведь и он непрост. Нет, пока надо идти самому, и вся надежда на старика. И дорогу покажет, и на бандитское логово выведет. Хотя… Этот вопрос следует хорошо обдумать.
— Ладно, — махнул рукой Нырков, — ты мне за доктора, Ванятка, своей плешивой башкой ответишь. Я и тебя и Марью твою везде найду и к стенке поставлю, как самую распроклятую контру. Понял? То-то… А у кого здесь Митька останавливается?
— Где ж мне знать? — вздохнул Стрельцов. — Я его только досуха провожаю, а уж дальше он сам По три дня, не мене, в городе проводит. А у кого?.. — он снова вздохнул и развел руками.
Похоже, и вправду не знает.
— Ладно, ступай, посиди еще маленько, позову, когда надо, — Нырков подтолкнул его в комнату охраны. Крикнул в приоткрытую дверь: — Дайте ему хоть кипятку! — и добавил негромко: — Загнется еще по дороге от радости… Передумай, Михаил, — обратился он к Сибирцеву, — ей-богу, передумай! Христом-богом тебя, а?
— Кончай, брат, свою шарманку, — перебил Сибирцев. — Слушай, что мне надо. Срочно достань пару простыней, марлю, йод, скальпель, пару зажимов и еще… опий. Это на всякий случай. Спирту небось нет, так дай бутылку самогону. Свечей надо. Их побольше, с десяток.
Теперь главное. О нашем деле ни одна живая душа чтоб ни слова. Сам представляешь, куда иду… Тех, что в камере у тебя сидят, не выпускай. Во избежание болтовни. Вернусь, разберемся. Кое-какие бумаги нужные у меня есть. Дай мне с собой махры, если есть, то моршанской. Это для душевной беседы. А еще мне нужно постановление о добровольной явке дезертиров и всех примкнувших к бандитским шайкам. Знаешь, о чем я говорю. И последнее. Здесь, — он поднял с пола свой вещмешок, — посылка. Несколько банок тушенки, пара фунтов сахару и часы “Мозер”. Я их в тряпицу завернул. Не разбей. Найдешь в Моршанском уезде Елену Алексеевну Сивачеву и передай все это. От сына ее. Мне-то надо бы самому… Но если не вернусь, найди и передай. Знал я Якова. Погиб он… А мог быть с нами. Только-только прозревать стал — и погиб… Ну, а обо мне, брат, сообщишь как положено, по начальству. Возьми эти документы, спрячь. Вернусь — заберу. Все. Доставай подводу.
Громко стучали плохо смазанные колеса. Телега катилась по схваченной за ночь морозцем дороге. Стрельцов погонял лошадь шибко, торопился больше проехать по утреннему холоду. Позже, как взойдет солнце, дорогу развезет, польют смолкшие было ручьи, и уже не громыхать, а хлюпать станут колеса в вязком, жирном черноземе.
Снега в полях было уже немного: он оставался лишь в придорожных канавах, в оврагах, да с теневой, северной стороны бугров — темный, ноздреватый, уже и не снег, а припорошенные, вмерзшие в лед комья земли.
Сибирцев лежал на большой охапке сена, подложив руку под голову и придерживая сбоку кожаный докторский саквояж: где-то умудрился раздобыть Нырков. Глядел по сторонам, вдыхал запах сена, покачивался в такт движению телеги. Машинально перебирал в памяти события последних часов.
Перед самым отъездом еще раз посовещались Сибирцев с Нырковым. Уж больно удобной была мелькнувшая у обоих мысль о засаде.
Деревня, как объяснил старик, называлась Гниловка. Потому, видно, что около гнилых болот располагалась. А сторожка та находилась верстах в трех от деревни. Стояла она на самом краю болота в зарослях ольхи, сама была не заметна, но округа от нее хорошо просматривалась. Значит, поняли чекисты, незаметно к ней не подобраться. Отправить конный отряд вместе с Сибирцевым — рискованно. Вмиг заметят, кому это надо. А если попробовать иначе?
Решили так. Конники пойдут самостоятельно на Гниловку, там и расположатся под видом продотряда. Если все закончится благополучно, Сибирцев, вернувшись с острова, подаст сигнал: два выстрела подряд. Видимо, это будет где-то под утро. Чтоб не проспали, были наготове. Ну, а дальше и решать: идти ли на штурм острова или какой другой выход найдется. Все, считал Сибирцев, решится на самом острове: какие там силы, насколько глубоко увязли в своих черных делах бандиты и, главное, кто с ними связан, откуда ниточки тянутся.
Вот когда все это будет окончательно ясно, можно делать выводы, как брать Безобразова. Уничтожить его банду — значит обезопасить железную дорогу, а там и армия подойдет. Сила! Нельзя больше терпеть, чтоб под самым сердцем Советской власти зрел гнойный фурункул — антоновский мятеж. С ним надо кончать быстрым и решительным ударом. Но и удар нельзя наносить вслепую.
Мартин Янович назвал обеспечение безопасности железной дороги срочной и обязательной задачей. Тамбов с его агентурой — уже потом. А если Безобразов в настоящий момент и есть самое главное? Значит, именно Сибирцеву и следует брать основную тяжесть операции на себя. И документы, и опыт — все есть. Кто мог бы, воспользовавшись удачно подвернувшимся случаем, проникнуть в банду? Малышев, что ли? С его маузером… Чепуха, все развивается правильно. Логично.
Сибирцев словно успокаивал себя, искал оправдание. Но если надо оправдываться — значит все-таки есть сомнения? А в самом деле, не ввязался ли он в авантюру с этой своей экспедицией? Имеет ли он право? Не кончится ли все самым дешевым провалом и роковым выстрелом где-нибудь посреди вонючих топей? Может быть, он попросту поддался мгновенному чувству острой жалости, а может, невесть из каких глубин памяти всплыли великие слова о долге врача всегда и везде помогать страждущему… Черт его знает, как получилось.
Нет, раскаяния в своем поступке он не испытывал. Скорее, по привычке исподволь прослеживал возможные варианты. И почти в любом из них немалая доля риска невольно зависела от этого старика.
Стрельцов совсем уж очухался. Даже вроде похохатывает чему-то своему.
Сибирцеву было, в общем, понятно его состояние. Нечто подобное видел он, помнится, в июле шестнадцатого в полевом лазарете под Барановичами. Привезли пожилого солдата с напрочь, словно бритвой, отхваченной кистью правой руки. Кто-то еще раньше догадался наложить жгут, и теперь солдат сидел у плетня возле хаты, где расположились хирурги. Словно куклу укачивал он свою культю и кричал тонко и визгливо. Пробегавший санитар сунул ему кружку со сладким горячим чаем. И случилось неожиданное. Солдат замолчал. Он бережно уложил культю на колени, взял левой рукой кружку и стал пить и даже счастливо улыбался при этом. Допив, аккуратно отставил кружку, снова прижал культю к груди и завопил так, что из глаз его хлынули слезы.
Видимо, примерно то же самое происходит теперь и со Стрельцовым. Он добился своего: доктор едет. И он не думает, что там, на острове, с дочерью. Может, ее нет в живых. Главное, доктор едет. Кружка с горячим сладким чаем…
Стрельцов уже не раз оборачивался к развалившемуся на сене Сибирцеву, все порывался что-то сказать, но, наверно, не решался. Вот и опять обернулся, и глаза его при этом как-то странно лучились.
— Красота-то какая, а, ваше благородие! Благодать… Дух какой от землицы-то! Большая вода — большой хлебушек. Это точно… Нно-о! — хлестнул он прутом замедлившую было шаг кобылу. — Эх, ваше благородие, господин доктор, нешто это лошадь? Вот, бывалоча, приводили на евдокиевскую коней! Нынче ведь как раз ей время, ярмарке-то. Она всегда на Евдокию-великомученицу начиналась. Со всей губернии праздник. А потом уж дожидай троицкой. Та — не так, лето жаркое. Помню, ваше благородие, было дело, черемис у цыгана коня торговал. Уж порешили они, по рукам как положено ударили, а черемис все в страхе дрожит, обману боится. Цыган ведь известный народ.
“Не верю, — говорит, — тебе, есть в коне обман”. — “Ах, — говорит, — не веришь?” — “Не верю!” — “Не веришь, такой-сякой? Ну так набери, — говорит, — полон рот дерьма, разжуй да плюнь мне в морду, коли не веришь!”
Ух и смеялся народ-то! Весело было. Одно слово — праздник. — Старик долго хихикал, утирая глаза рукавом своего зипуна, покачивал головой.
“Ваше благородие, господин доктор, — подумал Сибирцев. — Неужто этот старик в самом деле до сих пор ничего не понял? Или дурочку валяет?.. Надо ж быть полным кретином, чтобы не сопоставить примитивных фактов. Кто такой Нырков, он не может не знать. Или на него затмение нашло?.. Вот тоже загадка”.
Нырков предложил одеться попроще, полушубок, говорил, уж больно шикарный. Что шикарный, это как раз неплохо. Отличный полушубок. Если кто из бандитов острова хоть раз бывал в Сибири, вмиг признает полушубок черных анненковских гусар. Тех, кто хорошо умели кишки на руку наматывать… Мол, не простая птица, наш доктор-то. А для начала это совсем уж неплохо. Гимнастерку свою привычную только сменил на довольно приличный, но тесноватый под мышками пиджак да переложил во внутренний карман свой неразлучный наган.
— Скажи-ка мне, Иван Аристархович, — старик резво обернулся, услышав голос Сибирцева, — ты к доктору Медведеву шел, говоришь?
— К нему, как же. Другого-то и не знаю. Только не доктор он, ваше благородие. Фершал он. Далеко ему до вас, — неуклюже польстил старик Сибирцеву.
— И давно ты его знаешь? — Сибирцев говорил небрежно, стараясь не вызвать подозрения у Стрельцова.
— Да ить нет, ваше благородие. — Он помолчал и, словно решившись, продолжил: — Приходил он к нам, на остров то есть К Митеньке приходил. Мое дело какое? Встреть и приведи. Лекарству он приносил. Ежели кого из ребятушек ранят, лечил у себя в городе. Слышно, от самого к нам приставлен. Чтоб, значит, слушались и приказы сполняли.
— Как же ты решился идти-то к нему сам, без разрешения?
— Дак что поделаешь, ваше благородие, когда Марья-то. — старик глубоко вздохнул. — Да и кто другой к нам пойдет?.. Сердитый он, фершал-то, кричит, ругается всегда.
— Аза что ругается?
— Приказы, знать, не сполняем. Наш-то не хочет, поди, подчиняться. А фершал ругается. Скоко раз было. — Старик отвернулся и замолчал.
Но и того, что услышал сейчас Сибирцев, было ему достаточно. Значит, Медведев не только связник, но и обладает определенной властью. Это, пожалуй, то, что надо. Главное теперь — вернуться целым и невредимым.
Сибирцев постарался расслабиться и так лежал, вдыхая слабый горьковатый запах тления, исходивший от сена. Его перебивали временами налетавший острый дух конского пота, дегтя, ледяные волны оттаивающей земли.
Низкое серое небо придавило вое видимое пространство. Размытый синеватый гребешок леса по горизонту, размокающая колея, в которой уже по ступицу увязали колеса, ровная одноцветная равнина по сторонам — все это укачивало, убаюкивало, настраивало на мирный, спокойный лад.
Вздремнуть, что ли? Отделаться от всех тревожащих мыслей, от неосознанного, напряженного ожидания.
Как всякий раз перед ответственной операцией, он и теперь понемногу входил в новую свою роль. Давно забытую им роль.
Почему-то казалось, что сами роды осложнения не вызовут. Руки вспомнят, глаза подскажут. Без практики-то оно, конечно, трудновато придется, но ведь, если вдуматься, не так уж и много времени прошло с тех, казалось, навсегда ушедших, студенческих времен — пяти лет, пожалуй, не наберется. Это война и революция стали острым и зримым рубежом между студентом Мишей Сибирцевым и его нынешним, резко возмужавшим и, вероятно, постаревшим двойником. Пять лет, а будто целая жизнь. И ранняя седина, и жесткие складки на щеках и подбородке, и, наконец, неотъемлемое теперь право риска.
Покачивалась и будто плыла в бескрайность телега, смачно и размеренно чавкали копыта, тонко позвякивали склянки в саквояже — и тишина, особенно чутко ощущаемая от присутствия размеренных посторонних звуков. С этим он и заснул.
Вечер приполз незаметно. Стрельцов и хорошо отдохнувший Сибирцев перекусили, остановившись у небольшого березового колка, чем бог послал. А послал он им по краюхе хлеба и шматок старого, с душком, темно-желтого сала — все, что мог дать на дорогу Нырков. Больше ничего не было. Но после долгой дороги эта пища была съедена быстро и до крошки. Запили, зачерпнув горстью воды из родничка. Она пахла снегом и была пронзительно-ледяной. Сибирцев отметил, что старик спокоен и даже нетороплив в движениях, хотя, судя по всему, должен был бы чем-то обязательно выдавать свое волнение.
— Ну-с, милейший, — после долгой паузы покровительственным тоном начал Сибирцев. — Где же эти ваши болота? — Он нарочно выбрал такой снисходительно-барский тон, полагая, что ему, как доктору, он подходит более всего.
— Да вы, батюшка, не беспокойтесь, коли чего. Я ж понимаю.
“Батюшка, — усмехнулся Сибирцев. — Неужели я и впрямь батюшкой выгляжу? Нет, это прежнее, веками в мужика вколоченное. Батюшка-барин, вот что это”.
— Не извольте сумлеваться, все будет в лучшем виде. Нешто ж я не понимаю, не в бирюльки играть едем-то. Я об вас ни словом ни духом — ни-ни. Ваше благородие, господин доктор. И все. А как же… Кабы не Марья, ноги б моей там не было. Все она, сиротинка сирая… Телегу-то мы надежно спрячем, а сами кочками, где посуху, а где, уж простите, бродом придется. Вода нынче большая. Ну да не пропадем. Там всего и верст-то с пяток не наберется.
Сибирцев слушал, а сам с томительной и теплой тоской думал об уехавшем Михееве, о его сапогах, которые нынче так кстати, о том, что, видно, не избежать лезть в холодную весеннюю воду, и хорошо, если только до голенищ, а ну как по пояс…
Ах, Михеев, Михеев! Будто знал, что обязательно должен Сибирцев впутаться в подобную ситуацию. Характер, что ли, такой?.. Или везение на всякого рода авантюры? Ну, насчет авантюры — это, как говорится, бабка надвое сказала. Ничего пока не ясно, так что авантюра это или разведка боем — еще поглядеть надо. Судя по всему, пожалуй, разведка. А риск — он на то и риск, чтоб душа горела. Чтоб тому, кто следом пойдет, тропка была протоптана. Такая работа: на долю первого всегда главный риск приходится. Сибирцев это знал. Знал и Михеев, тоже впереди идущий… А старик, видать, соображает, что к чему. Любопытный тип, этот бывший егерь Стрельцов. И вслушивался Сибирцев больше не в то, что говорил старик, а — как говорил. Что ж, хорошо пока говорит. Можно подумать, что он уже всерьез принял игру Сибирцева. Доиграет ли — вот вопрос. Вероятность срыва, конечно, имеется. Но степень риска, — полагал Сибирцев, — все-таки не завышена. В пределах нормы… Правда, норму ту устанавливал не кто-либо, а сами они с Михеевым. И не для дяди, а для себя. Себя-то ведь порой и пожалеть хочется, и слабинку какую не заметить… А надо замечать. Потому что никто другой, кроме тебя самого, не спросит: “Мог или нет?” Если мог, почему не рискнул? Черт его знает, что такое риск. Жизнь это. Полная и — интересная.
Сумерки сгущались. Дорога различалась совсем слабо, старик находил ее, видимо, нюхом. Резче пахло сыростью и прелью, гнилостным духом пробуждающихся от зимней спячки болот. Сибирцев начал чувствовать легкий озноб, потребность двигаться, размять уставшее слегка тело от долгого лежания в телеге.
На какой-то очередной версте, у очередного перелеска, Стрельцов бодро спрыгнул с телеги, взял лошадь под уздцы и повел ее в сторону от дороги. Сибирцев соскочил тоже, пошел рядом. Сапоги скользили на сырой земле, чтоб не упасть — приходилось держаться за край телеги. Так прошли несколько сот метров. Зачернело впереди какое-то строение — не то сторожка, не то большой шалаш. Сибирцев заметил сбоку небольшую пристройку, что-то вроде навеса. Туда старик и завел лошадь вместе с телегой. Быстро и скоро выпряг кобылу и увел ее вовнутрь. Потом отнес туда же охапку сена, заложил скрипучую дверь светлой обструганной плахой и негромко сказал Сибирцеву:
— Можно б, конечно, в деревне оставить, но лучше, ваше, благородие, туточки. Глазелок меньше, разговоров. И нам дорога ближе… Вы не сумлевайтесь, тут место чистое, лишних нет. Пожалуйте ваш энтот-то, — он показал на саквояж. — Мне сподручней. А вы на случай вот чего возьмите. Для устойчивости. — Он протянул Сибирцеву длинную палку. — Опираться сподручней. Ну, — он вздохнул, — с богом, ваше благородие. Ступайте за мной след в след…
Сибирцев не мог сказать о себе, что он был неопытным ходоком. Приходилось ему много раз блуждать в тайге, умел он различать еле видимую тропу, след человека и зверя, мог сориентироваться в незнакомом месте, но теперь он готов был позавидовать идущему впереди егерю, тому, как тот легко и безошибочно находил нужный ему бугорок, перескакивал на соседний, слегка позвякивая содержимым саквояжа и поджидая Сибирцева. Следуя за ним, Сибирцев оступался, хватался за скользкие ветки и стволы деревьев, хлюпала под ногами вода, сапоги все чаще и глубже проваливались в болото, скоро вода проникла за голенища, и ступням стало совсем холодно и мокро.
“Пропадут сапоги, — с сожалением думал он. — Ах черт, какая жалость… Такие сапоги!”
Они долго кружили по заросшему невысокими влажными осинами болоту, но, видно, такова была тропа, потому что старик двигался довольно быстро. Наконец выбрались из перелеска, и стало светлее.
— Тут, ваш бродь, надо с осторожкой, — совсем уже шепотом предупредил Стрельцов.
Вот оно, начинается, понял Сибирцев. Теперь держись, ваше благородие, господин доктор. Он передохнул, стоя на качающейся кочке и опираясь на палку, которая медленно проваливалась в топь, потом, набрав полную грудь воздуха, словно ныряя в глубокий омут, шагнул за стариком.
Сибирцев по-кошачьи зорко следил за шагающим впереди егерем, старался попадать в его следы, однако не всякий раз мог удержаться на ногах. То палка проваливалась, и он окунался в болотную жижу, то скользила подошва, и тогда хоть на четвереньках ползи. Темно, дьявол его забери. Все на ощупь. Хорошо, саквояж у деда: побил бы все давно к чертовой матери.
“Тяжелая дорога, — думал Сибирцев. — Оно, конечно, ночь теперь. Да, пожалуй, и днем тут не легче, разве что искупаться меньше возможности. Но без проводника, разумеется, нечего и делать. А солдат с собой тащить на остров, да еще ночью — и впрямь задача бессмысленная. Хорошо, что отказались от этой мысли”.
Сколько они шли — час, два? Сибирцев уже не мог вспомнить. Мокрый с ног до головы, он проваливался по пояс, и тогда Стрельцов, чутко следивший за ним, хватал за конец протянутой палки и ловко выволакивал его из топи. Сибирцев чувствовал, что силы уже на исходе. Не думал он, что такой окажется дорога, а ведь еще предстоит роды принимать. Если, конечно, придется их принимать. Если нужда в этом будет.
Наконец почва стала потверже, ногам поустойчивей, и напряжение стало спадать. А вместе с тем под одежду пробрался холод, озноб.
— Теперь уж рядом, ваше благородие, — шептал старик. — Совсем скоро. Обогреетесь, обсушитесь. Самогонки глотнете для сугреву. Ох, господи, хучь бы Марья жива осталась… Век себе не прощу!
— Ладно тебе хныкать. Двигай давай.
Спустя какое-то время их окликнули. Стрельцов предостерегающе поднял руку. Шепнул:
— Постой тут, я сейчас, — и сгинул во тьме.
Сибирцев услышал приглушенный говор, потом различил силуэт старика.
— Пойдем, ваше благородие. Митьки нет, как я говорил. И пока порядок. Орет Марья. Жива, значит, кровиночка, — он всхлипнул. — Вы уж постарайтесь, господин доктор, век молить за вас буду…
Их встретили двое. Разглядеть лица в темноте Сибирцев не мог. Увидел только, что оба рослые они, пахло от них перегаром, махорочным духом. Молча, изредка глухо покашливая, шли они следом за Сибирцевым по узкой лесной тропе.
Вскоре впереди показались отсветы огня, и все вышли на довольно обширную лесную поляну. Посредине горел костер, возле него, на бревнах и древесных стволах, сидело пятеро бородатых в наброшенных на плечи шинелях мужиков. На треноге кипел черный чайник. Мужики курили и с любопытством, молча рассматривали прибывших.
— Доктора привел, — с ходу сообщил Стрельцов каким-то извиняющимся голосом. — Вы уж, братцы, подсобите, ежели что. А? Одёжу просушить, самогонки бы стаканчик. Застыл ведь их благородие, непривычные они, а, братцы?
И столько было унижения и просительности в его голосе, что Сибирцеву стало несколько не по себе.
— Подай-ка сюда саквояж, милейший, — приказал он, — да проведи меня к роженице. А вы, — он недовольно оглядел сидящих, — грейте воду. Много воды. И чтоб ни-ни у меня! Этот чайник — ко мне.
Его слова произвели впечатление, это он сразу заметил. Как-то подобрались люди, один из них уже нес чугунок с водой, ставил в костер. Другой рогатиной снял кипящий чайник и, обернув ручку тряпицей, стоял в ожидании, куда прикажут нести.
— Пожалте, ваше благородие, — засуетился Стрельцов. — Сюда, пожалте.
Землянка, в которой лежала дочь старика, была сделана довольно прилично. Не то чтоб Сибирцеву встать во весь рост, но среднему мужику как раз по макушку. Просторная. В углу — железная печка с раскаленной трубой, выходящей через потолок наружу, небольшой стол, два широких топчана. На одном из них в груде тряпья, выставив кверху огромный живот, лежала женщина. От слабого огонька коптилки по мокрому багровому лицу ее метались тени. Из широко открытого рта вырывался хриплый стон. Сбросив на пол тряпье, Сибирцев увидел всю ее — маленькую, щуплую, почти девчонку, с непомерно большим, округлившимся животом. Она, слабо подергиваясь, перебирала пальцами, и в глазах ее, казалось, застыла жуткая смертная тоска, ужас от боли, которая терзала ее уже давно.
Увидев эти страшные, остановившиеся на нем ее глаза, Сибирцев снова почувствовал озноб, спина его повлажнела и стала ледяной, хотя в землянке было довольно душно.
“Зачем ты здесь?” — услышал он свой собственный вопрос и тут же отметил, с каким напряженным вниманием следят за ним глаза мужиков, набившихся в землянку. Нет, не на нее — на него глядят. Сурово, требовательно, зло.
— Все вон отсюда, — сказал он, но никто не сдвинулся с места. — Тряпье убрать. Подготовить горячую воду. Ну! Живо! — Он повысил голос, и мужики зашевелились, толкаясь, потянулись из землянки наружу.
Сибирцев раскрыл саквояж, достал свечи, зажег сразу несколько штук от коптилки и укрепил их на столе, вынул и разложил на чистой тряпке содержимое саквояжа — скальпель, зажимы, марлю, отыскал порошок хины, пузырек с опием, йод, поставил бутылку с самогоном, наконец, развернул простыни. Одну тут же скрутил жгутом.
Потом он неторопливо, словно каждый день принимал роды, скинул полушубок и шапку, закатал рукава пиджака и вышел наружу. Мужики топтались у входа.
— Где горячая вода? — спросил он.
Подали чайник.
— Остудили?
— Остудили маленько, — сказал кто-то.
— Тогда лей на руки, да не обожги. Морду набью.
Вода была очень горячей, но приятной. Пальцы отходили. Сибирцев только теперь почувствовал, как застыли они. И в сапогах хлюпало. Однако теперь было не до них.
— Миска есть чистая? Сюда, живо… Ты и ты, — он ткнул пальцем в двух, как ему показалось, менее угрюмых мужиков, — будете помогать. Там, на столе, — он кивнул одному, — самогон в бутылке. Принеси сюда.
Мужик быстро вернулся с бутылкой.
— Открывай. Лей на руки. Да не все. Еще потребуется.
Он услышал чей-то сдержанный вздох.
— Так. Теперь, кому сказал, со мной, остальные — пшли к чертовой матери.
Нет, правильную он выбрал тактику. Подействовало. Даже такие вот бородатые, завшивленные дезертиры и те понимают команду. По голосу чувствуют, кто может приказывать, а кому не дано.
Уходя в землянку, он услышал вопрос, заданный старику:
— Где доктора такого взял, а? Это тебе не Медведев, балаболка…
Ответа он не расслышал, хотя следовало бы. Тем более что помянули Медведева. Но теперь уже действительно было не до этого. Прокипятив на “буржуйке” инструменты и смазав руки йодом, Сибирцев расстелил на топчане простыню, дал женщине выпить хины, похлопал ее по щекам, приговаривая:
— Ничего, ничего… Горько, знаю. Надо так, чтоб сперва горько, а потом сладко… Сейчас мы с тобой рожать станем… Ты кричи, не бойся, громче кричи… И реветь тут нечего. Незачем, понимаешь, реветь…
По щекам роженицы текли слезы. Боли, радости ли, что доктор пришел, кто знает, отчего были эти слезы…
Случай, как сообразил Сибирцев, был трудный. Еще бы немного — и, считай, опоздали. Самый, что называется, критический момент. Опыт здесь нужен, большой опыт, да где ж его теперь взять…
— Значит, теперь так, — приказал он мужикам, боязливо стоящим у входа. — Этим жгутом вы будете давить на живот и помалкивать. И мордами не вертеть по сторонам. Слушать, чего прикажу, нехристи окаянные. Ишь, рожи запустили, тифозники. А ты, милая, — ласково обратился он к женщине, — гляди на меня, слушай и помогай мне, тужься. Поняла? Ну вот и хорошо, что ты поняла. Ну, давай нажимайте! Давай, давай, давай…
Сколько прошло часов, Сибирцев не знал. Он охрип, сорвал голос и теперь уже не выкрикивал, а рычал свое “давай-давай”. В приоткрытую дверь землянки стал просачиваться рассвет, гудело пламя в трубе “буржуйки”. Сбросили свои шинели и совершенно уже осоловевшими глазами следили за Сибирцевым мужики со своим жгутом. Обессилела и окончательно потеряла голос роженица, только разевала беспомощно рот, словно рыба на песке, и что-то глухо клокотало в ее груди и горле. И тут…
Словно сквозь сон увидел Сибирцев, как показалось сперва темечко, потом головка. Дрожащими руками стал он направлять тельце выбирающегося к жизни ребенка. И больше всего боялся, что руки не выдержат, уронят, разобьют этот хрупкий, мягкий комочек плоти человеческой.
Потом уже он с удивлением соображал, как ловко и профессионально работали его огрубевшие, отвыкшие от скальпелей и зажимов пальцы, вспомнил, как от хлопка по маленьким ягодицам раздался тонкий прерывистый писк. Но все это уже происходило не наяву, а было каким-то стершимся в памяти давним воспоминанием.
Он обмыл и завернул ребенка в кусок простыни, влажной марлей отер лицо матери, улыбнулся ей и сказал:
— Ну вот и все, милая… Теперь живите. Корми его, холь, расти человеком. Умница ты, богатырскую дочь родила, фунтов, почитай, на десять. Молодец.
Он заметил, как горячечно заблестели глаза матери, на лице ее появился отек, потом его залила бледность, отдающая в синеву. Теперь все будет в порядке, подумал он и велел принести снегу и положить ей на живот.
Ссутулившись, выбрался из землянки. Рассвет еще не пришел. Просто четче стали силуэты людей, деревьев. По-прежнему горел костер.
У входа его встретил Стрельцов.
— Батюшка, — запричитал он, глотая слезы, — милостивец ты наш, господи…
— Будет, — устало сказал Сибирцев. — Счастлив твой бог, Иван Аристархович. Тебя, как деда, поздравляю с внучкой. Славную девицу вырастишь. Ежели только сумеешь… Слей-ка мне на руки. И самогонки дай. Теперь можно.
Помыв и стряхнув руки, он раскатал рукава пиджака и пошел к сидящим вокруг костра мужикам. Теперь их было более десятка. Повыползали, видать, из нор своих. Они уже знали, что роды прошли благополучно, и сразу подвинулись, давая доктору место у огня. Стрельцов стремительно вернулся, принес и набросил на плечи полушубок, поставил рядом саквояж, положил шапку, протянул кружку самогонки и прелую, посоленную луковицу. Сибирцев махом опрокинул кружку и, ничего не почувствовав, словно глотнул воды, стал хрустеть луковицей. Мужики молчали и сосредоточенно дымили самокрутками.
— Ну что, черти болотные, — сказал Сибирцев. — Чего помалкиваете? Человек родился, радоваться надо. А вы как сычи… Или для вас один хрен — что дать жизнь, что взять? Так, что ли?
— Да что радости-то от такой-то жизни? Маета одна, — сидящий рядом мужик в шинели и лаптях зло сплюнул на землю, швырнул в огонь окурок. — Еще одна на муки свет божий увидела.
— Это как глядеть на жизнь, — перебил Сибирцев. — Кому- вот вроде тебя — маета, верно. А кому — воля вольная.
— Видали мы твою волю, — пробасил мужик, сидящий напротив.
— Это где ж видали-то? -усмехнулся Сибирцев. — У Колчака, поди? Или у Деникина? Так один уже рыб скормил, а другому впору самому горбушку сосать.
— Но, но, ты полегше, ваше, благородие…
— А чего полегче-то? Это вы тут в болоте вшей кормите, а я в мире живу. Мне видней.
— Ну и чего ж в твоем-то мире видно, а, ваш благо-родь? — спросил сосед в лаптях.
— Так что видно?.. Многое. Опять же и слухи ходят разные. Верные и сорочьи. Всякие слухи. Курите-то чего?
К нему протянулось несколько рук с кисетами. Он достал из одного щепоть табаку, положил на ладонь, понюхал.
— С корой, что ли?
— А где ж ее взять, настоящую? — обиделся хозяин кисета.
— Среди людей поживешь, так будет и настоящая, — отрезал Сибирцев. Он раскрыл саквояж, достал кисет с моршанской махоркой, которую расстарался добыть Нырков. — На-ка вот, попробуй. Небось и дух забыл.
Протянулось несколько ладоней. Сибирцев отсыпал по щедрой щепоти. Снова полез в саквояж, вынул сложенный лист бумаги, развернул, покачал головой.
— Нет, эту бумагу на курево нельзя. Слишком серьезный документ. — Он снова сложил лист и спрятал в нагрудном кармане.
Ему протянули клок газеты. Оторвав полоску, Сибирцев ловко свернул “козью ногу”, насыпал махорки, прижал пальцем и, вытащив из огня горящую веточку, прикурил. Некоторое время мужики сосредоточенно дымили, покашливали, утирая набегавшую слезу. Крепка моршанская. Истинная.
— Ну, дак, ваш бродь… — напомнил сосед.
— Вот я и говорю, разные слухи ходят, — начал Сибирцев, пристально глядя в огонь. — Ну, например, что мужику серьезное облегчение вышло. Отменили продразверстку.
Мужики, уставившись на него, беспокойно и напряженно молчали.
— Это как же отменили? — заносчиво спросил рыжий мужик с той стороны костра.
— А так, — спокойно ответил Сибирцев. — Пришла пора, и отменили. Будет теперь продналог. Сдал, что положено, а остальное — твое. Хочешь — на базар вези, хочешь — свинью корми. Что хочешь, то и делай. Твое.
— Не врешь, ваше благородие? Как же так отменили? — нерешительно протянул сосед в лаптях.
— Не веришь — твое дело. Ваши тамбовские мужики, сказывают, в Москве были. Они и привезли весть. Не сегодня-завтра декрет на каждом столбе висеть будет.
— Врет он! — вскинулся рыжий мужик. — Ничего не отменяли. Вот и Митька…
— Дерьмо твой Митька, и ты — дерьмо, — угрюмо сказал Сибирцев. — Сами подумайте, на кой ляд России теперь продразверстка? Белых, считай, поколотили. Чего ж дальше-то мужику страдать. На нем, на мужике, ведь вся земля держится. Так я говорю?
— Так-то оно так, — буркнул кто-то. — Да только мужику-то все боком выходит.
— А вот чтоб не выходило боком — и вводят продналог.
— А ты сам, ваше благородие, из каких же будешь? — с издевкой спросил рыжий.
— Из тех, которые людям жизнь дают. Вот как нынче, — Сибирцев кивнул в сторону землянки. — А у меня самого, вот кроме этого полушубка да сапог, нет ничего. Все богатство.
— Ну, есть ли, нет — это еще поглядеть надо. С нами-то чего калякать, ты с Митенькой нашим покалякай. Он тебе враз все разобъяснит.
Остальные мужики помалкивали, пряча глаза. И Сибирцев понял, что этот рыжий у них сейчас за главного. С ним и будет разговор.
— С Митькой я говорить не стану. Не о чем нам с ним беседовать. Я свое дело сделал, пойду восвояси. Это вы тут сидите, ждете, чтоб слухи какие доползли сюда. Шиш они станут сюда ползти. Нынче слухи не ползают, по воздуху летают. Как шрапнель. А главный слух такой, что каюк приходит Александру-то Степанычу. Мол, пожаловались мужики те в Москве на разбой, что творится в губернии, и теперь идет сюда регулярная армия. А что это такое, вы все должны знать. Воевали, поди.
— Не слушай его, мужики, — рыжий вскочил, заорал, размахивая кулаками. — Гад он большевистский! Комиссар! Я их за ребра вешал и всегда резать буду!.. Ах ты, старая паскуда! — Он вдруг увидел Стрельцова. — Ах ты, змея! Вот ты кого привел! Ну погоди, сволочь! Дай Митеньке вернуться, он и тебя, и сучонку твою, и этого комиссара за ноги раздернет!
Мужики глухо зароптали:
— Брось, Степак, чего глотку рвешь?..
— Добро ведь человек сделал…
— Сядь, не скачи, дай с человеком поговорить. От вас и слова нового не услышишь…
— Истинно, как волки в логове…
Выждав паузу, Сибирцев стремительно поднялся, навис над костром.
— Цыц! — рявкнул он рыжему. — Как стоишь, сволочь? Порядок забыл?! Смирно! Волю ему, сукину сыну, дали! За ноги вешать научился! Я тебя, — Сибирцев протянул крепкий свой кулак, — вот этим враз научу. Сядь и молчи, когда умные люди говорят.
Рыжий, злобно озираясь и тяжело дыша, снова сел на свое бревно. Сел и Сибирцев, запахнул полушубок. Сказал спокойно:
— Угадал этот болван, мужики. Комиссар я. И нет в этом ничего плохого. Ежели кто грамотный, тот знает, что всегда были комиссары, лет триста уже. Только тех власть назначала, чтоб народ смирять и давить, а нас — сам народ, чтоб давить вот такую контру, как ваш рыжий Степак. И продразверстку самый главный комиссар лично отменил — Лениным его зовут. И к вам я по своей воле пришел — не шпионить, а помочь. Марье вон его помочь, вам. Не хотите, не надо. Только знайте, не вечно быть большой воде. Лето придет, и выкурят вас отсюда, как злое комарье. Всех начисто выкурят — и не пикните.
Сибирцев взглянул на старика и увидел, как тот делает ему из темноты какие-то знаки.
— Ты чего, Иван Аристархович? Подойди ближе.
— Да я, ваше благородие, господин…
— Брось ты свои благородия. Кончились они… Руки! — снова рявкнул он, мгновенно выхватив наган. — Руки, Степак!
Тот медленно потянул руки из карманов шинели.
— Кто там поближе, мужики, заберите у него пушку. А то начнет палить сдуру, новорожденную перепугает.
Один из мужиков достал из шинели Степака револьвер и сунул себе в карман. Сибирцев тоже спрятал наган.
— И последнее, что я вам скажу, мужики, а потом уйду. Дала вам Советская власть неделю на раздумье. Решайте, тут ли гнить либо хозяйство поднимать. Указ о том уже есть. Вот он, указ, — он вытащил давешний листок, протянул соседу. — Сами прочитаете. Грамотные есть? Вот и хорошо. Обсудите. И тем вашим, что по деревням сидят, расскажите. Знайте одно, наша с вами власть еще никого не обманула. Она и теперь говорит, что те, кто не участвовал в зверствах против населения, должны в течение недели выйти из леса. Они будут прощены. И никаких санкций к ним применено не будет. Дезертир ты там или мужик, запутавшийся в обстановке, обманутый врагами. Кто вино вен, получит свое, но Советская власть смертью карать не станет. Убийцам же и тем, кто будет продолжать борьбу, — тем конец один. И главное, Митьку Безобразова-то не бойтесь. Он за свои поместья мстит семьям вашим, а у вас какая месть? Вам дали землю. Ваша она навечно. И мы не позволим ее у вас отнять всяким Безобразовым. Соображайте, мужики. Нате вам махорки, покурите, подумайте Неделя еще есть. Больше не будет. Выходите из болота… Пойдем, Иван Аристархович, проводи меня. Все одно, без твоей помощи не выйти, а дорогу в этих болотах разве запомнишь? — Сибирцев встал, надел полушубок, застегнулся, поднял шапку и саквояж. — Прощайте, мужики. И не бойтесь комиссаров. Я ведь и сам не сразу к ним пришел. Умные люди подсказали, научили. А мы с вами наверняка больше не встретимся. Проездом я тут. Случай свел.
Вместе с ним поднялось трое мужиков.
— Проводим, — сказал один.
— Ну, тогда пошли, — улыбнулся Сибирцев.
Он еще раз заглянул в Марьину землянку. Свечи оплыли, мигали огоньками, но он разглядел, что и мать и дочь спят. Вздохнул. Будут жить теперь.
На поляне гомонили мужики. Молча посмотрели велел уходящим, а Сибирцев уже не обращал на них внимания Будут стрелять или не будут, сверлила мысль. Нет, не будут, не должны. Вроде сломилось в них что-то. Разве что Степан… С ним ухо держи востро.
Старик шел быстро, будто торопился поскорее покинуть опасное место. Уже рассветало, и тропинка различалась хорошо. Сопели сзади провожатые, слышал Сибирцев — шорох их шагов, приглушенные голоса.
Быстрым шагом вышли к болоту, на последний сухой бугор. Сибирцев обернулся. Троица, шедшая позади, приотстала и теперь что-то горячо обсуждала. Наконец, увидев глядящего на них Сибирцева, они подошли ближе. Один из них, тот самый сосед в лаптях, крепкий и вроде бы самый молодой, другие-то постарше, сказал:
— Ты уж прости, не знаю, как и звать-то: не то ваш бродь, не то гражданин комиссар…
— Там, за болотами, я тебе товарищ. А тут — как сам захочешь.
— Ты нам скажи, гражданин доктор, — вывернулся мужик. — Только как на духу… Бумажкам-то мы уж отвыкли верить… Правда, что ты говорил?
— Правда.
— Перекрестись.
— Хоть и не верую, нате, мужики. Вот вам крест святой.
— И ничего нам не будет?
— Ежели крови на вас нет, не будет.
— Да-а, — протянул бородатый постарше. — Ну, дак как, а, братцы?
— Знаешь что, — снова сказал молодой, — пойдем мы с тобой. Барахла там, все едино, не было, а винтарь — хрен с ним, пусть сгниет. Возвращаться — пути не будет.
— Вот молодцы, — обрадовался Сибирцев. — Самые что ни есть молодцы. Ну, тогда вперед. Двигай, Иван Аристархович…
Путь назад хоть и не легче, но кажется короче. Шли быстро, помогая друг другу, поддерживали в гнилых топких местах. Вышло так, что Сибирцев ни разу не зачерпнул голенищами. Опять же светло. Запоминать такую дорогу — гиблое дело. Тут под ноги смотри, вовремя скокни с кочки на кочку, не жди, пока она уйдет под воду — сразу дальше. И откуда только силы взялись, удивлялся Сибирцев. Будто и ночи жестокой не было. Он поймал себя на том, что ему даже запеть хочется, что-нибудь вроде: “…без сюртука, в одном халате…” И сапоги высохли на ногах, и не зябко было, хотя временами над болотами проносился пронизывающий, моросящий ветер.
Утром вышли к лесу. Запыхались, тяжело дышали, но шага никто не сбавил. Скоро уж и сторожка должна показаться. Мужики перебрасывались крепкими словцами, оскальзываясь и цепляясь за гибкие стволы осинок. Земля становилась суше, тверже под ногами.
Наконец вышли к сторожке, обогнули ее и лицом к лицу столкнулись с молодым человеком, который сидел в телеге, свесив ноги и покуривая папироску.
Стрельцов будто запнулся в шагу, так и замер. Как от удара в грудь, отшатнулись и бородачи. Сибирцев мгновенно уловил смятение в их глазах и позах и в упор взглянул на неизвестного. И чем больше смотрел, тем сильнее напрягалось, как для последнего прыжка, все тело.
Сибирцев узнал его. Хоть не было на нем рыжего лисьего малахая и бабьего яркого платка не было. И шинель сидела совсем не мешком, а ловко и даже с изяществом.
— Так-так, — произнес с ухмылкой незнакомец, перекатывая из угла в угол рта папироску. Круглое женственное лицо его скривилось, прищурился глаз. — Я, значит, жду его у кривой березы ночь напролет. А его нет. Дай, думаю, к сторожке пойду, вдруг там. Кружу десяток верст без малого, гляжу: так и есть. Тут он, голубчик…
“Соврал старик, — мелькнуло у Сибирцева. — Зачем ему это было нужно? Страх, наверно, перед этим… Да, страх”.
— Гляжу: и лошадь и телега. Комфорт. Кому ж это, думаю, такой комфорт? Мне разве? Нет, не мне. Так кому же? Отвечай, сучья рожа! — выкатив глаза, заорал он на Стрельцова и легко спрыгнул с телеги.
Сибирцев и старик стояли почти рядом, и Безобразов — это он, твердо понял Сибирцев, — медленно подходил к ним, оттопыривая карман шинели дулом револьвера.
Шинель портить не станет, быстро сообразил Сибирцев. Вынет револьвер. Пусть только руку потянет. Пусть… Лезть за своим уже не имело смысла. Поздно. Не даст.
— Отвечай! — снова заорал Митька.
— Доктор это, — совершенно убитым голосом выдавил из себя Стрельцов. — К Марье доктор.
— Как? — искренне удивился Митька. — Разве эта шлюха еще не сдохла? Какой такой доктор? Вот этот? Да разве ж это доктор? Это ж чекист. Я его сам наколол. Чекист с поезда. У Ныркова сидел. Вот какой он доктор, голубчики. А вы, — он обратился к бородачам: — Вам тоже доктор нужен? Поносик у вас? Ну, хорошо, с вами разговор еще предстоит. А пока, Сергуня, пощупай-ка его, вынь у него пистолетик. И дай мне. Быстро.
Молодой подошел ближе к Сибирцеву, но остановился.
— Доктор он, Митрий Макарыч. Как есть доктор. Он ить и Марью спас. Девочку родила. С того света своими руками вынес. Отпусти ты его, обчеством просим.
— Ах вот как! У вас уже “обчество” появилось? Быстро.
Упустил момент Сибирцев. Успел выхватить револьвер Митька, теперь ствол его уставился прямо в грудь.
— Значит, что же происходит, а? — снова ласково заговорил Митька. — Я велел сидеть на месте, а этот старый козел в город смотался, чекиста привел, дорогу показал. Да не одного! Вон их в деревне — добрый десяток разместился. Каюк вам готовят, голубчики. Так-то. А вы — доктор! Это ты привел их, шкура! Марью твою я своей рукой пристрелю, если шевельнешься. И сучонку ее. С тобой разговор будет особый, а этого — этого мы сейчас на осинку вешать будем. Голову ему отпилим, чтоб другие запомнили Митю Безобразова. И на этой телеге Ныркову отправим. Пусть голова в город приедет. А уж остальное тут, тут повисит. Брось сюда саквояж! — приказал он.
Сибирцев безразлично швырнул ему под ноги саквояж. Там звякнули инструменты.
— А теперь тулупчик-то сними. Хороший тулупчик, чего его портить. Пригодится тулупчик.
Сибирцев рывком, так что полетели пуговицы, рванул полы полушубка и, сбросив, швырнул под ноги Митьки. Путь к нагану был свободен. Теперь только не упустить момента. Не сводя с Сибирцева взгляда, Митька ловко обыскал карманы полушубка, на миг опустил глаза, но этого мига Сибирцеву было достаточно.
Словно отпущенная пружина, он метнулся в прыжке к Митьке, и через секунду, выбитый ударом сапога, револьвер его мелькнул между деревьями. А сам Митька со всего маху грохнулся головой о колесо телеги.
Сибирцев поднялся с земли, подхватил свой полушубок, надел, подошел к Митьке и рывком за воротник шинели швырнул его на телегу.
Какое-то время все приходили в себя, потом разом загалдели. Стрельцов, со сжатыми кулаками, крича и плюясь, ринулся к Митьке. Рванулись к нему и бородачи. Окружили телегу. А Сибирцев почувствовал вдруг дикую усталость и опустошение. Словно навалился на плечи тяжкий груз всех последних лет. Стали ватными руки и ноги. Он не слушал и не слышал, что кричали мужики, даже не глядел в их сторону. Потом, пересилив себя, подошел к телеге, взглянул в разбитое бабье лицо неподвижно лежащего, оглушенного Митьки Безобразова и услышал, что кричал старик:
— А хучь бы и комиссар, и чекист! Он тебя, паразита, не побоялся. К человеку шел! По горло в воде. А ты его, паразит проклятый, вешать? Голову пилить? Ах ты, будь ты трижды проклят!..
Сибирцев вынул наган и дважды выстрелил вверх.
— Тихо, мужики, — сказал негромко, через силу. — Безобразов — враг Советской власти, и судить его должна Советская власть. Поэтому никакого самосуда. Свяжите его и везите в город. И ничего не бойтесь, мужики…
Сибирцев услышал отдаленный топот копыт, обернулся к дороге и пошел между глубокими колеями тележных колес.
Он не видел, как провожали его взглядами мужики, не видел, как шевельнулся в телеге Митька и потянулась к голенищу его рука. На дальний бугор вынеслись пригнувшиеся к гривам лошадей всадники, и в тот же миг Сибирцев почувствовал сильный удар в спину и увидел, как стремительно рванулась ему навстречу земля.
Пришел вечер. Плыла, качалась телега по расквашенной дороге, каждым рывком вонзая раскаленный штык меж лопатками Сибирцева. Гулко, толчками долетали до него неясные, бубнящие голоса мужиков, их неторопливый, тягучий разговор. Казалось Сибирцеву, что он слышит и знакомый, характерный такой, быстрый говорок Ильи Ныркова, перебиваемый шлепаньем множества копыт. Вцепившись пальцами в края телеги, Сибирцев смотрел в небо. К закату оно очистилось, и только в самой далекой, темнеющей глубине его, словно малиновая пряжа, тянулась к северу узкая тропинка облаков.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |