"Неугомонные бездельники" - читать интересную книгу автора (Михасенко Геннадий Павлович)
СИЛЬНЕЕ ЗАБОРА
Приехала, наконец, Нинка Куликова.
Мы тут же затянули ее на крышу, рассказали о «Союзе Чести» и вручили билет. Нинка хотела ответить что-то, набрала воздуха, но вдруг у нее блеснули слезы, и она ткнулась в плечо сидевшего рядом Славки. Славка побледнел, а мы опешили. Но Нинка тут же вскинула голову и, вытирая глаза, твердо проговорила, что надо, надо немедленно ставить концерт, что с такой силой не концерт выйдет, а фейерверк и что почему мы сами не дошли до этой мысли.
И весь «Союз» занялся подготовкой.
Я решил, по давнему совету Томки, пройтись по сцене на руках и теперь до тошноты тренировался дома. Даже сейчас, после обеда, я встал на руки и, чувствуя, что вот-вот лопну, дошел до дезкамеры. Там отдышался, достал шахматы, с радостью — давно не играл — раскинул доску на своей кровати и открыл Шумовский задачник. Длинные и многофигурные задачи я не любил — это значило, наверно, что не быть мне шахматистом, но что бы это ни значило — не любил и все. Я выбрал «Узника», такую же трехходовку, как и решенный «Меч Дамоклеса». Фигур тут было многовато, но стояли они интересно белые — двумя клетками, а черные король с ферзем сидели в этих клетках, как в тюрьмах. И опять стихи. Черный король не то пел, не то кричал:
а белый конь перебивал его, намекая на ход решения:
Только я задумался — явился Борька, сроду не даст подумать. Прямо из кухни он кинул мне большущий огурец. Не поймай я его, он убил бы котенка, который лежал возле доски, полузасыпанный фигурами. Борька подошел, взял котенка за шиворот, приподнял и спросил:
— Фамилия?
— Осторожней. Я из него артиста делаю, а ты цапаешь, как живодер. Он еще без фамилии.
— Хочешь — назову?
— Давай.
— Вуф!.. Это когда отец приходит с работы очень усталый, он садится за стол и говорит: вуф!.. Самое имя для артиста. У них всегда не имена, а фигли-мигли. Представляешь — объявляют: «Выступают Вов и Вуф!» Аплодисменты, конечно.
Я качнул головой.
— Не пойдет. Какая в нем усталость — он же еще котенок?.. Ему еще сто лет до усталости!
— Жаль, но других имен нет. — Борька опустил котенка в одну из тюремных клеток на шахматах, и тюрьма рассыпалась. — Но есть другие идеи.
Я понял, что он не зря пришел, сдвинул с доски все и, собирая фигуры, спросил:
— Какие?
— Ты видел, какие уже ранетки у тети Зины?
— Видел. А ты видел новый высокий забор с колючей проволокой наверху?
— Разве дело в заборе?
— А в чем?
— В приказе!
— Да?.. Тогда приказываю тебе сегодня же нарвать ранеток, рядовой Чупрыгин!
— Почему мне? «Союзу Четырех!..» Это будет наша военная операция! А то мымры исчезли, бить некого, так хоть на ранетках душу отведем.
Борька был прав. Я тоже над этим думал. Мы слишком увлеклись общими делами. Правда, эти общие дела были и наши, но все же хотелось чего-то чисто своего, для чего и создавался наш «Союз Четырех».
— Правильно, Боб, надо, — сказал я. — Прикажу! Только — молчок!.. Без двадцати три. Айда на сбор. Ты что к концерту готовишь? Сейчас ведь Нинка спросит.
— Да мы со Славкой одну штучку придумали, не знаю только, успеем ли.
— А то вызови кого-нибудь на сцену, например, тетю Шуру-парикмахершу, и нарисуй. Линейку возьми побольше — у тети Шуры физиономия шире Славкиной.
Борька присвистнул:
— Отстал ты. Я уже без линейки рисую.
Нинка была на крыше. Она сидела на какой-то тряпке, подобрав ноги, с книгой и тетрадкой на коленях и нараспев говорила, записывая за собой:
— Ну, хоть кто-нибудь протяните мне руку, лапу или крыло, и я того озолочу! Скорей, люди, звери, птицы! Спасите меня!.. Но куда вы уходите, улетаете, уползаете?.. Я же умираю, несчастные вы твари!.. А, мальчишки, привет! Сейчас… Так, я же умираю. Что он еще может сказать?..
Я подсел к ней, заглянул в тетрадку и спросил:
— Ты что делаешь?
— Пьесу пишу.
— То есть как, пьесу пишешь? — не понял я.
— А то есть так: смотрю в книгу, читаю, где что делается, и пишу… Мы будем ставить «Кощея Бессмертного». В сказке мало разговора, а на сцене нужно все время говорить. Хочешь не хочешь, писать надо.
Я вскинул брови, а Борька спросил:
— Прозой пишешь?
— Конечно. Для стихов надо особый талант, а у меня его нету, и вообще… — медленно проговорила Нинка, просматривая написанное.
Борька подмигнул мне и сказал:
— А такие стихи тебе не подойдут:
Нинка задумалась.
— Могут подойти. В сцене со щукой, когда Иван-царевич подходит к реке.
— Вставляй.
— А чьи стихи?
— Вовкины.
Нинка быстро обернулась ко мне и сделала огромные глаза:
— Правда, Вовк?
— Правда.
— Ужас, что делается! Тогда на, составляй пьесу! — И она хлопнула мне на колени и книгу, и тетрадь.
— Да ты что! — испугался я. — У меня тройка по сочинению! Я в прозе — ни бум-бум!
— Пиши стихами.
— Нет-нет, это я случайно.
— Врет, у него много стихов, — ввернул Борька.
— Где много? Десять строчек за месяц. Нет-нет! — я замотал головой и, сунув Нинке тетради и книгу, перемахнул от нее за конек.
Нинка вздохнула:
— Ну, ладно, давай тогда вместе писать, а то у меня ума не хватает. Вот, например, такое место. Кощей в сказке умирает обязательно, когда Иван-царевич отламывает у иголки конец, а я хочу, чтобы необязательно, а чтобы мог остаться живым, если кто-нибудь его пожалеет. Понимаешь?.. Но его никто не жалеет, и он умирает. Так будет, по-моему, драматичнее, а?.. Я уже прикинула, но чувствую — слабо, — и она закусила карандаш.
Полуслыша и полупонимая, я смотрел против солнца на ее опушенное, как вербный бутон, лицо и удивлялся.
— Значит, и «Царевну-лягушку» ты написала? — спросил Борька, растягиваясь у Нинкиных ног.
— Я.
— А ты говоришь — таланта нет. Талант!
— Нет. Я это не люблю — писать, я люблю ставить. Так что, мальчишки, помогайте.
Тут задрожала лестница, и через пять минут, спустившись ниже, к тополям, «Союз Чести» сидел передо мной в полном составе, даже Томка не опоздала.
Я начал:
— Мы собирались, чтобы наметить, как провести операцию «Концерт».
— Почему операцию? — спросила Нинка. — Просто концерт.
— У нас не принято «просто», — ответил я. — У нас только операции.
— Ничего подобного! — упрямее возразила Нинка. — Проводите на здоровье свои операции «Огурцы», «Подсолнухи» и что угодно, а концерт — это концерт, а не операция.
— Ну, тогда сама командуй, — сказал я.
— Итак, мое слово.
Она объявила, что в первом отделении пойдет пьеса «Кощей Бессмертный», которая является расширенным вариантом «Царевны-лягушки», но в которой теперь будут участвовать все восемь человек, Томка ойкнула и заверещала, чтобы ее не трогали, что она застыдится, перепутает слова и все испортит и что она лучше займется нарядами. Вот дура! Нинка сердито уставилась на нее, потом что-то яростно вычеркнула в своей тетрадке, но тут же задумалась и, мотнув головой, крикнула, что нет, нельзя больше сокращать действующих лиц, что она и так уже сократила Юркино, а две роли одному — жирно будет, хватит, надо, в конце концов, сделать настоящий спектакль, так что Томке придется играть. Томка, глуша нытье, уткнулась в колени, а Нинка стала распределять героев. Мне она дала Ивана-царевича, но велела подстричься, а то, сказала, с такими космами не царевичей играть, а медведей, но медведь у нас уже есть — и показала на Славку. Мы грохнули. В общем, все получили роли и перешли ко второму отделению. Каждый нашел себе номер. Моя ходьба на руках превратилась в «гимнастический этюд», а Славка с Борькой взялись подготовить номер с двухпудовой гирей.
Через полчаса программа была готова, и Нинка облегченно вздохнула:
— Ну, слава Богу!.. М-м, какой будет концертище! Завтра никаких собраний — репетиция! Поняли, мальчишки?.. Вовк, а ты пойдем со мной, писать будем!
— Ага, — ответил я. — Минут через десять приду.
Мы проводили девчонок до лестничных рогулек, как до калитки, сказали, что у нас еще есть дельце и снова сбились в кружок под тополиным шатром.
Я заглянул всем в глаза и произнес:
— Совершенно секретно! Все тут свои? Покажите билеты! — Пацаны вытащили уже помятые и замаранные книжечки. — Хорошо. Объявляю приказ по «Союзу Четырех»!.. Сегодня вечером совершить налет на ранетки Ширминых!
— Есть! — сказал Борька.
— Есть! — мягко стукнул зубами Славка.
А Генка отвесил челюсть.
— Разве теперь можно? — спросил он.
— Слушай, баянист, это в музыкальной школе ты будешь спрашивать, какими пальцами кнопки давить, а тут — приказ, понял? — жестко выговорил Борька.
— А я ничего, я только думал, что у нас такого больше не будет, — неуверенно оправдывался Генка.
Я уж хотел выручать его, мол, не хочешь — не надо, но решил, что не стоит ослаблять гайки — это и «Союзу» на пользу, и самому Генке.
Борька доложил, что обстановка очень сложная и старые способы не годятся: ни перелезть через забор, ни встать на него — высокий и шаткий.
— Но мы должны быть сильнее забора! — заключил Борька. — Думайте!.. Думай, Генк, ты вон как просто с камнем придумал.
— Сломать, — сказал баянист.
— Нельзя, — отклонил я. — Такая простота не пойдет. Еще думай.
А мне представились сразу ножницы с длинными палками и с желобом, по которому отстригаемые ранетки скатываются прямо в карман или в подол.
Славка пошатал ногой бортик водостока и сказал:
— Есть!
— Ну-ка, — встрепенулись мы, зная, что Славка впустую не бросает слова.
— С крыши! — сказал он. — Упремся вот так ногами и спустим на веревке.
Какой-то момент мы сидели замерши, потом разом посмотрели вниз. Метров пять — косточек не соберешь. Но идея — будь здоров!
— Да-а, Славк, — протянул я. — Ход конем!
— А кого спустим? — спросил Генка.
— Наверно, самого легкого, — ответил Славка, и мы давай ощупывать друг друга взглядами, но Славка сказал: — Встаньте-ка, — мы встали, он по очереди приподнял нас за локти и заключил: — Самый легкий Генка, потом Борька.
— Я? — ужаснулся Генка.
— Да.
Не теряя времени я распорядился:
— Значит, спускаем Генку, а Борька — дублер!
— На случай, если Генка оборвется? — усмехнулся Борька.
— На случай, если заболеет.
— Я ему заболею!
Ошеломленный Генка хлопал, хлопал глазами, потом встал на четвереньки, подполз к самому краю крыши и уставился в бездну, куда ему выпало низвергнуться. Не найдя там ничего утешительного, он отполз и вдруг оживленно сказал:
— Я вам лучше яблок принесу, вот таких!.. Посылка опять пришла. И по горсти урюка вместо этой кислятины! — Но мы молчали. Глаза его потухли, он сник, уловив, что поблажки не будет, и, вздохнув глубоко, до пяток, произнес: — Конечно, я спущусь, но зачем?..
Да, Генке трудно было понять нашу тягу к риску, а нам еще труднее объяснить, потому что мы сами не понимали ее, а чувствовали.
Ранетки Ширминых были, и правда, кислые, хоть и крупные, и мы их не то, что рвали, а так… Смотришь, смотришь на садик — вот листики появились, вот стало белым-бело, вот усыпало ветки зелеными плодами, вот они покраснели, и вдруг до жути захочется попробовать, что же из этого всего получилось. Хапнешь горсть-другую, пожуешь-пожуешь, выплюнешь и забудешь до следующего лета. А там опять зазудит… А уж когда такие заборы ставят, то прямо так дразнят: не достанешь, не достанешь!.. Достанем!
Подготовку я сделал один. Сложил вдвое веревку, сплел ее, распилил пополам биту из своего полурастерянного городочного набора и половинки удавкой закрепил по концам веревки. Потом смотал ее аккуратными кольцами, сунул в хлебную сумку и вместе с сумкой припрятал на крыше между трубой и чердачным ходом.
А когда начало темнеть, мы прямо с крыльца Куликовых, где играли в сплетни, отправились на операцию.
Обогнув дом улицей и шмыгнув в воротца, мы прилипли к заборным планкам. Ширмины жили в крайней квартире, и два их окна глядели в садик. Из кухонного свет падал на шиповник, а в зашторенной спальне, против которой и взметывались ранетки, работал телевизор. Очень хорошо — меньше опасности, что ушастая Рэйка услышит нас. У соседей слева, тоже имевших садик, но безо всяких съедобностей, было темно и тихо.
— Ты, Генка, везучий, — шепнул я дрожавшему баянисту.
— Ага, — согласился тот, — только я замерз.
— Пройдет. Думаешь, мне не боязно? Еще как! А если бы не боязно, то нечего было бы и делать. Айда!
Во дворе никого не было. Теперь нам мог помешать только дядя Федя, обычно куривший на крыльце перед сном. Но он сидел в кухне, обложенный книгами, и курил там, так что мы беспрепятственно скользнули на крышу.
Под Генкой сразу же громыхнуло.
— По ребрам! — зашипел я, морщась. — Ставь ноги елочкой и иди по ребрам.
На коньке постояли, прислушиваясь. В доме, как в трюме, держалось ровное гудение. Из-под карнизов лился свет, зубасто белел огородный забор, а потом темнота, взрываемая вдали вокзальными прожекторами.
Мы взяли сумку и спустились к торцу. Послав Борьку на угол караулить, я заглянул вниз, пощупал, не острый ли край, определил, где лучше спустить Генку, чтобы удобнее было рвать — не на самую макушку, а чуть сбоку, — и вытащил веревку.
— Так, — шепнул я, осматривая Генку в слабых отсветах. — Берет сними, а то уронишь, и Рэйка завтра вынюхает тебя… Ну, садись. Не на крышу, балда, а на палку, держи… Не так, а поперек. Дай-ка. — Я сам пропустил палку между его ног и пристроил ее сзади. — Во… Ну, Генк, ползи… Да не головой вперед, а ногами. Нырнуть хочешь?
Борька пискнул сонной птичкой, и мы замерли. Внизу, переговариваясь, прошли на улицу двое — чьи-то гости.
— Давай, Генк!.. Рвать не торопись, оглядывайся, но и не чешись там, понял? Мы не циркачи — держать тебя долго. Кончишь — дернись. Ну!
Генка допятился до края, свесил ноги и намертво впился в веревку. Мы со Славкой медленно стали опускать его. Вот остались плечи, вот Генка перехватил руки, чтобы пальцы не смяло веревкой о железо на перегибе, и, наконец, он весь пропал. Отдав метра два, мы улеглись на спины и застыли, упершись в водосточный желоб. Подобрался Борька, сказал, что все нормально: Генка рвет, размотал оставшийся конец до конька и сел там, уцепившись за палку.
Веревка подрагивала, точно мы закинули огромный крючок и теперь какая-то рыбища заигрывает с наживкой. И вдруг — дерг-дерг! Есть!
— Три-четыре! — шепотом скомандовал я.
Мы откинулись, желоб хрумкнул под ногами, но веревка не подавалась ни на сантиметр.
— Ребя, берись ниже! — прохрипел я. — Борьк, ты там с упором?
— С упором.
— Три-четыре!..
Мы налегли изо всех сил, но — увы! И я, холодея, понял, что Генку нам не вытащить!.. Это значит — опустить, а потом просить Ширминых открыть замок или выпиливать в заборе дыру. Тетя Зина садик, конечно, не отопрет даже для Генки, которого почти целовала после концерта, поднимет шум, соберет народ и будет показывать нашего баяниста, как зверька в клетке, и мы будем посрамленно стоять тут же, три мужественных богатыря! А пилить — услышат, и достанется еще больше. За секунду промелькнуло у меня в голове это позорище, а веревка — ширк! — и проскользнула в усталых руках на несколько сантиметров.
Генка, почуя неладное, задергался сильней.
— Сейчас! — бросил я зло. — Ну что, ребя?
— Кажется, наелись, — съязвил Борька.
— Я спрашиваю, что делать, а не ха-ха-ха! — рассердился я.
И тут по двору звучно прокатился ласковый оклик:
— Ге-ена-а!..
А из садика Ширминых ему преданно отозвалось:
— Ык! — Генка начал икать.
— Генк, потерпи! — прошипел я. — Потом наикаешься.
— Ык!
Ужас! Теперь мы точно пропали!.. А тетя Тося все генкала, она была не из тех родителей, что крикнул раз и — домой, она без сына не уйдет, а двинется на розыски по нашим квартирам и всех всполошит.
— Ребя, ну что? — простонал я.
— Надо чьего-то отца звать, у кого добрей, — сказал Борька.
— Да от любого влетит!
— Тогда уж дядю Федю, — пропыхтел Славка.
— Точно! Борька, дуй к нему, — мол, так и так, скорей.
Дядя Федя явился через две-три минуты, в белой рубахе, как привидение. Он молча и быстро все обследовал, встал боком на край и давай поднимать Генку вертикально. Вытянет с полметра веревки, перегнет — мы держим, вытянет, перегнет — мы держим… Славка сопел, во мне дрожали все жилки, но, когда дядя Федя, как огромную лягушку, с растопыренными и полусогнутыми ногами, выудил, наконец, Генку и поставил на крышу, я, не веря в спасение, продолжал сумасшедше сжимать веревку и упираться в желоб.
Дядя Федя спускался первым. С лестницы он шагнул одной ногой на крыльцо, поснимал нас и завел в кухню. Я бухнулся на мягкий диван и сидел сколько-то с закрытыми глазами, потом услышал, как Генка пьет, унимая икоту, и тоже попросил пить. Кружка пошла по кругу.
— Ну, очухались немного? — спросил дядя Федя, закуривая. — В следующий раз под веревку ставьте блок, чтобы уменьшить трение, иначе плохо кончите.
— Следующего раза не будет, — сказал я.
— Ну, а вдруг?
— Не-не-не, дядя Федя, не будет! — энергично уверил Генка, почувствовавший себя совсем бодро. Еще бы — раскатывал, а у нас кишки трещали.
— Да, пожалуй, не надо больше, — согласился дядя Федя. — А потянет — лезьте в мой огород. Честное слово, я им нисколечко не дорожу.
Генка встал и заявил:
— И огородов больше не будет! Я их не пущу! — Он обвел нас сверкающими глазами, подошел вдруг ко мне и отчеканил: — Товарищ комиссар, ваш приказ выполнен! — и рванул из штанов рубаху.
На колени мне выпал ворох ранеток.
Тут постучали. Я схватил с диванного валика полотенце и кинул его на ранетки. Вошла тетя Тося, строго улыбающаяся.
— Можно, Федор Иванович?.. Вот они! У Бориса — нет, у Юры — нет, иду к Володе и вспомнила, что есть еще дядя Федя! Чем это вы так поздно занимаетесь?
— Ранетки, мам, воруем! — легко сказал Генка.
— Пора, воришки, по домам! — Тетя Тося еще сильнее улыбнулась. — Гена!.. Всех, всех гоните, Федор Иванович, а то они до утра готовы… До свидания, извините.
Веселые Головачевы ушли, а мы, подавленные, остались молча сидеть.
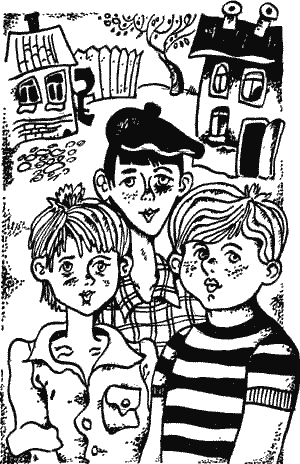 |
(support [a t] reallib.org)