"Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство" - читать интересную книгу автора (Давыдычев Лев Иванович)
Глава под номером ШЕСТЬ и под названием «Воспитание детей — сверхнаиважнейший вопрос современности, или Банда Робертины пытается приступить к преступным действиям»
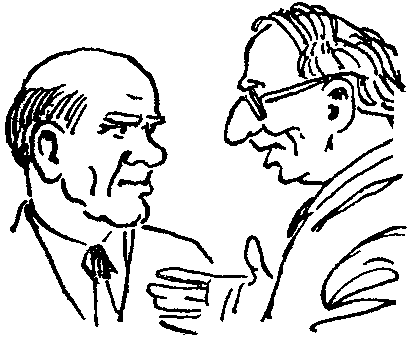 |
Гордей Васильевич, Илларион Венедиктович и робот Дорогуша давно уже пребывали в глубокой задумчивости.
— Когда же это случилось? — вдруг резко и так громко спросил Гордей Васильевич, что у Дорогуши испуганно мигнули глаза-лампочки. — Когда именно, в какой несчастный момент очаровательный малыш начал превращаться, причем безостановочно, в будущего шефчика — организатора банды из малолетних преступников-обормотиков?
— Прошу извинения, — сказал Дорогуша, — позвольте напомнить, что рабочий день окончен. Желаю приятного отдыха. До свиданья.
— Спасибо, Дорогуша, — машинально поблагодарил Гордей Васильевич. — Баловали его, конечно, страшно, немыслимо баловали, антигуманно. В том числе, конечно, и я. И что мне сейчас прикажешь делать? Какие применять меры?
— Прошу извинения, — сказал Дорогуша, — позвольте напомнить, что рабочий день…
— Дорогуша, отключи батареи питания и включи их через двенадцать часов.
— Вас понял.
— Пример послушания! — восхитился Илларион Венедиктович.
— Робот! — насмешливо ответил Гордей Васильевич. — Из него тоже можно бандита сделать, кстати… Главное, с родителями толковать бесполезно. Они в своем обормоте души не чают, млеют от умиления, стоит ему вытворить любую глупость. И сам-то я всего этого до последнего времени почти не замечал. Отрастил он себе редкой красоты шевелюру и решил, что голова дана человеку именно для этого… Нет, нет, ты мне объясни, Иллариоша, откуда он всей этой дряни набрался? Когда успел? Шеф! Организатор банды!
— Пораньше надо было «Чадомер» изобретать.
— «Чадомер» только укажет опасность, а как её ликвидировать, будут решать сами воспитатели. Я вот сейчас, честное слово, убежден, что настоящая, по всем правилам, порка прочистила бы моему внуку мозги, если, конечно, они у него имеются в достаточном количестве.
— На это я тебе вот что отвечу, — насмешливо произнес Илларион Венедиктович. — Выпороть внука по всем правилам тебе не удастся, потому что ты этих правил никогда толком и не знал. А посему необходимым опытом для проведения данной процедуры ты не обладаешь… Беда нас, стариков, — уже серьёзно продолжал он, — а может, и счастье, в том-то и заключается, что мы о себе самих почти не думаем. Всё о них, о них, о потомчиках! Они и привыкли. Вот тебе сейчас только бы радоваться и радоваться. Чудо какое изобрел! А у тебя на душе…
— Работы ещё невпроворот, Иллариоша.
— Не прибедняйся, Гордеюшка. Главное-то уже сделано. И я ведь тебя оч-чень понимаю. Убежден, что заботы твои мне ближе, чем даже твоим ближайшим сотрудникам.
— Мои сотрудники, — с обидой произнес Гордей Васильевич, — преданные науке люди и…
— И я так считаю, — осторожно перебил Илларион Венедиктович. — Просто мне хотелось, чтобы ты не только умом, но и сердцем почувствовал, что мы с тобой большие единомышленники, чем может показаться на первый взгляд. Задумал я оч-чень необычнейшее мероприятие. Решил я посвятить остаток жизни детям, понимаешь, детям в принципе, а не только своим личным потомчикам, — тихо, словно Дорогуша мог подслушать, доверительно рассказывал Илларион Венедиктович. — Только ты отнесись к моим словам со всей серьёзностью, по-научному строго. Задумал я, повторяю, нечто оч-чень необычайное, но, на мой взгляд, и перспективное. И назвал я это мероприятие биолого-психолого-педагогическим экспериментом. Представляешь, среди этих, к примеру, бандитиков-обормотиков появляюсь я… мне лет десять, прозвище Лапа, как в далеком детстве… а в остальном я преждий, то есть генерал-лейтенант в отставке. И начинаю я действовать… Гордеюшка, я с удовлетворением и даже гордостью отмечаю, что ты даже не усмехнулся ни разу.
— Над больными не смеются, — сочувственно объяснил Гордей Васильевич.
Илларион Венедиктович до того растерялся, обиделся и тут же возмутился, что с вызовом начал:
— А ты полагаешь…
— Да! Если ты хочешь, чтобы я отнесся к твоей затее со всей серьёзностью, по-научному строго… Пожалуйста! Завтра же я покажу тебя психиатрам! Нет, ты не сердись, Иллариоша…
— Я просил тебя подумать, а ты сразу…
— Но ведь науке неизвестно…
— А «Чадомер» до того, как ты его изобрел, был известен науке? — уже запальчиво воскликнул Илларион Венедиктович. — Когда ты впервые высказал идею о таком приборе, все ли в неё поверили? Не советовали тебе обратиться к психиатрам?
— Но «Чадомер» — прибор! А как ты станешь десятилетним? Что с тобой потом будет?
Илларион Венедиктович опечалился, ответил неохотно, вяло:
— Это совершенно другой вопрос. А мне необходимо получить не только твоё принципиальное согласие на возможность редчайшего биолого-психолого-педагогического эксперимента, но и твою моральную, дружескую поддержку. Неужели ты не сможешь поверить в целесообразность моей идеи? Если ты сомневаешься в ней как ученый, то почему она не привлекает тебя как деда, наконец?
— Дед-то из меня получился никудышный, — устало и уныло проговорил Гордей Васильевич, и только тут Илларион Венедиктович понял: да ведь его друг просто-напросто зверски устал!!! Пережить за день два потрясения, да тут ещё он, вместо того, чтобы утешить друга или хотя бы отвлечь, пристал к нему со своей фантастикой!
— Чисто по-дедовски, — уже совсем устало и в самой высшей степени уныло продолжал Гордей Васильевич, — я мыслю примерно следующим образом. Жизни своей не пожалел бы, как мы не жалели её с тобой на войне, чтобы любой негодяйчик или негодяечка выросли хорошими людьми. Я ведь начинал свою медицинскую деятельность, если ты помнишь, детским врачом. ещё тогда, видимо, во мне подспудно мелькала идея будущего «Чадомера», вернее, мысли о его необходимости. Ведь со временем я его усовершенствую, сделаю универсальным: он будет предсказывать и возможные болезни, которые грозят пациентику или пациенточке… И бросил-то я замечательную благороднейшую работу педиатра только потому, что нервы не выдержали. Представляешь, умирает у тебя на глазах этакая крохотулечка и ещё сказать не умеет, где и что у неё болит… Эх, дети, дети… Значит, ты, Иллариоша, вознамерился из своего стариковского возраста сразу каким-то, пока никому не известным способом перейти в детский? — Гордей Васильевич неожиданно чуть-чуть улыбнулся н даже несколько оживился. — И всем своим жизненным опытом, умом постараешься воздействовать на сверстников?
— Примерно так, — совершенно серьёзно отозвался Илларион Венедиктович.
— И ты с кем-нибудь советовался по поводу этого опасного своими последствиями эксперимента?
— Нет, по-настоящему только вот сейчас с тобой. А почему опасного своими последствиями? Опасного для кого?
— Если твой биолого-психолого-педагогический эксперимент удастся… — жёстко произнес Гордей Васильевич и долго молчал, словно боялся или не хотел закончить мысль. — Неужели тебе, военному специалисту, и в голову не приходило, что возможность превращения взрослых в детей может стать новым видом оружия?
— Прости, но я думал только о возможности возвращения в детство, — виновато пробормотал Илларион Венедиктович.
— А о последней работе нашего дорогого Ивана — о выведении зверюшек-игрушек — ты, надеюсь, знаешь, не хуже меня?
— Я к нему и собирался обратиться.
— Чтобы новая игрушка получилась? — усмехнулся Гордей Васильевич. — Маленький такой генералик-лейтенантик в отставочке?.. Да не сердись, не сердись, старина! Могу я немного пошутить?
— Шути себе на здоровье, ну, а при чём здесь всё-таки новый вид оружия?
— А вот при чем. — Гордей Васильевич говорил сдержанно, но с явно ощутимым внутренним волнением. — Сейчас все наши враги ломают свои подлые головы над одним вопросом. Не дай бог, в ужасном страхе размышляют они, что люди мира, всё прогрессивное человечество добьется запрещения любого вида оружия! А без войны враги наши не могут. Им всё равно надо нас уничтожить! Для этого они и существуют! И, конечно же, они ищут это новое оружие! Может быть, самое опасное, самое изощренное, самое…
— Извини, извини, — торопливо перебил Илларион Венедиктович. — Помнишь, я рассказывал тебе, что видел во сне Смерть-фашистку. Она ведь мне о чем-то вроде этого толковала, тоже высказывала опасения, что люди добьются запрещения всех видов оружия. И тогда, уверяла она, безмозглая и безглазая фашистка, наступит война, не просто борьба, а именно война за умы и сердца людей. Вот в ней-то главный упор будет сделан на детей. Ибо на их умишки и сердчишки, полагают враги, легче воздействовать. И к этому, думается, надо уже сейчас готовиться.
— Мы и готовимся! — в необычайном возбуждении воскликнул Гордей Васильевич. — Мы должны быть готовыми отразить любое нападение на нас! К сожалению, к несчастью, к подлинной беде нашей, нет ничего проще, рассчитывают враги, чем испортить так называемое подрастающее поколение! И выгоднее всего испортить его уже в детстве!!! Вот мы с тобой сейчас сидим, думаем, как бы сделать так, чтобы потомчики наши гарантийно выросли подлинными гражданами своей страны. А где-то ТАМ тоже сидят, тоже военные и ученые, и строят о детях наших самые сверхнаиподлейшие планы: как бы сделать так, чтобы наши дорогие потомчики выросли настоящими обормотами… Вот теперь о твоем биолого-психолого-педагогическом эксперименте. Наш дорогой Иван — человек сугубо штатский, и когда он изобретает своих зверюшек-игрушек, ему в научную голову и не придёт, что за его изобретением будут охотиться, ЕСЛИ УЖЕ НЕ ОХОТЯТСЯ, все крупнейшие разведки мира, особенно знаменитые «Целенаправленные Результативные Уничтожения».
— Кое-что я начинаю понимать, — растерянно признался Илларион Венедиктович.
— Сейчас всё поймешь! — пригрозил Гордей Васильевич. — Представь себе, если хватит воображения, такую ситуацию. Появилось на территории мирной страны вражеское военное соединение, вооруженное самым наисовременнейшим оружием. И не успели эти головорезы приступить к своему подлому делу, как все превратились в детишек! Бегают голенькими, потому что детской-то одежды командование им не выделило! — рассмеялся Гордей Васильевич. — Кричат, визжат, играют, дерутся между собой, и мирная страна, которую они собирались поработить, может жить спокойно.
Илларион Венедиктович был неподвижен, как робот Дорогуша, сказал глухо:
— Значит, ты обнаружил нечто общее между изобретением Ивана и моим желанием вернуться в детство?
— Конечно. Вот «Чадомер» — прибор, так сказать, самого мирного назначения. А зверюшки-игрушки рано или поздно будут утверждены как имеющие оборонное значение. Причем важнейшее.
— Но ведь никто до сих пор…
— Вот именно — до сих пор! — в голосе Гордея Васильевича прозвучало раздражение. — А я убежден: не может быть, чтобы «Целенаправленные Результативные Уничтожения» ДО СИХ ПОР не заинтересовались идеей создания зверюшек-игрушек и не увидели, ЧТО можно из неё извлечь для военных целей…
— Хорошо, хорошо, то есть совершенно отвратительно! — вскричал Илларион Венедиктович, но почти сразу же сник и спросил чуть ли не беспомощным тоном: — И неужели дети будут лишены замечательнейшего изобретения?
— Ни в коем случае, — убежденно заверил Гордей Васильевич. — Воспитание детей — сверхнаиважнейший вопрос современности. Вот поэтому, дорогой мой, ни на секунду нельзя забывать о том, что мы в ответе за будущее наших потомчиков. Мы обязаны оградить их от любых вражеских происков. А враги следят за каждым нашим шагом. И каждый наш шаг, если мы что-нибудь провороним, они тут же используют в своих наиподлейших целях!
— Если воспитание детей — сверхнаиважнейший вопрос современности, — задумчиво сказал Илларион Венедиктович, — то почему ты против моей попытки вернуться в детство? Неужели ты не видишь в этом биолого-психолого-педагогическом эксперименте никакого смысла? Подожди, подожди! — не попросил, а потребовал Илларион Венедиктович. — Ведь проводили же крупнейшие медики на себе даже смертельные опыты!
— Когда у них не было иного выхода. Я ведь отлично понимаю тебя, Иллариоша. Да, мы иногда, а может, и довольно часто, не умеем глубоко заглянуть в душу ребёнка. А ещё чаще он и сам не может объяснить, что с ним происходит. Когда же ты, предположим, окажешься среди них своим, ты соберёшь массу интереснейших и даже уникальных сведений. Подожди, подожди! — не потребовал, а приказал Гордей Васильевич. — Но всё это надо делать с умом! Вот мы сейчас же позвоним Ивану, может, он из-за границы уже вернулся. А ты немножко остынь.
Набрав номер, Гордей Васильевич долго сидел с трубкой в руке, взглядами давая понять другу, что не отвечают, хотел уже положить трубку на место, но тут же усталое лицо его расплылось в улыбке, он радостно заговорил:
— Здорово, Иванушка!.. Как съездил?
И лицо его вдруг стало менять одно выражение за другим: удивление, восторг, чуть ли не ужас, затем самый настоящий ужас, растерянность… Согласно кивая и уже не так радостно он сказал:
— Поздравляю тебя, дружище… Сыну, конечно, приветы и поздравления от нас с Иллариошей, он вот тут сидит рядом… Договорились… И ты ему нужен… Завтра у тебя в лаборатории сразу после обеда… Всего тебе, вернее, вам, самого наилучшего… Да, да, до завтра…
Гордей Васильевич долго не мог уложить трубку обратно на рычаг, будто рука его не слушалась, а он просто слишком сильно задумался и не менее сильно растерялся. Когда трубка оказалась (не без помощи Иллариона Венедиктовича) на месте, Гордей Васильевич долго смотрел на него каким-то опустошенным взглядом, покашлял, словно прочищая горло, но голос всё равно прозвучал хрипло и глухо:
— Не забудь, завтра у Ивана в лаборатории после обеда встречаемся… вот так…
— Что там случилось?
— Ни в сказке сказать, ни пером описать. Представляешь, за границей Иван встретил… вернее, к нему сам явился… Представляешь ситуацию… Сын к нему явился. Серж. Сергей, значит, по-нашему. А ведь я этого Сержа маленьким на коленях держал… Считали его погибшим под первой бомбежкой…
— А что ж ты помрачнел? Ведь радость-то…
— Да, радость, конечно, великая, — совсем мрачно согласился Гордей Васильевич. — НО! — крикнул он. — Серж этот — агент иностранной разведки!.. Закрой рот, Иллариоша… Вот так. Иван разговаривал со мной, когда его шпион принимал ванну.
— Агент?!?!?! — еле-еле-еле-еле выговорил Илларион Венедиктович. — Ш… ш… ш…. ш…
— Не шипи. Да, шпион. Ему разрешили вернуться. Во всём собирается раскаяться и так далее. Иван, естественно, на седьмом небе… НО-О-О-О-0!!!
— Гордеюшка, объясни мне причину твоего почти дикого вопля.
— Изволь. Я лучше тебя знаю Ивана. Человек он необыкновенной, просто уникальнейшей доброты и доверчивости… А чего вдруг агент иностранной разведки вспомнил через столько лет об отце? Может, об этом ему напомнила разведка, в которой он служит? А? Может, она, разведка, захотела, чтобы сын ТАКОГО ученого вернулся к отцу?
— Прости, дорогой… — Илларион Венедиктович явно замялся, у него от смущения даже щёки порозовели. — Но ведь… а наши органы безопасности? Неужели ты их… опытнее? Ты вот, видите ли, что-то заподозрил, а они… Неужели ты думаешь, что агенту иностранной разведки, пусть даже сыну ТАКОГО ученого, позволят…
— Да не об агенте я! — вспылил Гордей Васильевич. — Ты прав: не мне о нём беспокоиться. Я о нашем дорогом Иване тревожусь. Ведь ему не пережить, если… Вот ты сегодня сердцем почувствовал, что мне, твоему другу, плохо. И сердце тебя не обмануло. А несколько минут назад, когда я слушал восторги Ивана, — он положил левую руку на грудь, — я почувствовал, что моему другу грозит беда. Сейчас же я абсолютно уверен в этом.
Рассуждения Гордея Васильевича, торопливые и сбивчивые, сводились к тому, что органы государственной безопасности потому так и называются, что обезопасят ученого Ивана Варфоломеевича от любой неприятности, какую только может приготовить для него иностранная разведка. Но как отца берется оберегать Ивана Варфоломеевича он, его старый друг. Раз болит сердце за товарища, значит, он нуждается, может, и сам того не подозревая, в помощи.
— Надо знать Иванушку, — убежденно и взволнованно заключил Гордей Васильевич, — и подлейшие методы иностранных разведок.
Через некоторое время Илларион Венедиктович (а они уже шли по улице) признался:
— Вынужден согласиться с тобой, хотя и не всё понимаю в твоих предчувствиях и подозрениях. Но если этому Сержу-Серёже разрешили вернуться к отцу, значит, ВСЁ обдумано и точно рассчитано. Я вот почему-то больше беспокоюсь о тебе, Гордеюшка. Ты в заботах об Иване совсем забыл о своем внуке.
— Не забыл я своего обормота! — резко возразил Гордей Васильевич. — Он у меня, извини, в печенке застрял и ворочается! Возьму я обормота в оборот! Он ведь по натуре ещё и трусоват. Банду он затеял по причине своей отлично развитой глупости и ещё более развитой безответственности. Единица измерения трусости по «Чадомеру» — ДРОЖЬ. Прибор показал у моего обормота восемь единиц вместо ноль целых три-четыре примерно десятых. Это мы и учтём.
Расстались друзья озабоченными, встревоженными. И, конечно, не за себя болело сердце Гордея Васильевича, и не за себя болело сердце Иллариона Венедиктовича.
Будем надеяться, уважаемые читатели, что переживали они не зря, что как раз эти страдания и приведут их со временем к большим радостям.
А мы с вами сейчас должны посмотреть, что творится с Вовиком и Григорием Григорьевичем, Джульетточкой и Анастасией Георгиевной, крепко-накрепко усыпленной собачьим гипнотизёром по фамилии Шпунт.
Прекрасно обстояли дела у Григория Григорьевича с его новой сердечной привязанностью — Джульетточкой. Они просто наслаждались общением друг с другом, дважды подолгу ходили гулять (без поводка!), собачка покорно и весело семенила ножками около самой ноги своего убийцы-спасителя. Они часто обменивались понимающими и умиротворенными взглядами.
Не вынес Вовик этого ужасного зрелища, раздирающего ему душу, сказал почти яростно:
— Я уж лучше буду на улице ждать!
— Правильное решение, — радостно одобрил Григорий Григорьевич. — А ещё лучше — сходи-ка домой пообедать.
Как мне однажды уже доводилось напоминать вам, уважаемые читатели, о пословице «Беда не приходит одна», так это и с Вовиком получилось. На сей раз новая беда пришла к нему в образе воспитанной девочки Вероники, голова[3] которой вся была в разноцветных бантиках.
— Вовик! Вовик! — едва возникнув из подъезда, умоляюще воскликнула она. — Вовик! Вовик! — так обрадовалась она, словно у них было назначено свидание и она не надеялась, что он придёт. — Возьмите, пожалуйста, меня под свою защиту!
— Да отстань ты…
— Я не обращаю внимания на вашу, для меня уже ставшую привычной, грубость, — жалобно сказала воспитанная девочка Вероника, садясь на скамью рядом с Вовиком, который тут же моментально и демонстративно отодвинулся. — Именно так должны поступать воспитанные девочки. Я убеждена, что ваша грубость носит чисто внешний характер, а на самом деле вы добрый и, вполне возможно, мужественный человек. Прошу вас, возьмите меня, пожалуйста, под вашу защиту!
Вовик от таких слов, каких ни от кого ни разу в жизни не слышал, напыжился, расправил плечи, выпятил, как говорится, грудь колесом, наинебрежнейшим тоном поинтересовался:
— Чего там ещё с тобой стряслось?
— Ах, у-у-ужас! А-а-а-ах, какой невообразимый У-у-ужас!! Представляете, мне угрожают бандиты!!!
— Сочиняй больше! Какие бандиты? На что ты им сдалась?
— Они задумали похитить меня! — И даже все разноцветные бантики на голове воспитанной девочки Вероники задрожали от страха. — ПО-О-О-Охитить и требовать за меня выкуп! Неужели вы не слышали по телевидению, — поразилась она, — что такой способ применяется бандитами в капиталистических странах? Выкрадывают какого-нибудь выдающегося деятеля или ребёнка и нагло…
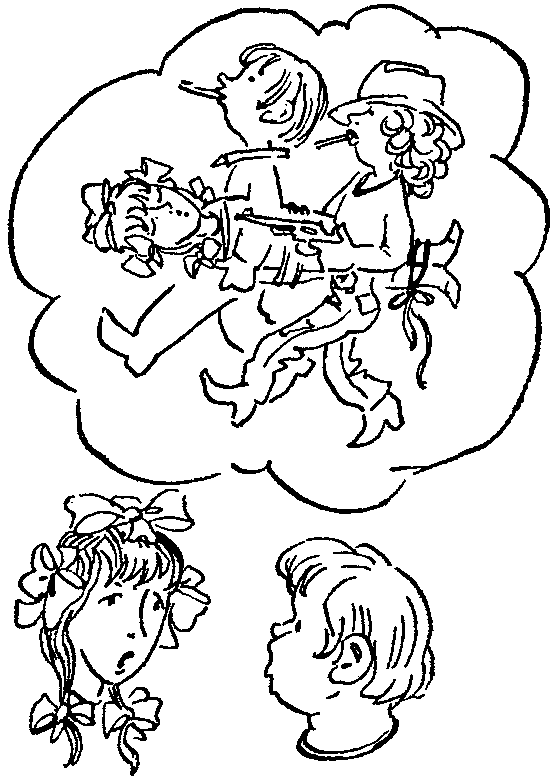 |
— Да погоди ты, погоди ты, погоди! — Вовик не успевал толком вникнуть в смысл торопливого-торопливого потока слов. — Рассказывай медленно и понятно.
— Извольте, — с обидой согласилась воспитанная девочка Вероника. — Но сначала, пожалуйста, согласитесь сопровождать меня! Ведь вы такой крупный, видимо, сильный и, надеюсь, смелый!
Странное сочетание испуга и восторга не охватило, а схватило Вовика. Напоминаю: подобной характеристики своей особы он ещё пока никем не удостаивался, и хотя этого мнения придерживалась всего-навсего девчонка, тем не менее было от чего снова напыжиться, расправить плечи и выпятить грудь колесом. Тут он впервые пожалел, что не умеет общаться с девчонками: ведь эта, у которой вся голова[4] в разноцветных бантиках, не похожа на других и толкует не о какой-нибудь ерунде, а о бан-ди-тах! Хорошо, если она просто вруша, и ему легко будет выглядеть перед ней сильным и смелым: ему-то было доподлинно известно, что он не крупный, а довольно толстый, а смелость свою он ещё не имел случая проверить, но вот…
— Но вот боюсь, — с явным сожалением и еле заметным сарказмом сказала воспитанная девочка Вероника, — что в неминуемой и жестокой драке с бандитами вам будет несколько мешать ваша чуть излишняя полнота. Но этот недостаток, — в голосе её проскользнуло уважение, — вы вполне можете восполнить храбростью и высоким сознанием своего долга воспитанного мальчика перед невинной жертвой.
— Где это ты так говорить наловчилась? — недовольно спросил Вовик, мельком подумав, не рвануть ли ему домой, вкусно и сытно поесть, а не тратить время, нервы и силы на всякие бантики с бандитами. — Я тебя просил нормальным языком всё рассказывать и по порядку, а ты тут развела болтовню… Вот скажи мне толком, откуда ты узнала о бандитах, — раз. Чего они с тобой и для чего собираются делать — два. И почему ты привязалась именно ко мне — три. У вас в доме мальчишек, что ли, нет? И почему у тебя вся голова в разноцветных бантиках — четыре.
— Начнем с наименее существенного и лёгкого — с бантиков. — И сразу стало ясно, что отвечать она будет самым обстоятельнейшим образом. — У нас гостит бабушка Ирэна. Не Ирина, а Ирэна! Она до сих пор считает меня маленькой и находит величайшее удовольствие в том, чтобы украшать мою голову разноцветными бантиками. И чтобы доставить радость старому, бесконечно любящему меня человеку…
— Ты… ты покороче не можешь?!
— А какая в этом необходимость? Я предпочитаю обстоятельные ответы, иначе может возникнуть множество дополнительных вопросов… Теперь о бандитах. В нашем микрорайоне обитает ужасно страшное существо, — не по внешнему облику, отличающемуся великолепной шевелюрой, — а по сути своей. Это внук известного военного врача и не менее известного ученого. Раньше это ужасно страшное существо звали Робкой-Пробкой, сейчас оно придумало себе новое прозвище — Робертина. В высшей степени глупо и безвкусно! Но — одевается! Всё, всё только импортное! — восторг и презрение чередовались в голосе воспитанной девочки Вероники. — Сейчас он организовал банду, а она избрала его шефом. Конечно, никаким демократизмом на бандитских выборах и не пахло. Просто Робертина всех запугал, к тому же он ку-у-у-урит! Вот он и задумал похитить меня, потребовать выкуп и на эти деньги всем бандитам купить зажигалки. Но самое потрясающе у-у-ужасное, просто сумасшествие какое-то, что я этому шефу нрав-люсь! По-моему, он давно влюблен в меня и буквально не даёт мне прохода. Пре-сле-ду-ет! Догадываюсь, что Робертина имеет насчёт меня серьёзные намерения. Жениться ему, естественно, ещё рано, но ведь это такой тип, что…
— Знаешь, что?!?!?! — Вовик от очень сильнейшего возмущения еле-еле пересилил яростное желание вырвать из волос воспитанной девочки Вероники хотя бы половину разноцветных бантиков и рас-ТОП-тать их! — Хватит молоть ерунду!
— Любовь, к вашему сведению, не ерунда! И если вы не испытывали этого высокого и прекрасного чувства…
— И не собираюсь испытывать! Нужно мне это… как его?… чувство, как… как пе-ту-ху трос-точ-ка!
Из каждого голубого глаза воспитанной девочки Вероники выскользнуло по одной слезинке, и каждая ненадолго задержалась на щеках.
— Пе… пе… петух с тросточкой… — прошептала она. — Какая пошлость… Неужели вы ничего-ничего-ничего не знаете о любви? Не читали о ней? Не видели в кино или театрах? Неужели вы не заметили этого высокого и прекрасного чувства хотя бы в телевизионных передачах? Не наслаждались стихами и песнями о любви? Как мне жаль вас… Была бы я грубой, я так бы и бросила вам в лицо: эх вы, петух с тросточкой!.. Но мне жаль, ах, как мне жаль вас…
Вовик и сам сейчас жалел себя. Конечно, не нашлось бы силы, которая могла заставить его признаться (пусть даже мысленно!) в том, что ему (подумать — так стыд берет!) приятно слушать эту, вся голова в разноцветных бантиках… И не вырвать хотя бы половину из них ему сейчас хотелось и тем более не рас-ТОП-тать их, а… Никому, никогда, даже самому себе не признается он, какое желание возникло у него в сердце… Вовик тут же настолько испугался и застыдился этого желания, что почувствовал себя способным немедленно броситься в драку с бандитами, а там — будь что будет.
А тут ещё, как назло, как нарочно, видимо, для того, чтобы измучить его, бедного, истерзать, унизить его, несчастного, воспитанная девочка Вероника молчала. То трещала, словно несколько сорок враз, а тут молчала и молчала.
«Видно, здорово на меня обиделась… А вдруг она сейчас уйдет?!?! — неожиданно и очень-очень сильно испугался Вовик. — Возьмет да и… и… никогда больше… никогда…»
— Чего ты обиделась? — осторожненько прошептал Вовик. — Да знаю я про эту самую любовь. И читал, и видел, и разговоры всякие слышал… Вот смотришь в кино или по телеку на неё и ждешь, чтоб поскорее она кончилась, и показывали бы что-нибудь интересное… Давай рассказывай дальше. — Он хотел произнести это снисходительно, а получилось почти-почти умоляюще, и он из краснощёкого сразу стал краснолицым и немного красноухим.
Воспитанная девочка Вероника ответила достаточно равнодушным тоном:
— Могу продолжить, если вы так настаиваете. Хотя теперь у меня нет оснований надеяться, что мы с вами поймем друг друга. Вот вы употребили по отношению ко мне слово привязалась, рассчитывая им обидеть меня или даже оскорбить. А это — благородное понятие ещё нужно заслужить, чтобы я к вам привязалась… Далее. Конечно, в нашем доме много мальчиков, но вы же знаете, какие вы все… — И разноцветные бантики на её голове насмешливо задрожали. — Бабушка Ирэна утверждает, что сейчас истинных рыцарей днём с прожектором не найдешь. Вы же поначалу показались мне способным уж если не на истинное рыцарство, то по крайней мере на обыкновенную порядочность… Далее. Вас удивляет мой слог, язык, обороты речи, словарный запас? Просто я много читаю, общаюсь с образованными людьми, сама готовлюсь стать высокообразованным человеком… Итак, согласны вы меня сопровождать? — тем же достаточно равнодушным тоном спросила она. — Или вас ещё что-нибудь интересует?
— Всё мне ясно, — самым наиунылым тоном ответил Вовик. — А как это — сопровождать? Куда? Зачем? Когда?
— Быть при мне неотлучно вот с данного момента. Ведь, меня могут захватить в любой момент! И не могу же я целыми днями и вечерами сидеть дома, боясь выйти пройтись?
— Хорошо, хорошо, хорошо, — ещё наиунылее сказал Вовик, хотя ничего, даже приблизительно, хорошего не испытывал, в душе у него была одна пустота. — Не понимаю я… — с болью признался он, и у него даже в горле пересохло от тяжелых переживаний, основным и наиболее мучительным из которых было сознание своего полного бессилия перед воспитанной девочкой Вероникой. — Ну, захватит тебя этот Пробка-Робка…
— Произносится наоборот: Робка-Пробка. Но сейчас он шеф банды по прозвищу Робертина.
— Ну, Робертина тебя захватит. А куда он тебя денет? Кто ему какой выкуп за тебя даст? Позвонят родители или бабушка в милицию и…
— Робертина никакой милиции не боится, — голос воспитанной девочки Вероники стал гордым, а все разноцветные бантики на её голове приподнялись. — Его дед имеет огромные заслуги перед государством, и его, деда, нельзя даже нервировать. Посему Робертина никого не боится. В прошлом году, например, Робка-Пробка, случайно, правда, выбил из рогатки глаз одному пожилому человеку. И его, жесточайшего хулигана, в милицию даже не вызывали! Не перебивайте меня! — капризно прикрикнула она.[5] — Представляете, КТО мне угрожает?! Вот я и прошу вас стать моим избавителем! Вступить в неминуемую жестокую драку с бандитами и спасти меня! Ведь я лишена возможности даже посоветоваться с кем-нибудь. Я бандитами предупреждена. Либо спасайте меня, либо я покорно буду ждать своей у-у-у-у-ужасной участи…
Напряженно соображая, так напряженно, что заболело в висках, Вовик постарался проговорить самым решительным тоном, на какой только был способен:
— Зато я знаю, с кем мне посоветоваться. По-моему, Робка-Пробка вас всех просто обдуривает и запугивает. Вот тебе пример! С глазом-то! Это же мой знакомый Григорий Григорьевич, который сейчас у одной старушенции собаченцию караулит! Ему глаз-то Робка-Пробка выбил! И не попало этому хвастливому бандиту только потому, что Григорий Григорьевич его деда пожалел! А ты: даже в милицию Пробку-Робку не вызывали!
— Это совершенная правда?
— Ещё какая! Григорий Григорьевич мне сам сегодня рассказывал!
— О, это значительно меняет мое мнение о Робертине, — задумчиво и не без сожаления проговорила воспитанная девочка Вероника. — Если он такой беспардонный лжец и хвастун, то ему вообще верить опасно.
— А чего я тебе говорил?
— Но сопровождать меня всё равно необходимо. Я убеждена, что, если рядом со мной не будет мужественного человека, меня схватят!
— Сегодня ты можешь дома посидеть? — безнадёжным голосом спросил Вовик и деловито объяснил: — Понимаешь, занят я сегодня, честное слово. В тридцать третьей квартире караулит собаченцию Григорий Григорьевич, а старушенция не идёт и не идёт.
— А, это у Анастасии Георгиевны! Её собачка самая злобная и капризная во всём нашем микрорайоне. По всей вероятности, хозяйка её уехала к собачьему гипнотизёру по фамилии Шпунт. Я вчера для неё узнавала его адрес и телефон.
— Скажи-ка мне быстро номер телефона этого гипнотизёра и подожди меня здесь! — горячо попросил Вовик. — Я только сбегаю к Григорию Григорьевичу, а потом мы с тобой обо всём договоримся!
— Рада оказать вам любую услугу, — охотно согласилась воспитанная девочка Вероника, и Вовик помчался в тридцать третью квартиру, твердя про себя номер телефона.
Едва открыв двери, Вовик сообщил его и имя старушки Григорию Григорьевичу, объяснил, куда она уехала.
— Мы с Джульетточкой ни в каких гипнотизёрах не нуждаемся! — обрадовался тот, опуская на пол собаченцию, и тут же позвонил по телефону собачьему гипнотизёру по фамилии Шпунт. Разговор с ним возмутил Григория Григорьевича, и, рассказывая Вовику о нем, он то и дело вскакивал, пробегал по комнате, снова вскакивал и несколько успокоился лишь тогда, когда Джульетточка жалобно заскулила.
Оказалось, что Анастасия Георгиевна спит крепчайшим сном и уже невозможно определить, человечьим, или Джульетточкиным, ибо этот, с позволения сказать, гипнотизёр всё перепутал и сам ничего понять не может. Помочь ему в состоянии только сама собачка, которую и необходимо немедленно доставить к пострадавшей.
— Какой же он гипнотизёр?! — продолжал возмущаться Григорий Григорьевич, обращаясь к Джульетточке. — Он человека разбудить не может, а мы при помощи обыкновенной кастрюли вылечились!
— Собаченция вам оказалась дороже меня, — с очень горькой обидой сказал Вовик, а вспомнив воспитанную девочку Веронику, добавил: — Не смею вас задерживать. Простите, а когда же мы будем и будем ли мы вообще искать Иллариона Венедиктовича?
— Обижаться тебе нечего, — сердито отозвался Григорий Григорьевич, бережно беря тянувшуюся к нему Джульетточку на руки. — Во-первых, в историю с Анастасией Георгиевной мы попали именно из-за того, что искали твоего Иллариона Венедиктовича. Во-вторых, никого никогда и нигде нельзя оставлять в беде, если имеешь возможность помочь. В-третьих, завтра же с утра нам будет известен нужный адрес и телефон. Так что иди и спокойно занимайся своими делами. А завтра часиков в девять приходи ко мне. Сейчас напишу тебе адрес. Телефона у меня нет и уже, видимо, не будет.
По лестнице Вовик спускался не спеша: во дворе его ждала ещё более сложная забота — воспитанная девочка Вероника. Даже самому себе он не смог бы сказать ничего определённого: рад он знакомству с ней или сожалеет о нем. Если бы не этот Робка-Пробка с его бандой!..
И — неминуемая жестокая драка… Вовик-то в жизни дрался всего четыре раза, и все четыре раза ему здорово досталось: в двух случаях расквасили нос, в двух случаях поставили крупных размеров синяки, и оба под правым глазом. Так что ввязываться в драку, да ещё с несколькими бандитами, не было никакого смысла — только позориться перед воспитанной девочкой Вероникой.
Она встретила Вовика с таким скучающим видом, словно ни капельки его и не ждала. Он сразу же и очень-очень сильно обиделся, но сдержался и чуть ли не виноватым тоном сообщил:
— Завтра в девять утра я по важному делу должен встретиться с Григорием Григорьевичем. Ну, с тем самым… И не знаю, когда освобожусь.
— Неужели вы вообразили, что я вас стану упрашивать? — И все разноцветные бантики на голове воспитанной девочки Вероники удивленно, почти презрительно закачались.
— А ты что, надеялась… — начал было Вовик возмущенно, но тут же осекся и пробормотал: — Не виноват же я, что у меня с утра важное дело? Должен ведь я разыскать генерал-лейтенанта в отставке! От него моя судьба зависит, было бы тебе известно!
Воспитанная девочка Вероника понимающе взглянула на него, тихо и сочувственно улыбнулась, сказала:
— Я вовсе не намерена мешать вам. Располагайте временем по своему усмотрению. Надеюсь, вы не забудете моей просьбы. Меня вы можете найти завтра в шестнадцатой квартире. Желаю вам всего наилучшего.
— Я тебе тоже, — пролепетал Вовик, и хорошо, что воспитанная девочка Вероника, уходившая медленно и гордо, не видела, как он из краснощёкого превратился в краснолицего, красношеего и красноухого. Он даже не заметил, как мимо прошёл с Джульетточкой на руках Григорий Григорьевич, а тот не заметил мальчишки, потому что беспрестанно обменивался с собачкой многозначительными взглядами.
А Вовик, низко опустив тяжелую от множества несчастных и тревожных мыслей голову, с некоторым удивлением, но равнодушно отмечал, как от разных переживаний непривычно колотится сердце, однако больше всего поражался тому, что не может никак подняться со скамьи — до того у него ослабли ноги. Подумать только: он не ел целый день! Это он-то с его замечательнейшим аппетитом, с его-то умением и опытом сытно и вкусно поесть!
Он попытался вспомнить события прошедшего дня, и ничего не получалось: всё у него в голове, тяжелой от множества несчастных и тревожных мыслей,
Но поразительнее всего было то, что Вовик и не хотел есть, что его и не тянуло домой. Ему ничего не хотелось. Вернее, сидеть бы вот так, бессильно вытянув совершенно ослабевшие ноги и не поднимая головы, тяжелой, как вы помните, уважаемые читатели, от множества несчастных и тревожных мыслей, и подошла бы к нему — вся голова в разноцветных бантиках — воспитанная девочка Вероника и спросила бы своим странным, необычным языком:
— Простите, не могли бы вы уделить мне, несмотря на вашу большую занятость, хотя бы немножечко времени и, если я этого достойна, чуточку внимания?
И когда Вовик ответил бы небрежно, очень устало, что пожалуйста, так уж и быть, уделю вам и время, и внимание, потому что именно так поступают истинные рыцари, которых сейчас днём с прожектором не найдешь, она сказала бы со слезами в голосе и в голубых глазах:
— Знаете, в кинотеатре «Кристалл» идёт очень замечательный фильм о любви. Не могли бы вы доставить мне истинно огромное удовольствие и великодушно пригласить меня…
— Ни за какие коврижки! — ответил бы он с презрением, даже и не взглянув на неё. — Иди смотреть про любовь со своим Пробкой-Робкой!
И Вовик не встал, а вскочил и яростно зашагал прочь от этого дома, где в шестнадцатой квартире живет, вся голова в разноцветных бантиках, воспитанная девочка Вероника, до которой ему нет никакого дела и видеть которую он больше не намерен, потому что даже думать о ней ему почти… ну, честно говоря, не очень приятно.
Пошарив по карманам, Вовик не обнаружил ни одного абонемента ни на один из видов городского транспорта и ни одной копеечки! Он тщательно вывернул карманы — пусто… Да что же это за денек такой выдался?!?! И не обида, не растерянность, а самая настоящая злоба полностью овладела Вовиком, и ещё он ощутил наисильнейшую потребность кому-то за что-то немедленно и очень страшно отомстить! Вот сейчас бы ему встретиться с робки-пробкиной бандой! Он бы им…
Топать домой пешком! В такую-то даль!! Голодному!!! Несчастному!!!! Обиженному!!!!! Вот назло всем сядет он в один из видов городского транспорта, кроме такси, конечно, и поедет зайцем!!!!!! И пусть его задержит Григорий Григорьевич со своей собаченцией!!!!!!! А если Илларион Венедиктович снова вздумает спасти Вовика, то он, микроскопический государственный преступник, откажется от защиты!!!!!!!! Пусть его лучше в милицию заберут, пусть в тюрьму посадят, вот тогда, может быть, эта, вся голова в разноцветных бантиках, и поймёт, кого она навсегда потеряла…
И топал Вовик, еле-еле-еле-еле переставляя обессиленные ноги, готовый на всю улицу разрыдаться от жалости к самому себе.
Теперь мы, уважаемые читатели, можем со спокойной совестью оставить Вовика, пусть себе топает, переживает и даже страдает: это ему только на пользу. От переживаний и страданий, от топанья пешком он, как говорится, не умрёт, зато похудеть может.
Мы же вернёмся к двум действующим лицам нашего повествования, которых давно покинули и с которыми давно пора встретиться, тем более, что в последний раз мы видели их за границей, а сейчас они уже дома, в родной стране.
Иван Варфоломеевич ещё в самолете, когда объявили, что воздушный корабль Аэрофлота взял курс на Родину, со сжавшимся от счастья сердцем подумал: вот ему награда и утешение за всю его одинокую жизнь, за все несчастья и беды, горечи и неудачи, поражения и разочарования, которых немало выпало на его долю… Последние годы жизни он проживёт рядом с родным единственным сыном… вот он здесь, тут, откинулся в кресле и держит родного отца за слабую руку своей сильной рукой…
— Скоро будем дома, Серёженька… скоро, скоро!
— Спасибо, папа.
Через некоторое время Иван Варфоломеевич заметил, что мысленно торопит не только самолет, но уже и машину, которая встретит их с Серёжей в аэропорту, чтобы как можно скорее оказаться
— Успокойся, папа, — погладив его слабую руку своей сильной рукой, шепнул Серёжа. — Всё идёт отлично. Ведь скоро мы будем до-ма… понимаешь?
— Понимаю… до-ма, — отозвался Иван Варфоломеевич так умиротворенно, словно этим одним движением руки и этими двумя словами сын погасил все терзания и мучения отца. — Знаешь, Серёжа, я возьму у соседей картошки, что-то найдется в холодильнике, да и магазины у нас рядом…
— Ты сам ходишь в магазин?! — вырвалось у Серёжи. — У тебя нет прислуги?
— А зачем мне она? — удивился Иван Варфоломеевич. — Два раза в неделю, а иногда и чаще, ко мне приходит старушка, прибирает квартиру, что-нибудь мне готовит вкусненького, а по магазинам, и особенно на рынок, я люблю ходить сам. Для меня это отдых. Кстати, а почему ты до сих пор не женат?
— Знаешь, папа, я вёл такой одинокий образ жизни, что даже друзей у меня фактически не было, — печально ответил Серёжа.[6] — Смешно, но когда у меня имелась возможность, я обязательно заводил маленькую собачку, как правило, злую, капризную, и, как ребёнка, воспитывал ее… Много читал, до изнеможения занимался спортом. И понятия не имел, что такое семья, домашний уют. И мечтать о нём я начал только тогда, когда стал думать о тебе, о родине… Но вот почему не женился ТЫ?
— Даже и в голову, подобное ни разу не приходило, — откровенно признался Иван Варфоломеевич. — Сначала война, потом много лет неугасимой надежды, что все вы живы… верил в чудо много-много лет… Особенно почему-то верилось, что жив именно ты. И — работа. Я трудился, не сочти за хвастовство, просто самозабвенно. Поэтому кое-что и удалось… Скоро, скоро уже, Серёженька!
Когда объявили, что самолет идёт на посадку, Серёжа зашептал:
— У меня к тебе одна просьба, папа. Не удивляйся, пожалуйста, и уж, конечно, не обижайся, если я первое время не буду на каждом шагу восхищаться, восторгаться, радоваться. Знаешь, профессиональная привычка скрывать свои чувства. Я не сразу отвыкну от себя того, каким я был там, откуда мы с тобой, к счастью, улетели. Ты понял меня?
Кивнув несколько раз, Иван Варфоломеевич подумал: «Кто же ещё поймёт тебя, мой мальчик? Кроме меня, отца? Я даже предчувствую, готов к тому, что не всё у нас с тобой сразу пойдет гладко. Ведь мы из разных миров, из разных государств. Для тебя, милый, многое будет сначала не только непонятным, но и неприемлемым. Но рядом буду я, и всё образуется, всё будет хорошо… замечательно всё будет!»
Иван Варфоломеевич настолько сам успокоил себя, что мысли его неожиданно обратились к эликсиру
Хотя Иван Варфоломеевич не просил встречать его, в аэропорту собралась большая группа сотрудников лаборатории.
Серёжа с удивлением взглянул на отца, тот в недоумении пожал плечами, но всё тут же объяснилось: за время отсутствия руководителя проведен удачнейший опыт, и у сотрудников не было терпения откладывать столь радостную новость хотя бы до завтра.
— Дорогие коллеги! — ответил растроганный Иван Варфоломеевич. — Благодарю вас за новость, но и я кое-что привез. Завтра у нас праздник! А теперь позвольте поделиться с вами моей отцовской радостью. Знакомьтесь — мой сын Серёжа. И пока — никаких вопросов. Вы только подумайте: рядом со мной, вот он, мой сын! Сергей Иванович Мотылёчек! Прошу любить и жаловать!
И когда, казалось, поздравлениям так и не будет конца, Сергей Иванович жестом попросил всех молчать и, видимо, с трудом сдерживая волнение, проговорил:
— Мы с папой сердечно благодарим вас за встречу и поздравления. А мне позвольте…
«Он медленно опустился на колени и долгим поцелуем приник к траве на родной земле», — как потом рассказывал Иван Варфоломеевич, а сейчас он с восторгом и умилением думал: «Не сдержался, мальчик, не выдержал, милый! Забыл свою профессиональную привычку — не выдавать чувств. Да разве можно сдержать любовь к родине?!»
Дома, едва осмотрев квартиру, Серёжа заметил:
— Для большого ученого ты живешь слишком уж скромно. У нас… прости, папа, там ты бы имел по крайней мере особняк.
— Там… — с горечью повторил Иван Варфоломеевич. — А здесь зачем мне особняк? В нём лучше разместить детский садик. У нас их до сих пор недостаточно. Ты, Серёженька, сначала приглядись ко всему, старайся постепенно всё понять, ко мне почаще обращайся.
— Во всяком случае, я буду с тобой предельно откровенен, — сказал Серёжа. — Итак, первый вечер мы проводим вдвоём.
Но всё получилось не так, как было задумано. Не успел Серёжа принять ванну, как к ним повалили с поздравлениями чуть ли не из каждой квартиры. Они остались вдвоём только поздним-поздним вечером.
— Милые, добрые, деликатные люди, — с уважением отметил Серёжа. — Никто не приставал с расспросами, а я так боялся этого.
— Тебе бояться ничего не надо, — посоветовал Иван Варфоломеевич. — Главное, не надо торопиться с выводами. Вот я закончу опыты, ты закончишь свои дела, и мы ненадолго махнем куда-нибудь.
— Давай, папа, сначала закончим дела, а потом будем думать об отдыхе. Значит, могу я завести собачушку?.
— Да хоть кроликов разводи!
— Ну, а дома у нас, папа, надеюсь, появятся зверюшки-игрушки раньше, чем у других? — Серёжа рассмеялся. — Или это будет секретное производство?
Иван Варфоломеевич пожал плечами:
— Это не мое дело. Да и засекречивать тут нечего. Я уже говорил тебе, Серёженька, что я счастлив, имея возможность посвятить свою жизнь любимому делу. Пойми, что вот-вот осуществится моя да-а-а-авнишняя мечта, и я доставлю детям необыкновенную радость.
— Желаю тебе успеха, папа. Я принесу чай.
Увлажненными глазами смотрел Иван Варфоломеевич вслед Серёже, а когда тот вернулся, сказал:
— Я счастлив, что ты будешь свидетелем завершения моих трудов… Вкусная заварка… А когда мы будем думать о твоей работе?
— Ты же сам советовал мне не торопиться. Подумаю.
Сладко, широко и громко зевнув, Иван Варфоломеевич удивленно и виновато произнес:
— Прости. Вдруг страшно захотелось спать. Ни с того ни с сего. Я никогда так рано…
— Дорога, папа. И переживаний было достаточно. Я и то…
— Придётся лечь, — полувопросительно сказал Иван Варфоломеевич и зевнул ещё слаще, ещё шире и ещё громче. — Видимо, это радость обессилила меня. Прости, Серёженька, я лягу. А собирался…
Но, уложив отца в постель, Серёжа действительно долго не сидел, а прошёл в кабинет и принялся внимательно его осматривать.
И я пока не знаю, уважаемые читатели, что же происходило: то ли сын интересовался, в какой обстановке жил без него отец, то ли агент иностранной разведки приступил к выполнению задания?
А нам с вами перед завершением этой главы предстоит вернуться на несколько часов назад и посмотреть, что же происходит в квартире собачьего гипнотизёра по фамилии Шпунт, где крепко-накрепко заснула Анастасия Георгиевна.
Хозяин, маленький, юркий, раздражительный, сквернохарактерный, сам чем-то, извините, напоминал своих пациенток. Он беспрестанно вертелся на стуле, торопливо семенил по комнате и многословно, бестолково рассказывал Григорию Григорьевичу, нежно прижавшему к груди испуганную Джульетточку, о том, что произошло с Анастасией Георгиевной, а почему с ней это произошло, он и понятия не имел. В ответ же он услышал суровый голос:
— Подсудное дело, гражданин. Если вы сейчас же не разбудите пострадавшую, я вызываю «скорую помощь» и в любом случае сообщаю о вашей халтурной деятельности в милицию. Вы отличаетесь либо нижайшей квалификацией, либо профессиональной непригодностью вообще!
— Не пугайте меня! — взмолился собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт. — У меня и так повышенная нервозность! Не вам судить о моей квалификации, а репутация моя безупречна! Мне принадлежит важнейшее научное открытие! Я первым доказал, что комнатные животные дуреют, в основном, от телевизора! Многочасовых торчаний у голубого экрана их маленькие нервные системочки не выносят! Давайте собачушку, идём смотреть старушку! Я заговорил стихами — не к добру! И рифма-то какая, так и просится на ум: не к добру — помру! Ох, как я взвинчен, как я взвинчен!
— Развинчу! — грозно пообещал Григорий Григорьевич, и они прошли в кабинет, где он внимательно рассмотрел лицо спавшей на кушетке Анастасии Георгиевны, так же внимательно прислушался к её дыханию и удивленно констатировал: — Прекрасный сон!
— Сон-то прекрасный, — уныло согласился собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт. — Но случилось что-то непонятное. Вы в курсе того, как устроен человеческий мозг? Вот у неё что-то с ним.
— Устройство человеческого мозга я примерно знаю, — грозно заверил Григорий Григорьевич. — А вот с устройством человеческой совести вы в курсе? Она у вас в лечении не нуждается! Потому что начисто отсутствует!
— Клевета!!! Сейчас я снова взвинчусь!!!
— Ррррразвинчу!!! Почему на всех видах городского транспорта зайцем ездите?
— Я и в такси бесплатно езжу! — гордо воскликнул собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт. — Я внушаю шоферам, что они будто бы берут у меня деньги, а иногда я даже и сдачу получаю! Это, к вашему сведению, называется научными опытами! Я тренируюсь!
— Отвечать будете за свои тренировки! Жульничеством это называется, к вашему сведению!
— Но вас-то я ни разу не обманывал!
— Потому что не удавалось!
— Давайте собачушку, начнем будить старушку!
— Джульетточки я вам не доверю, — отчеканил Григорий Григорьевич. — Где у вас телефон? Я вызываю ноль-три, будете препятствовать — вызову ноль-два!
— Но без собачушки мне не разбудить старушки! Кстати, а почему она такая скромная?
— Потому что я её сегодня вылечил, — с оттенком гордости сообщил Григорий Григорьевич.
— Не может быть! Я единственный в городе излечиваю этих четвероногих психопаточек!.. Ну, а как вам удалось?
— Кастрюлей. Обыкновенной кастрюлей зеленого цвета.
— Не морочьте мне голову! Мне необходимо, чтобы собачушка затявкала!
— Джульетточка, Джульетточка! — ласково позвал Григорий Григорьевич. — Потявкай, пожалуйста! Ну! Тяв, тяв!
Собачка подумала и выполнила просьбу своего убийцы-спасителя.
— Не так! Не так! — недовольно прокричал собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт. — Злобно надо тявкать, злобно! — Он встал на четвереньки, попрыгал и потявкал, встал и устало произнес: — Примерно так.
С удивлением смотря на него, Джульетточка затем вопросительно взглянула на Григория Григорьевича. Тот кивнул, и Джульетточка, как прежде, разразилась злобным, пронзительным тявканьем.
Анастасия Георгиевна, не открывая глаз, попробовала тихо и неуверенно ответить ей, но медленно открыла глаза, долго смотрела в потолок, видимо, пытаясь что-то вспомнить, прошептала:
— Мне показалось, что я слышала голосочек Джульетточки. Где она? А я где?
Помогая ей сесть, Григорий Григорьевич невозмутимейшим тоном объяснил:
— Вот ваша очаровательная Джульетточка, излеченная мною при помощи кастрюли от всех нервных недугов, а также злобности и прочего нехорошего. Вы находитесь в квартире бессовестного человека, который ездит бесплатно на всех видах городского транспорта, в том числе и на такси. Заяц-дармоезд-гипнотизёр. А ещё выдаёт себя за собачьего гипнотизёра по фамилии Шпунт. Всё у него ненастоящее, я так полагаю.
— Позвольте, позвольте, но хотя бы фамилия-то у меня всё-таки настоящая!
— Очень сомневаюсь, — уверенно произнес Григорий Григорьевич, помогая Анастасии Георгиевне встать.
Со временем, уважаемые читатели, вам предстоит убедиться, что он во всём был прав.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |