"Сквозь время. (Сборник)" - читать интересную книгу автора (Журавлева Валентина Николаевна)
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА
Нас считали погибшими.
Год назад, когда еще работал приемный блок рации, я сам слышал об этом. Земля передала, что планетолет “Стрела” встретил сильнейший метеоритный поток и, по-видимому, погиб. О нас было сказано много хороших слов, но вряд ли мы их заслужили, ибо, как усмехнувшись, заметил летевший со мной инженер Шатов, сведения о нашей гибели были во многом преувеличены.
Впрочем, сам Шатов приложил все усилия, чтобы эти сведения не оказались преувеличенными. И не его вина, если “Стрела”, израненная, потерявшая связь и почти потерявшая управление, все-таки уцелела.
Тема научной работы Шатова носила название на первый взгляд совершенно невинное, отчасти даже академическое: “О выборе некоторых коэффициентов при проектировании планетолетов”. Практически же это означало следующее: “Стрела” ушла на два года, чтобы, так сказать, на своей шкуре проверить пределы выносливости планетолетов. Разумеется, это был испытательный полет. Но какой! Шатов искал опасности, и, нужно признать, ему в этом отношении необыкновенно везло.
Вскоре после отлета мы попали под микрометеоритный ливень. За двадцать минут “Стрела” потеряла газовые рули, антенну обзорного локатора и обе антенны радиопередатчика. Заделка пробоин продолжалась неделю. Но Шатов был доволен. Он торжественно объявил, что коэффициент запаса прочности внешнего корпуса неоправданно велик и его вполне можно уменьшить на двадцать пять сотых.
Спустя полтора месяца “Стрела”, приближаясь к орбите Меркурия, пересекла чрезвычайно сильный поток гамма-лучей. На Солнце происходило гигантское иззержение, и интенсивность гамма-лучей в десятки раз превышала дозу, допустимую для человека. Двое суток, пока “Стрела” уходила из опасного района, мы, изнемогая от тесноты и ускорения, отсиживались в центральном посту, защищенном свинцовыми экранами. Записывая в журнал показания радиационного дозиметра, Шатов сообщил, что коэффициент безопасности при проектировании экранов все-таки завышен и его следует уменьшить в среднем на три десятых.
Затем (мы проходили вблизи Пояса Астероидов) на “Стрелу” обрушился настоящий метеоритный град. К счастью, скорость метеоритов была невелика. Но полдюжины этих небесных странников (размером с булыжник) исковеркали дюзы маневровых двигателей, вдребезги разбили один из топливных отсеков и уничтожили контейнер с запасом продовольствия. Осмотрев пробоины, Шагов сказал, что коэффициент запаса прочности внутреннего корпуса вполне можно снизить на пятнадцать сотых.
Через два дня “Стрела” столкнулась с пылевым скоплением — рыхлым облаком космической пыли, несущимся со скоростью шестьдесят километров в секунду. Внешний, защитный корпус планетолета превратился в тончайшее решето, а внутренний корпус был оплавлен так, что открывать люки мы уже не рисковали: вряд ли их удалось бы потом плотно закрыть. Холодильная система работала на полную мощность, но температура внутри планетолета поднялась до шестидесяти градусов. Обливаясь потом, задыхаясь от жары, Шатов заявил, что коэффициент запаса прочности внутреннего корпуса, пожалуй, можно снизить не на пятнадцать, а на двадцать пять сотых.
Нужно сказать, что, создавая самого Шатова, природа не поскупилась при определении всевозможных коэффициентов. Запасы жизненной энергии у него были поистине неисчерпаемы. Высокий, очень полный, он занимал почти всю небольшую кают-компанию планетолета. Голос его гремел так, словно все метеориты Вселенной обрушились на “Стрелу”. Металлизированный комбинезон, создававший в магнитном поле искусственную тяжесть, не был рассчитан на стремительные движения Шатова. Поэтому, кроме своих прямых обязанностей штурмана, я имел и неплохую врачебную практику: Шатов постоянно ходил с ушибами и ссадинами.
За полтора года мы сдружились. В конце концов, у нас не было выбора: вдвоем мы составляли весь экипаж маленького, заброшенного в Космос планетолета. Я могу совершенно объективно сказать, что у Шатова был только один недостаток — он любил цитировать Омара Хайяма. Я, конечно, ничего не имею против поэзии. Но полтора года слушать только Омара Хайяма — это, согласитесь, нелегко. Тем более, что Шатов цитировал таджикского поэта совсем некстати. Помню, когда “Стрела” попала в микрометеоритный ливень, Шатов громовым голосом, покрывавшим визг вибрирующего под ударами метеоритов корпуса, декламировал:
“Не станет нас!” А миру хоть бы что.
“Исчезнет след!” А миру хоть бы что.
Нас не было, а он сиял; и будет!
Исчезнем — мы. А миру хоть бы что.
Не очень утешительные стихи. Правда, со слухом у Шатова было неладно, поэтому меланхоличные строфы Хайяма он пел на мотив спортивного марша… Вообще, казалось, нет такой силы, которая могла бы испортить Шатову настроение. И только когда погиб контейнер с продуктами, Шатов на несколько дней приуныл. С этого времени мы питались хлореллой. Эта бурно растущая водоросль доставляла нам кислород, а излишки ее шли в пищу. Четыре раза в сутки мы ели хлореллу: жареную, вареную, печеную, маринованную, засахаренную, засоленную…
Хлорелла была настоящим кошмаром. Но Шатов очень быстро привык к ней. И, запивая котлеты (поджаренная хлорелла с гарниром из хлореллы маринованной) витаминизированной наливкой (трехпроцентный спирт, настоенный на хлорелле), он бодро читал Омара Хайяма:
Все радости желанные — срывай.
Пошире кубок Счастью подставляй.
Твоих лишений Небо не оценит,
Так лейтесь вина, песни — через край.
Восемнадцать месяцев вдвоем! Это был мой первый длительный полет, и очень скоро я начал понимать, почему самым важным качеством в характере астронавта считается уравновешенность.
Стоит мне закрыть глаза, и я вижу кают-компанию “Стрелы”, вижу все — даже мельчайшие- детали: овальный пластмассовый столик с причудливыми желтыми пятнами, выступившими от действия гамма-лучей; репродукции Левитана и Поленова на сводчатых, с мягкой обивкой стенках; вделанный в стенку шкафчик с тридцатью двумя книгами; экран телеприемника, прикрытый сиреневой занавеской; два складных сетчатых кресла (на спинках по двадцать четыре квадрата); три матовых плафона, из которых средний случайно разбит Шатовым.
Иллюминаторы мы открывали редко. Зрелище безбрежного черного неба с неимоверным количеством немигающих звезд в первый месяц вызывало восхищение, на второй задумчивость и непонятную грусть, а потом тяжелое, гнетущее чувство. Однажды (это было на шестой месяц полета) Шатов, глядя в бездонный провал иллюминатора, мрачно продекламировал:
Как жутко звездной ночью. Сам не свой,
Дрожишь, затерян в бездне мировой.
А звезды в буйном головокруженьи
Проходят мимо, в вечность, по кривой.
С этого времени мы открывали иллюминаторы только по необходимости.
За полтора года мы чертовски устали. Я говорю не об усталости физической. Аварии, лихорадочная работа по исправлению повреждений были, в конце концов, только эпизодами на фоне очень напряженных будней. Теснота, резкая смена температур, двенадцатичасовые дежурства, хлорелла — все это, разумеется, не курорт. Однако самым страшным, страшным в полном смысле слова, было постоянное ощущение надвигающейся опасности. Это ощущение знакомо всем астронавтам. Но мы испытывали его особенно остро, может быть потому, что рация и телевизор были безнадежно испорчены гамма-излучением. Почти год мы не имели связи с Землей. Быть может, играло роль и то обстоятельство, что на Земле нас считали погибшими. Как бы то ни было, мы постоянно ожидали чего-то неведомого, неотвратимого. Мы работали, разговаривали, играли в шахматы, но стоило остаться одному и сейчас же возникало ощущение надвигающейся опасности. Чаще всего оно было смутным, неопределенным, но иногда вспыхивало с такой остротой, что казалось: именно сейчас — вот в это мгновение! — произойдет нечто непоправимое…
Я знаком с гипотезами астромедицины, объясняющими это явление. Но, поверьте, теоретические рассуждения зачастую помогают мало. Когда ребенок один входит в темную комнату, он знает, что бояться нечего, и все-таки боится. Когда вы один ведете планетолет и в узких смотровых щелях центрального поста видна над черной бездной неба россыпь неподвижных, бледных, немигающих и потому каких-то мертвых звезд, вы отлично знаете, что бояться нечего, однако все-таки испытываете… нет, даже не страх, а вот это смутное чувство очень близкой, но неизвестной опасности.
Ровно светится зеленоватый экран метеоритного пеленгатора, безмолвствуют приборы моторной группы, тихо жужжит привод гирокомпаса, размеренно пощелкивает хронометр… Все привычно, спокойно… Но гнетущее чувство надвигающейся опасности заставляет вас вновь и вновь проверять приборы и до боли в глазах вглядываться в черные прорези смотровых щелей.
А потом кончается вахта, и где-то сзади раздается покашливание и веселый голос Шатова:
— Ну, как, коллега, светопреставление еще не началось?
Два последних месяца нас преследовали неудачи. Случайный метеор разбил солнечную батарею- с этого времени мы жили в полумраке. Отчаянно капризничали навигационные приборы. По нескольку раз в день тревожно выла сирена барографа, предупреждая, что где-то происходит утечка воздуха. В общем, все это было закономерно. “Стрела” вынесла намного больше, чем предусматривали ее конструкторы.
Но мы продержались бы еще несколько месяцев. Случилось непоправимое. В трех топливных отсеках начала повышаться температура. Сжиженный атомарный водород быстро разогревался. Это означало, что атомы водорода соединяются в молекулы, выделяя тепловую энергию. Реакция ускорялась, превращаясь в цепную. Поглядывая на шкалу топливного термометра, Шатов декламировал:
Я побывал на самом дне глубин.
Взлетал — к Сатурну. Нет таких кручин,
Нет тех сетей, чтоб я не мог распутать…
И мрачно добавлял:
— Впрочем, есть. С весьма прозаическим названием — экзотермическая рекомбинация атомарного водорода.
Мы перепробовали все — интенсивное охлаждение, добавки стабилизирующих веществ, облучение ультразвуком. Но температура топлива повышалась. Грозил взрыв. И тогда Шатов принял единственно возможное решение. Мы включили топливные насосы и опорожнили три отсека из пяти оставшихся. Это было сделано вовремя: за “Стрелой” вспыхнул гигантский газовый шлейф, причудливо отсвечивающий изумрудно-оранжевыми полосами…
О возвращении на Землю нечего было и думать. После многочасового спора, вконец загнав вычислительную машину, мы отыскали экономичную траекторию, ведущую к Марсу, ближайшей планете.
— Марс — это люди, это настоящая тяжесть, это музыка, это настоящие земные котлеты и настоящее земное пиво, — говорил Шатов, поднимая флягу с настойкой хлореллы. — “В честь Марса — кубок, алый наш тюльпан…” Так или почти так сказал старик Омар…
Однажды Шатов разбудил меня ночью (соблюдая традицию, мы вели счет по московскому времени).
— Быстренько одевайте комбинезон, штурман. Я вам кое-чго покажу.
Шатов говорил тихо, почти шепотом. Меня мгновенно охватило тревожное ощущение близ* кой опасности.
Мы прошли в центральный пост. Шатов включил пневматический пускатель, и металлические шторы нижнего иллюминатора начали медленно раздвигаться.
Этот иллюминатор мы не открывали почти с самого отлета. Зрелище звездной бездны под ногами не из приятных. К нему нельзя привыкнуть.
Шторы медленно раздвинулись. В провале иллюминатора появилось черное небо и очень большой серп Марса. Но на этом серпе не было ничего — ни привычной сетки каналов, ни темно-синих “морей”-низменностей, заросших ареситой — марсианским кустарником, ни желто-красных пустынь. Занимавший четверть неба Марс был подернут плотной зеленоватой дымкой.
— Ну, штурман, что вы скажете? — вполголоса спросил Шатов. — Не кажется ли вам, что мы открыли новую планету?
Нет, мне это не казалось. Я попытался найти реальное объяснение. Погрешности в оптической системе иллюминатора? Но звезды были видны очень ясно. Песчаные бури на Марсе? Но они никогда не захватывают всю планету, от полюса до полюса. Какое-нибудь электрическое явление в атмосфере Марса, например полярные сияния? Но они не могут быть такими интенсивными.
Ни одно из моих предположений не выдерживало критики. Шатов иронически декламировал Омара Хайяма:
Что там, за ветхой занавеской тьмы?
В гаданиях запутались умы…
Когда же с треском рухнет занавеска,
Увидим все: как ошибались мы.
Впоследствии я часто вспоминал это четверостишие. Оно оказалось пророческим. Но кто мог знать, что впереди нас ожидает самое большое испытание?
Склонившись над иллюминатором, мы долго смотрели на загадочный зеленоватый серп.
“Стрела” подходила, к Марсу с неосвещенной стороны. В последующие дни уже нельзя было наблюдать Марс. Но с того момента, как мы увидели голубоватый серп, нас не покидало острое чувство близкой и неотвратимой опасности. По-видимому, сказывалось громадное нервное напряжение от восемнадцатимесячного полета. Мы стали раздражительными, неразговорчивыми. Во время дежурств в центральном посту я наглухо закрывал смотровые щели: вид черного неба с немигающими, словно нарисованными звездами вызывал у меня щемящую тоску.
Последние сутки перед посадкой мы почти не спали. Раздражительность внезапно сменилась крайней предупредительностью. Мы оживленно разговаривали, помогали друг другу собирать личные вещи, вместе готовили прощальный ужин (тушеная хлорелла с салатом из свежей хлореллы).
За два часа до посадки Шатов отдал команду: “К пульту!” — и мы прошли в центральный пост. С шумом захлопнулась тяжелая крышка люка. Корпус “Стрелы” задрожал от бешеной пульсации тормозных двигателей.
Кому из астронавтов не знаком этот неистовый рев тормозных дюз! Очень близкий, все нарастающий, он становится яростным, пронизывает планетолет, прорывается сквозь тяжелые экраны центрального поста, бросает в дрожь стрелки приборов, заставляет вибрировать штурвал. Но грубый этот рев лучше всякой музыки. Кажется, что планетолет ожил и восторженно приветствует землю. “Конец пути! Конец пути! — надрываясь, ревут дюзы. — Конец пути!”
Шатов мастерски вел “Стрелу”. Я видел — ему трудно. Плохо повиновались газовые рули; дюзы, исковерканные метеоритами, создавали момент, вращающий “Стрелу” вокруг продольной оси; обзорный локатор не работал. И все-таки Шатов уверенно выводил планетолет в режим планирования.
Я провел полтора года с Шаговым, изучил его — так мне казалось! — до тонкостей. Однако, признаюсь, я впервые видел своего друга таким. Акселерометр показывал двойную перегрузку, тяжесть глубоко втиснула меня в кресло, но Шатов сидел в свободной, непринужденной позе. На его лице светилась азартная улыбка, глаза поблескивали. Движения рук, скупые и точные, были в то же время окрыленными. Да, именно окрыленными — я нашел нужное слово. Шатов каким-то шестым чувством, даже не глядя на приборы, угадывал, что надо делать.
“Стрелу” раскачивало. Я не мог понять — почему. Казалось, планетолет встретил сильный поток восходящего воздуха.
Внезапно задребезжал сигнал радиационного дозиметра. Я оглянулся — стрелка дозиметра ушла за красную черту. Снаружи, за свинцовыми экранами центрального поста, радиация достигла опасных для человека пределов. Но откуда она взялась, эта радиация?
— Штурман! — голос Шатова покрывал громовые раскаты тормозных двигателей. — Штурман, включите посадочный локатор.
Вспыхнул желтоватый квадрат выпуклого экрана. В самом центре экрана ярко светился красный овал.
Шатов взглянул на меня. Я прочел в его глазах изумление. На поверхности Марса, в шестистах километрах под нами, бушевало огромное огненное озеро. Извержение? Пожар?
Почти машинально я включил ионизационный пеленгатор. На экране возникла черная нить. Метнулась и замерла, надвое прорезав красный овал. Огненное озеро излучало колоссальную радиацию!
“Стрела” вздрогнула. Красное пятно быстро поползло к обрезу экрана. Шатов уводил планетолет в сторону. Я написал из листке бумаги: “Ядерный взрыв? Ядерная катастрофа?” — и передал Шатову. Он посмотрел на меня и молча пожал плечами. Потом указал глазами на шкалу наружного термографа. Температура за бортом планетолета поднялась до семидесяти градусов!
А “Стрела” снижалась. Шатов совершил чудо: искалеченный планетолет, преодолевая неизвестно откуда возникшие воздушные вихри, почти не отклонялся от намеченного курса. На экране посадочного локатора мелькали темные пятна.
“Где мы?” — глазами спросил Шатов. “Над Морем Времени”, — прокричал я. Он удовлетворенно кивнул головой.
Трудно было выбрать лучшее место для посадки. Море Времени — обширная кочковатая низменность, поросшая кустарниками ареситы, находилось вблизи Южного ракетодрома.
Черные пятна на экране локатора пронеслись с головокружительной быстротой. “Стрела” шла над самой поверхностью Марса. Я выключил локатор.
Не помню, сколько прошло времени. По-видимому, немного, минут пять. Рев двигателей стал невыносимым: Шатов включил посадочные ракеты. “Стрела” мягко опустилась на газовую подушку. Толчок был едва ощутим. И сразу наступила тишина. Оглушительная тишина, от которой звенит в ушах и каждый шорох кажется грохотом.
А потом я почувствовал тяжесть. Не искусственную тяжесть, создаваемую металлизированной одеждой в магнитном поле, не перегрузку от ускорения, а настоящую тяжесть, как сказал бы Шатов, Настоящую земную тяжесть.
— Недурно получилось, а? — спросил Шатов.
— Высший класс! — ответил я.
И мы рассмеялись. Шатов повернул рукоятку пневматического привода. Послышалось шипение, люк в кают-компанию открылся. Но шипение не прекращалось. Оно стало, правда, каким-то другим, порывистым, присвистывающим.
— Это снаружи, — удивленно произнес Шатов. — Похоже, Марс встречает нас ветреной погодкой.
Мы прошли в кают-компанию. Свист ветра здесь слышался особенно явственно. Более того, я заметил, что планетолет иногда вздрагивает, покачивается.
— Ну, капитан, — спросил я Шатова, — что по этому поводу сказал бы старик Омар?
Шатов ответил без улыбки:
— Старик Омар сказал в аналогичном случае: “Нет в женщинах и в жизни постоянства”. Что касается женщин…
Громкий треск прервал Шатова.
— Песчаная буря?
Шатов отрицательно мотнул головой.
— Нет, штурман. Это самый настоящий град.
Я подумал, что он шутит.
— Привезенный, конечно, с Земли?
— А теперь дождь, — спокойно констатировал Шатов.
По металлическому корпусу “Стрелы” барабанил дождь, ошибиться было невозможно.
— Штурман, я напишу на вас рапорт, — Шатов говорил почти серьезно. — Вы привели “Стрелу” на какую-то другую планету. Судя по силе тяжести, это Марс. Допускаю. Но ветер, град, дождь…
Дождь прекратился почти мгновенно. Зато ветер взвыл теперь с новой силой — пронзительно, надрывно.
— Что вы можете сказать в свое оправдание?
Я ничего не мог сказать. Я знал, что Марс тщательно изучен людьми. Знал, что бесчисленные экспедиции исследовали каждый клочок этой планеты. Я ничего не понимал.
— Допустим, где-то вблизи происходит извержение, — вслух рассуждал Шатов, прислушиваясь к вою ветра. — Но откуда град? И откуда такая сила ветра?.. Ага, опять идет дождь, вы слышите, штурман? Допустим, что это просто ураган. Но дождь, дождь! Почему на Марсе такой ливень?.. Печально, штурман, однако нам придется надеть скафандры и выйти. Рации скафандров работают, попробуем установить связь и…
Резкий толчок едва не сбил нас с ног.
— А, черт! — Шатов, придерживаясь руками за стенки, прошел в центральный пост. Из люка голос доносился приглушенно. — По ртутному барометру давление четыреста миллиметров. У этой милой планеты солидная атмосфера. Так… Еще одна загадка. Величина естественной радиации вчетверо меньше марсианской… Штурман, вы посадили “Стрелу” на какое-нибудь плоскогорье Земли. Или открыли новую планету. И не говорите какую. Это неприлично.
Шатов как всегда шутил. Но настроение у нас обоих было невеселое. Надевая скафандр, Шатов помянул было старика Омара, но замолчал на полуслове.
— Эх, скорее бы узнать, в чем дело, — просто сказал он. Впервые за полтора года в его голосе прозвучала усталость.
Он до отказа повернул рукоятку пневматического привода. Давление воздуха сорвало оплавленный люк. В шлюзовую кабину ударил ветер.
Мы включили рефлекторы. Два узких световых пучка прорезали тьму. Снаружи творилось нечто невообразимое. Резкий, порывистый ветер гнал обрывки взлохмаченных туч. Налетал и мгновенно прекращался дождь. Где-то далеко во тьме вспыхивали зарницы.
— Штурман, вы знаете, что сказал в аналогичном случае старик Омар? — услышал я в радиотелефон непривычно тихий голос Шатова.
— “Вниманье, странник. Ненадежна даль, из туч змеится огненная сталь”.
Громадная фигура Шатова протиснулась в прорезь люка. Я поспешил за ним. И тотчас же удар ветра сбросил меня вниз, на поверхность планеты. Падая, я успел ухватиться за ветви ареситы. Все-таки мы были на Марсе!
— Держитесь крепче, коллега, — крикнул Шатов. — Ползите сюда.
Шатов лежал за невысоким, густо поросшим ареситой бугром. Я пополз, преодолевая сопротивление беснующегося ветра.
— Включайте рацию, — сказал Шатов.
Я повернулся на спину, взялся за регулятор настройки. В шлем тотчас же ворвался треск атмосферных разрядов. И вдруг откуда-то издалека донесся слабый голос: “Стрсла, Стрела, Стрела… Стрела, Стрела…”
— Вы слышите, штурман? — кричал Шатов. — Давайте пеленговать.
К моему удивлению, рамка пеленгатора показывала вверх, в небо. В разрывах туч над нами то появлялся, то вновь исчезал небольшой, вдвое меньше лунного, желтый диск.
— Фобос! — Шатов махнул рукой вверх. — Фобос, спутник Марса. Они говорят оттуда.
Отвечать мы не могли. Радиус действия слабых передатчиков скафандров был около трехсот километров, а до Фобоса — девять тысяч с лишним. “Стрела, Стрела, Стрела…” — звали нас.
— Вот, заладили! — сказал Шатов. — Затем последует концерт танцевальной музыки — и передача окончена. Спокойной ночи, дорогие радиослушатели…
Цепляясь за ветви ареситы, он встал. Я видел, как содрогалась под ударами ветра его массивная фигура.
— Смотрите, штурман!
В голосе Шатова прозвучало нечто, заставившее меня привстать.
— Смотрите!
Он показывал в темноту. Я ничего не видел. Луч рефлектора растворялся в бездонной тьме.
Потом впереди, низко над поверхностью почвы блеснул сиреневый разряд молнии. И как на застывшем киноэкране я увидел: на нас шла стена воды. Холодный сиреневый свет вспыхнул на мгновение. Огромная волна казалась неподвижной — наклонившаяся, вспененная, страшная.
— Назад! — хрипло выкрикнул Шатов.
Он побежал к “Стреле”, подпрыгивая и часто оборачиваясь. Порыв ветра отбросил меня в сторону. Я упал на колени. Луч света впереди замер, метнулся, уперся в глаза. Шатов помог мне подняться. В радиотелефон я отчетливо слышал его хриплое дыхание.
— Быстрее, штурман, быстрее…
Он втолкнул меня в люк. Взвизгнув, хлопнула крышка.
И тогда я услышал гул приближающейся волны. Ровный, слитный, он неуклонно надвигался, поглощая все остальные звуки: шорох кустарника, стук дождевых капель, свист ветра. Он нарастал, превращаясь в яростный, вибрирующий вой.
— Держитесь! — крикнул Шатов, и голос его потонул в обрушившемся грохоте.
Я протянул руки — они схватили пустоту. Пол выбило из-под ног. Я упал на Шатова. И тотчас же наступила тишина.
— Осторожнее, коллега… — поднимаясь, сказал Шатов. — Вот так. Я догадался, что случилось с Марсом. Марс превращен в заповедник для любителей острых ощущений. Полагаю, сейчас начнется небольшое, хорошо организованное землетрясение…
 |
Снаружи по-прежнему доносился свист ветра. Унылый, бесконечно повторяющийся, он вызывал тягостное чувство. Кажется, я сказал об этом вслух, потому что в радиотелефоне послышался голос Шатова:
— Ничего не поделаешь… Нам придется выйти. Через полчаса Фобос уйдет за горизонт, и тогда мы ничего не услышим.
Медленно открылась крышка люка. Шатов, пригнувшись, нырнул в темноту. Я последовал за ним и сразу почувствовал, насколько сильнее стал ветер. Он уже не был порывистым, а давил плотной, почти осязаемой массой. Я ощущал Это давление сквозь толстую оболочку скафандра.
Шатов, прижимаясь к потрескавшейся, кочковатой почве, полз в заросли ареситы. Вода ушла, оставив изломанные кустарники. Я отпустил поручни.
И тогда ветер — он словно поджидал это мгновение — набросился с удесятеренной силой. Нет, не с удесятеренной. С сокрушающей, неимоверной, невероятной силой. Я плохо представляю, что произошло. Это случилось с какой-то сверхъестественной быстротой. Падение в пустоту, жестокий удар (меня спас скафандр), яркая вспышка света — луч рефлектора осветил коричневую, всю в трещинах, очень близкую почву — и темнота. Рефлектор был разбит вдребезги, антенна рации сломана. Голос Шатова (я не помню, что он кричал) оборвался на полуслове.
Ветер сталкивал меня куда-то в пустоту, Я пытался ухватиться за кусты ареситы — они были вырваны с корнями, я цеплялся за почву — она ускользала. А ветер, нет, не ветер — ураган, бешеный ураган с неистовой яростью уносил меня все дальше от планетолета. Дважды при вспышках молний я видел “Стрелу”. И почти сразу наступала густая темень. Над поверхностью планеты клубились тучи. Как гигантские холмы, они, казалось, ползли по самой земле, отсвечивая все усиливающимися электрическими разрядами. Теперь молнии сверкали непрерывно. Ураган был до отказа насыщен электричеством, со скафандра слетали снопы голубых искр.
Отчаянно напрягаясь, я старался задержаться, уцепиться за что-нибудь — и не мог. Ураган нес меня, подбрасывал вверх, швырял наземь, переворачивал и гнал, гнал, гнал…
Это продолжалось долго, нестерпимо долго и кончилось так же внезапно, как и началось. Я почувствовал удары упругих ветвей ареситы, провалился в какую-то яму — и все стихло.
Не сразу я осознал происшедшее. Болело ушибленное плечо, не хватало воздуха, перед глазами мелькали красные круги… Откуда-то из глубины сознания пришла страшная мысль. Сначала она была смутной. Потом, оттеснив хаотические клочки других мыслей, прозвучала вдруг с беспощадной ясностью: “Случилось то, чего ты давно ожидал. То самое. Неотвратимое”.
Над Морем Времени бушевал ураган. Где-то (я даже не знал, в каком направлении) был планетолет. Где-то очень далеко. Расстояние между нами не поддавалось измерению. Оно было бесконечным. А стрелка кислородного индикатора прошла половину шкалы. Кислорода оставалось на час, может быть, на полтора.
Скосив глаза, я долго, до боли в висках, смотрел на маленький светящийся индикатор, вделанный в шлем скафандра. Стрелка передвигалась! Мне казалось, что я ясно вижу, как она движется к короткой красной черте, за которой- смерть. Леденящий ужас затоплял сознание. Он поднимался, как вода, откуда-то снизу, постепенно сковывая тело. А предательская мысль звучала с яростной настойчивостью: “Случилось то, чего ты давно ожидал. То самое. Неотвратимое”.
Цепляясь за узловатые корни ареситы, я поднялся на ноги, раздвинул ветви. С прежней силой ревел ветер. Но небо было безоблачным. И над самым горизонтом я увидел двойную, очень яркую голубую звезду.
Это была наша Земля. Земля и Луна. Здесь, в этом чужом мире, где все было враждебно — и хлещущий ветер, и жесткая каменистая почва, и непроглядная тьма — вдруг возникло что-то свое, родное. Земля! Родная Земля! Я твердил это слово, я повторял его вновь и вновь.
В спокойном, дружеском сиянии двойной звезды было что-то необыкновенное. Что именно- я не мог понять. Всматривался — и не мог. Но чем дольше я всматривался, чем настойчивее старался понять это необыкновенное, тем важнее это было для меня. Я забыл об урагане, я не слышал рева ветра, я не видел диска кислородного индикатора…
И внезапно я понял. Двойная голубоватая звезда, повисшая над черным изломом горизонта, мерцала! Едва заметно, очень слабо, но мерцала. А в разреженной атмосфере Марса мерцание не могло быть заметно. Земля, далекая родная Земля, заставила меня осознать, что сегодня, сейчас, у Марса появилась плотная атмосфера. Я не знал, откуда она взялась. Я не думал об этом. Сквозь бездну Космоса Родина указала мне путь к спасению. И я принял этот путь сразу, без раздумий и сомнений.
Я открыл вентиль шлема.
В лицо ударил теплый ветер. Глубоко, полной грудью вдыхал я воздух. Он был очень теплый, влажный, насыщенный мускусным запахом ареситы. У меня кружилась голова от этого воздуха, от этого запаха, от счастья…
Не помню, сколько прошло времени. Земля поднималась над горизонтом, и там, где она поднималась, небо светлело. Для Марса наша Земля была утренней звездой. Ее восход предвещал утро, рассвет.
Он казался хмурым, этот рассвет. Серые тени тянулись по кочковатой равнине, над горизонтом клубились черные дымки туч. Но ветер стихал. Я это чувствовал.
И тогда мною овладела веселая злость. Я ухватился за низкий стелющийся кустарник, вылез из ямы и пошел. Я шел и кричал. Я ругал ветер, выкрикивая какие-то слова, какие-то обидные слова. Ветер фыркал, налетал, пытался оттолкнуть меня, но он уже ничего не мог сделать.
Я шел.
Куда идти — я не знал. И поэтому шел наугад, туда, где светилась двойная утренняя звезда. Я не смог бы повернуться к ней спиной.
Я прошел метров сто. Из-за бугра (впереди и правее меня), роняя красные искры, поползла в небо ракета. Потом — еще одна. И еще, еще… Кто-то стрелял из ракетницы.
Тогда я побежал. Ветер как бы расступился, исчез. Я бежал, перепрыгивая через кусты ареситы, — на Марсе почти не чувствуется тяжести скафандра.
С вершины бугра я увидел “Стрелу”. Она была совсем близко, метрах в пятидесяти. Ее темный, вытянутый силуэт четко вырисовывался на фоне светлеющего неба. Она показалась мне необыкновенно красивой, наша “Стрела”: плавные, благородные и строгие очертания, гордо приподнятые короткие крылья, устремленный вперед корпус…
Шатов выпускал одну ракету за другой. Он был без скафандра, в расстегнутом комбинезоне. Рядом со “Стрелой” стоял собранный вертолет — маленький, приземистый. Только Шатов мог так собрать вертолет — один, в темноте, в бурю…
Он издалека увидел меня, отбросил ракетницу, сорвал кожаный шлем и, высоко подняв его над головой, что-то закричал.
Я рванулся к нему, на ходу расстегивая скафандр.
— Ну, ну, штурман, успокойтесь, — глухим голосом произнес Шатов. — Кажется, старик Омар… Нет, не то…
И он отвернулся.
Только сейчас я заметил десятки ракетных обойм, валявшихся на земле. Это заставило меня вспомнить о Марсе.
— Марс?.. — все еще глуховатым голосом переспросил Шатов и кашлянул. — Марс? Полный порядок, штурман. Здесь многое изменилось. Нашли бериллий, титан… Неисчерпаемые запасы. Буквально под ногами. И теперь люди создают на Марсе атмосферу. Красное пятно, которое мы видели на экране локатора, — термоядерный кратер. Таких шесть на Марсе. В них идет управляемая цепная реакция. Тяжелые атомы дробятся. И главное — в этих кратерах от колоссальной температуры разлагаются минералы, содержащие кислород, воду, углекислый газ… Люди сейчас покинули Марс, только на Фобосе остался пост управления. Нам еще повезло, штурман, здесь были бури похлеще вчерашней. И радиоактивность была значительно выше, сейчас это уже не опасно. К тому же атмосфера преградила доступ космическому излучению. Считайте, что нам повезло… И хватит, штурман! Больше я ничего не знаю. С Фобоса меня порадовали целой лекцией — цифры, формулы, даже цитаты, — но я возился с этой птичкой… Простите!
— А она уцелеет, эта атмосфера? — спросил я.
Шатов расхохотался.
— Ага! Понравился ветерок… Не беспокойтесь, штурман. Когда-то Марс потерял значительную часть своей атмосферы. Теперь же он сможет удерживать новую атмосферу практически вечно. Могу добавить: такая же участь ожидает Луну. Старушка тоже получит атмосферу. И хватит расспросов. Хватит! Если угодно, возьмите мой скафандр, настройте рацию и слушайте… А я… Штурман, штурман, солнце! Смотрите, солнце!
Над Марсом всходило солнце. Пурпурное небо прорезали розовые полосы, и на горизонте, четко разделяя землю и небо, блеснул золотой ободок. Краски дрожали, переливались, светлели. От солнечного ободка струился свет, он словно углублял краски неба, наполнял их силой.
Полтора года в Космосе, ураган, ночной кошмар — все это ушло, все это ничего не значило по сравнению с первым рассветом на Марсе. Я бы прошел через вдесятеро большие трудности, чтобы увидеть этот первый рассвет над древней планетой. Рассвет, созданный людьми.
Солнце выплескивало в небо упругие, сверкающие лучи, и они отгоняли тьму. Звезды гасли, стертые солнечными лучами. И только одна звезда — двойная, очень яркая — торжествующе светила в прозрачном утреннем небе.
— Земля, — тихо сказал Шатов за моей спиной. — Голубая планета…
Я обернулся. На небритой щеке Шатова влажно поблескивала голубая искорка.
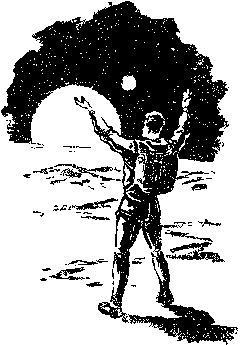 |
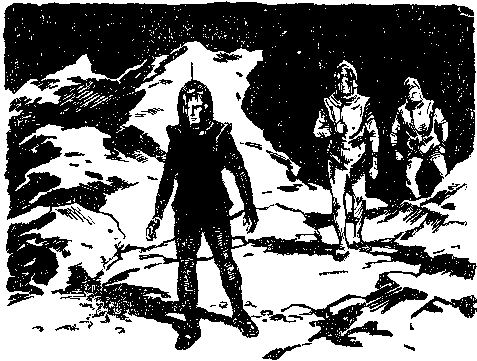 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |