"Церковь иезуитов в Г." - читать интересную книгу автора (Гофман Эрнст Теодор Амадей)
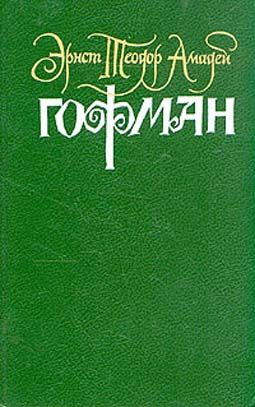 |
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Церковь иезуитов в Г.
Упрятанный в жалкую почтовую колымагу, в которой даже моль не водилась, потому что инстинкт заставил ее спасаться оттуда бегством, как крыс с корабля Просперо, весь точно батогами избитый после костедробильной езды, я наконец-то въехал на площадь города Г. и остановился у дверей гостиницы. Все уготованные мне несчастья обрушились на мою карету; поломанную, ее пришлось бросить у почтмейстера на последней станции. Спустя несколько часов четыре тощие заезженные клячи при поддержке моего слуги и нескольких мужиков притащились следом за мной с развалинами моего дорожного жилища, собрались умельцы, покачали головами и вынесли заключение, что тут потребуется основательная починка, на которую уйдет два дня, а может быть, и три. Городок произвел на меня приятное впечатление, окрестности его были прелестны, и все же я не на шутку перепугался, узнав, что на какое-то время мне грозит опасность тут застрять.
Любезный читатель, если тебе случалось когда-нибудь денька три проводить в маленьком городишке, где у тебя никого, решительно никого нет знакомых, где ты для всех совершенно чужой, тогда, если только какое-нибудь застарелое страдание не убило в тебе потребности в дружеском собеседнике, ты, конечно, поймешь мое огорчение. Ведь только животворный дух, присущий слову, способен преобразить для нас все окружающее, но в маленьком городке все его обитатели настроены на один лад и до того спелись между собой, что стали похожи на оркестр, не приученный исполнять ничего иного, кроме одних и тех же заигранных пьес; знакомая музыка получается у них правильно и чисто, зато при первом же звуке чужого голоса они умолкают, пораженные диссонансом.
Я ходил по своей комнате из угла в угол, точно неприкаянный, как вдруг вспомнил, что один из моих друзей живал прежде в этом городке; от этого приятеля мне не раз приходилось слышать об одном человеке выдающегося ума и учености, с которым они в те годы очень сошлись. Имя его мне запомнилось ― то был профессор иезуитской коллегии господин Алоизий Вальтер, и я решил наведаться к нему по знакомству.
В коллегии мне сказали, что у профессора Вальтера сейчас лекции, и предложили либо прийти попозже, либо остаться и, если угодно, подождать в одном из передних залов. Я выбрал второе.
Монастыри, коллегии и церкви иезуитов всюду построены сходно, в том итальянском стиле, который, основываясь на античных формах, отдает предпочтение изяществу и роскоши перед суровой набожностью и религиозной торжественностью. То же самое было и здесь: высокие и просторные залы, полные света, отличались богатым архитектурным убранством, а развешанные между колоннами ионического ордера картины с изображениями различных святых составляли престранный контраст с росписью на суперпортах: то был сплошной хоровод античных гениев, а кое-где попадались даже плоды и лакомые изделия поварского искусства.
Вошел профессор, я напомнил ему о моем приятеле и тут же получил от господина Вальтера любезное приглашение воспользоваться его гостеприимством на время моей вынужденной остановки в Г. Профессор оказался совершенно таким, каким его описывал мой приятель: остроумным собеседником, светски воспитанным человеком; короче говоря, он был законченный образчик духовной особы высокого сана; благодаря ученой образованности, кругозор его не ограничивался одним только молитвенником, он достаточно повидал свет, чтобы разбираться в обычаях мирской жизни.
Очутившись в комнате профессора и увидав, что она тоже обставлена со всей элегантностью нашего времени, я поневоле вспомнил о тех соображениях, которые мелькнули у меня в залах коллегии, и высказал их в нашей беседе.
― Вы правы, ― ответил профессор. ― Мы и впрямь изгнали из наших строений эту угрюмую суровость, это странное величие всесокрушающего тирана, от которого в готическом здании у нас замирает дух и стесненная грудь начинает томиться таинственным ужасом; пожалуй, надо бы видеть заслугу в том, что мы усвоили для своих построек бодрую жизнерадостность древних.
― Но разве в этой торжественности святыни, в этой величавой устремленности к небесам, свойственных готическому храму, не выражается истинно христианский дух, чья отрешенность от всего низменного и мирского несовместима с земным чувственным началом, которым насквозь пронизана античность? ― возразил я профессору.
Он в ответ усмехнулся:
― Что поделаешь! Горний мир надобно постигать во время земной жизни. Так отчего же нельзя воспользоваться для его постижения теми светлыми символами, которые мы находим в жизни, ибо они ниспосланы нам свыше и служат в нашей земной обители вместилищем божественного духа! Отчизна наша, конечно, на небесах, но покуда человек здесь обретается, он не чужд и бренному миру.
«Спору нет, ― подумал я про себя. ― О вашей братии никак не скажешь, будто вы не от мира сего, это уж вы доказали всеми своими делами». Однако об этой мысли я не обмолвился профессору Вальтеру, и он продолжал свою речь:
― Все, что вы говорите о роскоши наших здешних строений, можно, по-моему, отнести только к приятности формы. Ведь мрамор в наших краях ― вещь недоступная, выдающиеся художники не станут у нас работать, так что хочешь ― не хочешь, а приходится в полном соответствии с новейшими веяниями обходиться суррогатами. Полированный гипс и то уж для нас великое достижение, мраморы наши по большей части ― создание живописца; откуда они берутся, можно как раз сейчас наблюдать в нашей церкви: щедрость наших покровителей позволила нам подновить ее убранство.
Я выразил желание посмотреть церковь, и профессор повел меня вниз. Вступив в галерею из коринфских колонн, которыми с двух сторон главный неф церкви отделялся от боковых приделов, я на себе испытал впечатление как бы даже излишней приветливости, производимое нарядными архитектурными формами. Слева от главного алтаря устроен был высокий помост, на нем стоял человек и расписывал стены под нумидийский мрамор.
― Как идут дела, Бертольд? ― окликнул художника профессор.
Тот было обернулся к нам, но тотчас же снова принялся за работу; глухим, еле слышным голосом он произнес:
― Мука мученическая... Все перекривлено, перепутано... С линейкой и не подступайся... Зверье... Обезьяны... Человеческие лица... Лица... Ох! Беда мне, глупому!
Последние слова он громко выкрикнул таким голосом, какой бывает только у человека, истерзанного глубокой душевной мукой; во всем этом что-то до чрезвычайности меня поразило: эти речи, выражение лица, взор, каким он посмотрел тогда на профессора, ― все вместе слилось в моем воображении, и мысленно я представил себе разбитую жизнь несчастного художника.
По виду ему было лет сорок; несмотря на неуклюжий и перепачканный рабочий балахон, во всем его облике сквозило какое-то неизъяснимое благородство, глубокая скорбь стерла румянец с его лица, но так и не смогла загасить того огня, который светился в его черных глазах.
Я спросил профессора, что он знает о художнике.
― Этот художник ― не здешний житель, ― отвечал профессор. ― Он объявился тут как раз, когда решено было обновить нашу церковь. Мы предложили ему работу, и он с радостью согласился; он прибыл сюда очень кстати, и нам, можно сказать, повезло, поскольку не то что поблизости, а и на много миль кругом в нашей местности не сыскать другого такого мастера по всем видам росписи, которые тут требуется выполнить. Вдобавок он отличается редкостным добродушием, мы все его полюбили, так что в коллегии он принят как нельзя лучше. Кроме приличного гонорара, который ему заплатят за его труды, он у нас задаром столуется; впрочем, нам это недорого обходится, он до крайности воздержан в еде, но при такой телесной немощи умеренность ему, очевидно, полезна.
― А мне он сегодня показался таким угрюмым, таким... раздраженным, ― вставил я свое слово.
― Тому есть особенная причина, ― ответил профессор. ― Однако давайте-ка лучше посмотрим с вами алтарные образа в боковых приделах, там есть превосходные работы. Не так давно они достались нам по счастливой случайности. Среди них есть только один оригинал кисти Доменикино, остальные картины принадлежат неизвестным мастерам итальянской школы. Но если вы будете смотреть без предвзятости, то сами сможете убедиться, что каждая из них достойна самой именитой подписи.
Все так и оказалось, как говорил мне профессор. Как ни странно, единственный оригинал относился к числу сравнительно слабых вещей и был едва ли не самым слабым, зато некоторые безымянные картины были так хороши, что совершенно пленили меня. Одна из картин была занавешена; я полюбопытствовал, зачем ее укрыли.
― Эта картина, ― сказал мне профессор, ― лучше всех остальных, это произведение одного молодого художника новейшего времени и, по всей видимости, последнее его создание, ибо он остановился в своем полете. По некоторым причинам нам пришлось на время занавесить картину, но завтра или послезавтра я, может быть, смогу ее вам показать.
Я хотел было продолжить расспросы, но профессор вдруг быстрым шагом двинулся дальше; этого было довольно ― я понял, что он не расположен сейчас к дальнейшим объяснениям.
Мы вернулись в коллегию, и я с удовольствием принял приглашение профессора прокатиться с ним в находившийся поблизости загородный парк. Назад мы вернулись поздно; к нашему возвращению собралась гроза, и не успел я переступить порог моего жилища, как хлынул ливень. Время было уж, верно, за полночь, когда небо наконец прояснилось и лишь издалека еще доносилось бормотание грома. Через раскрытые окна в душную комнату повеяло прохладой, воздух был напоен благоуханием; не в силах устоять против такого искушения, я, несмотря на усталость, решил еще немного прогуляться; едва добудившись сердитого привратника, который уже часа два храпел в постели, я кое-как убедил его, что охота прогуляться в полночь вовсе еще не означает безумия; и вот я очутился на улице.
Поравнявшись с церковью иезуитов, я заметил, что одно окно светится ослепительно ярким светом. Боковая дверца была только притворена, я вошел внутрь и увидал, что перед высокой нишей горит восковой факел. Подойдя ближе, я разглядел, что перед нишей была натянута веревочная сетка, а за нею какая-то темная фигура сновала вверх и вниз по стремянке; казалось, человек что-то чертит на стене. Это был Бертольд, черной краской он расчерчивал нишу так, чтобы линии точно совпадали с тенью, которую отбрасывала сетка. Рядом со стремянкой на высоком мольберте был установлен эскиз алтаря. Я подивился остроумной выдумке. Если и ты, благосклонный читатель, несколько знаком с благородным искусством живописи, то и сам без лишних объяснений тотчас же поймешь, для чего нужна была сетка и зачем Бертольд по линиям ее тени расчерчивал нишу. Бертольду нужно было нарисовать в нише выпуклый алтарь. Для того чтобы верно срисовать маленький эскиз в увеличенном масштабе, пришлось бы, следуя обычной методе, расчертить сеткой как эскиз, так и поверхность, на которую его предстояло перенести. Однако поверхность, которую художник должен был расписать, была не плоской, а представляла собой полукруглую нишу; поэтому искажение, которое получали квадраты на вогнутой поверхности ниши по сравнению с прямыми линиями эскиза, а также правильные пропорции архитектурных деталей, которые в готовой росписи должны были предстать выпуклыми, никак и невозможно было рассчитать иначе, чем этим гениальным в своей простоте способом. Остерегаясь, как бы не заслонить собою факел, чтобы моя тень не выдала моего присутствия, я выбрал место сбоку, но все же стоял достаточно близко и мог наблюдать за художником. Его нынче точно подменили; пламя ли факела было тому причиной, но только лицо у него разрумянилось, глаза так и сверкали, словно бы от полноты душевного удовольствия; закончив чертеж, он встал подбоченясь перед нишей и, насвистывая веселую песенку, любовался готовой работой. Но вот он обернулся и сдернул натянутую сетку. Тут он заметил меня и громко окликнул:
― Эй, кто там! Вы ли это, Христиан?
Я подошел поближе, объяснил, что забрел сюда на огонек, и, воздав хвалу находчивому приему с тенью от сетки, обнаружил перед художником, что кое-что смыслю в благородном искусстве живописи и сам не чужд этому занятию. Оставив мои слова без ответа, Бертольд сказал:
― Впрочем, что с него возьмешь, с Христиана! Лодырь, да и только! Обещался, что всю ночь со мною глаз не сомкнет, а сам небось давно спать завалился. Мне надо поспешать с работой, завтра в этой нише, может быть, ни черта не напишется, а один я сейчас ничего не смогу сделать.
Я вызвался пойти к нему в помощники. Он расхохотался, обхватил меня за плечи и воскликнул:
― Вот это отменная шутка! Что-то скажет завтра Христиан, когда увидит, что остался в дураках, а тут и без него обошлись! Так пойдемте же, незнакомый собрат и товарищ по ремеслу: перво-наперво помогите мне строить!
Он зажег несколько свечей, мы с ним бегом приволокли на нужное место козлы и доски, и скоро возле ниши поднялся высокий помост.
― Ну, теперь веселей за дело! ― сказал Бертольд, а сам уже взбирался наверх.
Я только дивился, с какой быстротой Бертольд переводил эскиз на стену; он бойко и без единой ошибки вычерчивал свои линии, рисунок его был точен и чист. У меня тоже был кое-какой навык в этом деле, и я старательно помогал художнику: то поднимаясь наверх, то спускаясь вниз, я прикладывал к нужной отметке длинную линейку, затачивал и подавал угольки и т. д.
― А вы, оказывается, дельный помощник, ― весело воскликнул Бертольд.
― Зато вы, ― отозвался я, ― такой мастер в архитектурной росписи, какого еще поискать; неужели вы, с вашей-то сноровкой, да при такой верной руке, ни разу не пробовали писать что-нибудь другое? Простите меня за этот вопрос!
― В каком смысле вас понимать? ― ответил Бертольд тоже вопросом.
― Да в том смысле, что вы способны на что-то большее, чем только разрисовывать церкви мраморными колоннами. Что ни говори, архитектурная живопись все-таки искусство второстепенное; историческая живопись или пейзаж безусловно стоят выше. Тут мысль и фантазия не скованы тесными рамками геометрических линий, и для их полета открывается простор. Единственное, что есть фантастического в вашей живописи, это иллюзия, создаваемая перспективой; но ведь и она зависит от точного расчета, так что и этот эффект рождается не от гениальной идеи, а благодаря отвлеченному математическому рассуждению.
Во время моей речи художник опустил кисть и слушал меня, подперев голову рукою.
― Незнакомый друг мой, ― начал он в ответ глухим и торжественным голосом. ― Незнакомый друг, ты поступаешь кощунственно, устанавливая иерархию между отдельными отраслями искусства, как между вассалами могучего короля. Еще худшее кощунство ― почитать среди них только тех заносчивых гордецов, которые не слышат лязганья рабских цепей, не чувствуют тяжести земного притяжения, а, возомнив себя свободными, едва ли не богами, желают творить и властвовать над самою жизнью. Знакома ли тебе сказка о Прометее, который пожелал стать творцом и украл огонь с неба, чтобы оживить своих мертвых истуканов? Он добился своего: его ожившие создания пошли ходить по земле, и в глазах у них отражался огонь, зажженный в их сердцах; зато святотатец, который осмелился похитить божественную искру, был проклят и осужден на ужасную вечную казнь, от которой нет избавления. Когда-то в его груди зародился божественный замысел, в ней жили неземные стремления, а ныне ее терзает злой стервятник, исчадие мести, и в кровавых ранах дерзновенного гордеца находит свою пищу. Тот, кто лелеял небесную мечту, навек обречен мучиться земной мукой.
Умолкнув, художник целиком погрузился в свои мысли.
― Как же так, Бертольд?! ― воскликнул я. ― Каким образом вы относите все это к своему искусству? Я думаю, никто не назовет святотатцем скульптора или живописца за то, что он создает людей средствами своего искусства.
Бертольд рассмеялся с какой-то горькой язвительностью:
― Ха-ха! В ребяческих забавах нету святотатства!.. Большинство ведь только и знает, что тешит себя ребяческими забавами: не долго думая взял, обмакнул кисть в краску и ну давай себе мазать холст, искренне желая изобразить на нем человека; только получается-то у них совершенно так, как сказано в одной трагедии, ― словно бы неловкий подмастерье природы задумал создать человека, да только не удалась затея. Это еще не грешники, не святотатцы! Это просто невинные дурачки! Но коли тебя, сударь мой, вдохновляет высший идеал, не ликование плоти, как у Тициана, ― нет! ― но высшее проявление божественной природы ― Прометеева искра в человеке, тогда... Тогда, сударь, это ― острая скала среди бушующих волн! Узенькая полоска под ногами! А под ней ― разверстая бездна! Над бездною стремит свой путь отважный мореход, а дьявольское наваждение кажет ему внизу ― внизу! ― то, что искал его взор в надзвездных высях!
Художник глубоко вздохнул, провел себе рукой по лбу и устремил взор кверху.
― Но что это я! Вы там внизу меня слушаете, а я заболтался невесть о чем и работу забросил! Поглядите-ка лучше сюда! Вот это можно назвать честным, добротным рисунком. Какая славная штука ― правильность! Все линии сочетаются ради единой задачи, для определенного, тщательно продуманного эффекта. Где мера ― там и человечность. Что сверх меры ― то от лукавого. Сверхчеловек ― это уж значит либо Бог, либо дьявол; не может ли быть так, что и того и другого человек превзошел по части математики? Почему бы не допустить мысль, что Бог нарочно создал нас для того, чтобы мы обеспечивали все его надобности в таких вещах, которые можно представить согласно доступным для нашего познания математическим правилам, то есть во всем, что можно измерить и рассчитать; подобно тому, как и мы сами понаделали себе механических приспособлений для разных нужд ― лесопилок или ткацких станков. Профессор Вальтер недавно утверждал, что будто бы иные животные с тем только и созданы, чтобы другие могли их поедать, а в конечном счете оказывается, что такой порядок существует для нашей же пользы; так, например, кошки обладают врожденным инстинктом к поеданию мышей для того, чтобы последние не сгрызли наш сахар, припасенный для чаю. Так, может быть, прав профессор? Вдруг в самом деле животные, да и мы сами ― это хорошо устроенные машины для переработки и перемешивания определенных веществ, которые должны пойти на стол некоему неведомому царю... А ну-ка! Живо, живо, мой помощник! Подавай мне горшочки! Вчера при ясном солнышке я подобрал нужные оттенки, чтобы не ошибиться при факельном освещении; все краски пронумерованы и стоят в углу. Подавай сюда номер первый, мальчик! Серый по серому ― сплошная серость!.. Ну, чего бы стоила скучная, ничем не прикрашенная жизнь, кабы Господь небесный не давал нам в руки разных пестрых игрушек! Послушным детям не вздумается, как негодному мальчишке, шалить и ломать ящичек, в котором играет музыка, лишь стоит покрутить ручку. Говорят, что, мол, это естественно ― музыка зазвучала оттого, что я покрутил ручку!.. Вот сейчас я нарисую эти брусья в правильной перспективе и могу быть уверен, что для зрителя они предстанут объемными. Номер второй сюда, мальчик! Теперь я выпишу их правильно подобранными красками, и они зрительно отодвинутся в глубину на четыре локтя. Все это я знаю наверняка! О! Мы такие умники! Отчего получается так, что удаленные предметы уменьшаются в размере? Один дурацкий вопрос какого-нибудь китайца может поставить в тупик самого профессора Эйтельвейна; хотя на крайний случай его выручит тот же органчик: можно ответить, что я не раз, мол, крутил ручку и всегда наблюдал при этом одинаковое действие... Фиолетовую номер один, мальчик!.. Другую линейку!.. Толстую отмытую кисть!.. Ах, что такое наши возвышенные стремления и погоня за идеалом, как не бессознательные неумелые движения младенца, которые ранят благодетельную его кормилицу!.. Фиолетовую номер два, мальчик, живее!.. Идеал ― это обманчивая и пустая мечта, порождение кипучей крови... Забирай горшочки, мальчик, я слезаю... Знать, черт нас дурачит, подсовывая кукол с приклеенными ангельскими крыльями!
Нет никакой возможности дословно передать все, что говорил Бертольд; при этом он не переставал писать и обращался со мною совсем как с настоящим подручным. В таком духе, как тут описано, он продолжал язвительно глумиться над ограниченностью всех земных стремлений; ах, я заглянул в глубину смертельно раненной души, лишь в едкой иронии изливающей свои жалобы.
Забрезжило утро, свет факела померкнул перед потоком солнечных лучей. Бертольд истово продолжал писать, но мало-помалу утих, и лишь отрывочные звуки, а под конец уже одни только вздохи вырывались из его измученной груди. Вчерне алтарь был уже готов, и благодаря правильно подобранным оттенкам детали неоконченной росписи с изумительной пластичностью проступили на стене.
― Право же, это великолепно! Просто великолепно! ― воскликнул я с восхищением.
― Так, по-вашему, у меня вроде бы что-то получилось? ― спросил меня Бертольд усталым голосом. ― По крайней мере, я старался дать правильный рисунок; на сегодня ― конец, больше не могу.
― Остановитесь, Бертольд, не делайте больше ни одного мазка! ― ответил я ему. ― Это просто невероятно, как вы всего за несколько часов справились с такой работой; но вы слишком себя истязаете и совершенно не бережете свои силы.
― А ведь это для меня еще самые счастливые часы, ― ответил Бертольд. ― Может быть, я тут наболтал много лишнего, но ведь это не более как слова, в которых изливается страдание, раздирающее мне душу.
― Мне кажется, что вы очень несчастны, мой бедный друг, ― сказал я ему. ― С вами случилось какое-то ужасное событие, которое злобно разрушило вашу жизнь.
Художник не спеша отнес в часовню свои рабочие принадлежности, потушил факел, затем подошел ко мне, взял меня за руку и дрогнувшим голосом произнес:
― Разве могли бы вы хотя бы минуту прожить со спокойной, безмятежной душой, когда бы знали за собой чудовищное, ничем не искупимое преступление?
Я точно оцепенел. Ясные солнечные лучи озаряли покрывавшееся смертельной бледностью, потерянное лицо художника; он был похож на привидение, когда шаткой походкой скрылся за дверью, которая вела в коллегию.
На другой день я едва дождался часа, назначенного профессором Вальтером для нашей встречи. Я пересказал ему происшествие, которое так взволновало меня прошлою ночью; в самых живых красках я описал странное поведение художника и не утаил ни одного слова, не исключая и тех, которые имели отношение к нему самому. Но чем больше я надеялся на сочувствие, тем более поражало меня равнодушие профессора; видя, что я без устали готов говорить о Бертольде, он в ответ на мои настоятельные просьбы поскорее рассказать все, что ему известно о художнике, даже усмехался пренеприятной усмешкой.
― Да, странный человек этот художник, ― повел свою речь профессор. ― Уж он ли не кроток, и добродушен, и трудолюбив! Вот только умом слабоват: иначе никакое внешнее событие, пускай даже совершенное им убийство, не могло бы уничтожить его настолько, чтобы из великолепного исторического живописца он вдруг превратился в убогого маляра.
Слово «маляр» рассердило меня не меньше, чем самое равнодушие профессора. Я попытался растолковать ему, что Бертольд и сейчас еще как художник достоин всяческого уважения и заслуживает самого живого участия.
― Ну что же, ― заговорил наконец профессор. ― Уж коли наш Бертольд до такой степени вызвал ваш интерес, то вы, так и быть, узнаете про него в точности все, что мне самому известно, а это не так уж мало. Начнем с того, что отправимся с вами в церковь. Проработав всю ночь напролет, Бертольд устал и полдня будет отдыхать. Если окажется, что он сейчас в церкви, ― значит, моя затея не удалась.
Мы пошли в церковь, профессор распорядился, чтобы открыли занавешенную картину, и передо мною предстала такая волшебная, ослепительная красота, какой я раньше никогда не видывал. Композиция картины была в стиле Рафаэля ― проста и божественно прекрасна: Мария и Елизавета, сидящие среди чудного сада на лужайке, перед ними играющие цветами младенцы Иоанн и Христос, на заднем плане ― коленопреклоненная мужская фигура! Небесное милое лицо Марии, величавость и святость всего ее облика изумили и восхитили меня до глубины души. Она была красавица, в целом свете не бывало женщины красивее ее! Но, подобно мадонне Рафаэля из Дрезденской галереи, взор ее говорил об иной, высшей власти ― власти Божьей Матери. Ах! Разве не достаточно человеку заглянуть в эти дивные очи, осененные глубокой тенью, чтобы в душе его рассеялась неутолимая тоска? Не слышатся разве из этих полураскрытых нежных уст утешительные, точно райское пение, слова о бесконечном небесном блаженстве? Повернуться перед нею, небесною царицей, и лежать у ее ног во прахе толкало меня какое-то непередаваемое чувство. Не в силах сказать ни слова, я не мог глаз оторвать от бесподобной картины. Только Мария и дети были выписаны до конца, Елизавете, казалось, недоставало завершающих мазков, а фигура молящегося еще только была намечена контуром. Подойдя ближе, я узнал в его лице черты Бертольда и предугадал слова профессора прежде, чем они были сказаны.
― Эта картина, ― объявил профессор, ― последняя работа Бертольда; несколько лет тому назад мы приобрели ее в Верхней Силезии на аукционе в Н. Несмотря на то, что она не закончена, мы все же решили заменить ею ту убогую поделку, которая раньше была на этом месте. Когда Бертольд пришел и увидел эту картину, он громко вскрикнул и упал без сознания. Потом он старательно избегал на нее смотреть и признался мне, что это была его последняя работа в таком роде. Я надеялся, что со временем сумею его уговорить и он доделает остальное, но все мои просьбы он отвергал с ужасом и отвращением. Чтобы хоть мало-мальски обеспечить его спокойствие и здоровье, пришлось на время его работы в церкви занавесить эту картину. Стоило ему нечаянно на нее взглянуть, как он подбегал к ней, точно его влекла сюда неодолимая сила, с рыданиями бросался наземь, впадал в какие-то пароксизмы и потом по нескольку дней бывал ни на что не способен.
― Бедный, бедный, несчастный человек! ― воскликнул я. ― Какая же дьявольская рука вмешалась в его жизнь и так яростно ее разбила?
― Ну, рук-то ему было не занимать! Своя же подвернулась, Бертольдова. Да, да! Он, несомненно, был сам своим злым демоном, он сам тот Люцифер, который адским факелом озарил его жизнь. По крайней мере, из всей его жизни это очень ясно следует.
Я стал упрашивать профессора, чтобы он сейчас и рассказал мне все, что знает о жизни несчастного художника.
― Слишком уж долгая это история, чтобы ее одним духом рассказать, ― возразил профессор. ― Давайте не будем портить себе солнечный день такими невеселыми вещами. Лучше позавтракаем, а потом отправимся с вами на мельницу, где нас ожидает на славу приготовленный обед.
Но я все не отставал от профессора со своими просьбами, и слово за слово из нашего разговора наконец выяснилось, что сразу же по приезде Бертольда к нему всей душой привязался один юноша, учившийся в коллегии; ему-то Бертольд мало-помалу стал поверять события своей жизни, молодой человек тщательно все записывал и, закончив, отдал рукопись профессору Вальтеру.
― Это был, с позволения сказать, энтузиаст вроде вас, ― сказал в заключение профессор. ― Но запись необыкновенных событий из жизни художника послужила ему хорошим средством для упражнения своего стиля.
С большим трудом я добился от профессора обещания, что вечером после нашей прогулки он даст мне почитать эти записки. Не знаю уж отчего: то ли оттого, что мое любопытство было напряжено до предела, то ли по вине самого профессора, но только я никогда еще не скучал так, как в этот день. Ледяная холодность, с которой профессор относился к Бертольду, уже произвела на меня фатальное впечатление; а разговоры, которые он вел за обедом со своими коллегами, окончательно убедили меня, что, несмотря на всю ученость и светскую опытность, ничто идеальное не доступно для его понимания; более грубого материалиста, чем профессор Вальтер, невозможно себе представить. Оказывается, он действительно придерживался системы насчет взаимного пожирания, о которой упоминал Бертольд. Все духовные устремления, изобретательность, творческую способность он ставил в зависимость от определенных состояний кишок и желудка; и нагородил еще много всякой невообразимой чепухи. К примеру, он совершенно серьезно утверждал, будто бы каждая мысль рождается от совокупления двух крошечных волокон человеческого мозга. Мне стало понятно, как замучил профессор всем этим вздором бедного Бертольда, который в припадках отчаянной иронии отрицал благотворную силу высшего начала; профессор словно острым ножом бередил его кровоточащие раны.
Вечером профессор наконец вручил мне несколько рукописных листов со словами:
― Вот, милый энтузиаст! Нате вам студенческую писанину. Слог недурен, однако автор по своей прихоти вводил безо всякого предуведомления слова самого художника в первом лице, не считаясь с принятыми правилами. Впрочем, поскольку по должности моей я полномочен распоряжаться этой рукописью, то дарю ее вам, заведомо зная, что вы не писатель. Автор «Фантазий в манере Калло», конечно, перекроил бы ее в своей несуразной манере и тиснул бы в печать; ну, да ведь с вашей-то стороны ничего такого можно не опасаться.
Профессор Алоизий Вальтер не знал, что в самом деле видит перед собой путешествующего энтузиаста, хотя, наверно, мог бы догадаться; и таким образом, благосклонный читатель, я предлагаю тебе составленную студентом иезуитской коллегии краткую повесть о художнике Бертольде. Отсюда вполне разъяснится то странное впечатление, которое он произвел при нашей встрече, а ты ― о читатель мой! ― узнаешь, как прихотливая игра судьбы порой ввергает нас в пагубные заблуждения!
«Не тревожьтесь и отпустите вашего сына в Италию! Он и сейчас уже дельный художник; живя в Д., он может штудировать превосходные и разнообразные оригиналы, которых у нас здесь достаточно. И все-таки Бертольду нельзя тут оставаться. Под солнечным небом, на родине искусства он узнает жизнь вольного художника, там его работа получит живое направление, и он обретет свою идею. Одно копирование ничего ему больше не даст. Для молодого растения необходимо солнце, тогда оно тронется в рост, расцветет и принесет плоды. У вашего сына душа истинного художника, поэтому вам не о чем беспокоиться!» ― так говорил старый художник Штефан Биркнер родителям Бертольда. Те наскребли столько средств, сколько могли уделить из своего небольшого достатка, и снарядили юношу в дальнюю дорогу. Так исполнилось заветное желание Бертольда попасть в Италию.
«Когда Биркнер сообщил мне о решении моих родителей, я даже подпрыгнул от радости и восторга. Последние дни перед отъездом я жил точно во сне. Когда я бывал в галерее, то кисть у меня валилась из рук. К инспектору, ко всем художникам, которые уже побывали в Италии, я без конца приставал с расспросами об этой стране, где процветает искусство. Наконец-то настал день и час моего отъезда. Горестным было мое расставание с родителями, их терзало мрачное предчувствие, что нам уже не суждено более встретиться, и они не хотели меня отпускать. Даже отец мой, человек по натуре решительный и твердый, с трудом сохранял спокойствие.
― Ты увидишь Италию! Италию! ― восклицали мои товарищи-художники. При этих словах во мне сызнова вспыхнуло прежнее желание, которое еще сильней разгорелось под влиянием глубокой печали: я повернулся и быстро пошел прочь. Мне казалось, что, перешагнув за порог отчего дома, я вступаю на стезю искусства».
Получив неплохую подготовку во всех родах живописи, Бертольд главным образом посвящал свое время пейзажу, он работал усердно и с увлечением. Он считал, что в Риме найдет богатую пищу для этих занятий, на деле же все оказалось иначе. Он попал в такой кружок художников и ценителей искусства, в котором ему непрестанно внушали, будто бы лишь исторический живописец стоит на недосягаемой для остальных высоте, все прочее ― дело второстепенное. Ему советовали, коли он хочет достигнуть чего-то выдающегося, лучше уж сразу отказаться от своего нынешнего занятия и обратиться к более высокой цели. Эти советы и знакомство с величественными ватиканскими фресками Рафаэля, которые произвели на Бертольда необыкновенно сильное впечатление, вместе так повлияли на него, что он и впрямь забросил пейзажи. Он стал срисовывать фрески Рафаэля, копировал маслом картины других знаменитых художников, и при его навыке все у него получалось недурно и даже вполне прилично, однако же он слишком хорошо сознавал, что все похвалы художников и знатоков говорились ему только в утешение, чтобы ободрить новичка. Да он и сам понимал, что в его рисунках и копиях совершенно отсутствует та жизнь, которая была в оригинале. Божественные идеи Рафаэля и Корреджо вдохновляли его, как ему казалось, на самостоятельное творчество; но сколько он ни пытался удержать эти образы в своем воображении, они все равно расплывались точно в тумане; он начинал рисовать по памяти, но, как всегда бывает при смутном и непродуманном замысле, у него выходило что-то лишенное даже проблеска значения. От этих напрасных стараний и попыток в его душу закралось унылое раздражение, он начал чуждаться своих друзей, в одиночестве бродил по окрестностям Рима и, таясь ото всех, пробовал писать пейзажи красками и карандашом. Но и пейзажи не удавались ему теперь так, как бывало прежде, и Бертольд впервые усомнился в истинности своего призвания. Казалось, рушились все его лучшие надежды.
«Ах, досточтимый друг мой и учитель! ― писал Бертольд Биркнеру. ― Вы ожидали от меня великих свершений, и вот, очутившись здесь, где все должно было послужить для моего окончательного просветления, я вдруг понял ― то, что ты называл когда-то гениальностью, на самом деле было разве что талантом, поверхностной сноровкой, присущей руке. Скажи моим родителям, что скоро я вернусь домой и буду учиться какому-нибудь ремеслу, которое обеспечит мне пропитание и т. д.».
На это Биркнер ему отвечал:
«О, если бы я мог быть сейчас рядом с тобою, сынок, чтобы помочь тебе в твоем унынии! Уж поверь мне, что как раз твои сомнения говорят в твою пользу и ты ― художник по призванию. Только безнадежный глупец может рассчитывать, будто непоколебимая уверенность в собственных силах должна у него оставаться всю жизнь, так думать ― значит обманывать себя, ибо у такого человека исчезнут все стремления, поскольку он будет лишен важнейшей побудительной причины ― сознания своего несовершенства. Наберись терпения! Скоро силы к тебе вернутся, и, не смущаемый советами и суждениями приятелей, которые, верно, и понять-то тебя не могут, ты снова спокойно пойдешь своим путем, который предназначен тебе по самой сути твоей природы. Оставаться ли тебе пейзажистом или перейти к исторической живописи ― это ты сможешь решить тогда сам, забыв и помышлять о враждебном разделении различных ветвей единого древа искусства».
Случилось так, что Бертольд получил утешительное послание своего старого друга и учителя тогда, когда в Риме гремело имя Филиппа Гаккерта. Несколько выставленных им вещей своею гармоничностью и ясностью укрепили славу этого художника, и даже исторические живописцы признали, что простое подражание природе тоже таит в себе великие возможности для создания превосходных произведений. Бертольд вздохнул с облегчением: больше ему не приходилось слушать насмешек над его любимым искусством; он увидел человека, который, посвятив себя этому жанру, добился признания и всеобщего уважения; словно искра, запала в душу Бертольда мысль поехать в Неаполь и поступить в ученики к Гаккерту. Ликуя, он сообщил Биркнеру и своим родителям, что наконец-то после долгих сомнений вышел на верную стезю и вскоре надеется стать мастером в своем деле. Благодушный немец Гаккерт с удовольствием принял к себе немецкого юношу, и тот с воодушевлением пустился по стопам своего наставника. Скоро Бертольд наловчился в полном соответствии с натурой изображать всевозможные разновидности деревьев и кустарников; достиг он также больших успехов по части туманной легкой дымки, которая отличает картины Гаккерта. Это снискало ему множество похвал, но, как ни странно, порою ему все-таки казалось, будто его пейзажам, впрочем, как и пейзажам его учителя, чего-то недостает; что это было, Бертольд и сам не мог бы сказать, хотя явственно ощущал его присутствие в картинах Клода Лоррена и даже в суровых и пустынных ландшафтах Сальватора Розы. В душе у него зашевелились сомнения относительно его наставника: особенно раздражало Бертольда, как Гаккерт со всевозможным тщанием выписывал битую дичь, которую ему посылал король. Но скоро юноша совладал с этими, как ему казалось, кощунственными мыслями; с тех пор он по-прежнему продолжал ревностно трудиться с немецкой старательностью, смиренно следуя во всем образцам своего учителя, и спустя немного времени почти сравнялся с ним. И вот однажды Бертольду по настоянию Гаккерта пришлось отправить на выставку свой пейзаж, целиком писанный с натуры; выставка почти сплошь состояла из пейзажей и натюрмортов Гаккерта. Все художники и знатоки хвалили юношу и восхищались правильностью и тщательностью его работы. И лишь один странно одетый пожилой посетитель ни слова не сказал о картинах самого Гаккерта и только многозначительно усмехался, когда шумные славословия толпы становились совсем уж безудержными и переходили всякую меру. Бертольд хорошо заметил, что, очутившись перед его пейзажем, незнакомец с выражением глубочайшего сожаления покачал головой и собрался было идти дальше. Бертольд, слыша со всех сторон одни похвалы, уже несколько зачванился и невольно почувствовал теперь досаду на этого незнакомца. Он первый к нему подошел и в несколько резковатом тоне спросил:
― Вы, сударь, как будто остались недовольны этой картиной, хотя достойные художники и знатоки находят, что она вовсе не дурна. Так уж будьте любезны, объясните мне в чем дело, чтобы я, воспользовавшись вашим добрым советом, мог что-то переделать и поправить.
Незнакомец проницательно посмотрел на Бертольда и очень серьезно сказал:
― Из тебя, юноша, могло бы получиться кое-что стоящее.
Под взглядом незнакомца и от его слов Бертольд испугался до глубины души; у него сразу пропала всякая решимость, он больше ничего не сказал и даже не пошел следом за незнакомцем, когда тот медленно вышел из зала. Вскоре туда пришел сам Гаккерт, и Бертольд поспешил рассказать ему обо всем, что произошло между ним и этим непонятным человеком.
― Ах! ― воскликнул со смехом Гаккерт. ― Не принимай этого слишком к сердцу! Ведь это был наш известный ворчун. Старичку ничем не угодишь, он всегда только бранится; я столкнулся с ним при входе. Он родом грек с острова Мальта, человек богатый и со странностями; кстати, и сам ― неплохой художник; однако в его вещах всегда бывает какой-то фантастический оттенок; причина, верно, кроется в том, что он придерживается каких-то диких и нелепых мнений насчет задач изобразительного искусства и выдумал себе особенную систему, которая ни к черту не годится. Я отлично знаю, что меня он ни в грош не ставит, но охотно прощаю его, поскольку он все равно не может отнять у меня заслуженной славы.
Сначала у Бертольда было такое чувство, точно мальтиец затронул в его душе какое-то болезненное место, но, подобно целительному прикосновению хирурга, который исследует рану, это причинило ему лишь благотворное страдание; однако вскоре юноша выбросил все из головы и продолжал себе работать по-старому.
Удача с первой большой картиной, которая вызвала всеобщее восхищение, придала ему смелости, и он принялся за другую, в этом же роде. Гаккерт сам выбрал ему один из красивейших видов в роскошных окрестностях Неаполя, и если первая картина Бертольда изображала закат, то для второго пейзажа он выбрал утреннее освещение. Ему предстояло написать множество непривычных для северянина деревьев, множество виноградников, а главным образом напустить побольше дымки и тумана.
Как-то раз, усевшись на огромном плоском камне, откуда открывался вид, выбранный для него Гаккертом, Бертольд заканчивал на натуре эскиз своей будущей картины.
― И впрямь, похоже схвачено! ― услышал он вдруг рядом с собою.
Бертольд обернулся, его рисунок разглядывал мальтиец; с саркастической усмешкой старик добавил:
― Вы только об одном забыли, мой юный друг! Посмотрите-ка, вон там виднеется увитая зеленью стена далекого виноградника; калитка приоткрыта. Вам непременно надо и это вставить, да как следует положить тени ― приоткрытая калитка даст вам замечательный эффект!
― Вы, сударь, насмехаетесь, ― возразил ему Бертольд. ― И совершенно напрасно! Эти случайные детали не так уж ничтожны, как вам кажется, потому-то мой учитель и любит вставлять их к месту. Вспомните-ка хотя бы про белое полотенце на пейзаже одного старинного голландского художника, без него пропало бы все впечатление. Но вы, очевидно, вообще не любитель пейзажной живописи, зато я предан ей душой и телом и потому прошу вас: оставьте меня в покое и не мешайте мне работать.
― Ты очень заблуждаешься, юноша, ― ответствовал мальтиец. ― Еще раз повторяю ― из тебя могло бы получиться кое-что стоящее, ибо в твоих работах заметно неустанное стремление к высшей цели, но ты никогда ее не достигнешь, ибо путь, которым ты идешь, туда не приводит. Запомни же как следует, что я тебе скажу! Быть может, я сумею разжечь в твоей душе то пламя, которое ты сам, неразумный, старательно замуровываешь, пускай оно ярко запылает и принесет тебе озарение! Тогда ты изведаешь истинное вдохновение, которое дремлет в твоей душе. Ужели ты меня считаешь за глупца, который ставит пейзаж ниже исторической живописи и не понимает, что любой художник ― и пейзажист и исторический живописец ― должен стремиться к одной общей цели? Осмысленно показать природу, постигнув в ней то высшее начало, которое во всех существах пробуждает пламенное стремление к высшей жизни, ― вот священная цель всякого искусства. Разве может привести к этой цели простое списывание натуры? Какими убогими, корявыми и неуклюжими кажутся срисованные письмена, если переписчик не знал языка, на котором написана рукопись, и, трудясь над замысловатыми завитушками, не постигал значения начертанных перед ним знаков. Вот так и пейзажи твоего наставника суть точная копия оригинала, написанного на непонятном языке. Для посвященного внятен язык природы, повсюду ловит он чудный звук ее речей: и куст, и дерево, и полевой цветок, и холм, и воды ― все подает ему таинственную весть, священный смысл которой он постигает сердцем; и тогда, словно дух Божий, нисходит на него дар зримо выражать это постижение в своих творениях. Разве тебя, юноша, не охватывало какое-то удивительное чувство, когда ты созерцал пейзажи старых мастеров? Наверно, ты и не вспоминал тогда о том, что листве этих лип, этим пиниям и платанам можно было придать большее сходство с натурой, что дымка на заднем плане могла бы быть воздушнее, вода ― прозрачнее; тот дух, которым была пронизана вся картина, переносил тебя в иной, высший мир, перед тобою словно бы возникал его отблеск. Поэтому тщательно и прилежно изучай природу также и с механической стороны, чтобы овладеть практическими навыками ее изображения, однако не подменяй практическим навыком самое искусство. Когда ты проникнешь в сокровенный смысл природы, в душе у тебя сами родятся ее образы во всем их блистательном великолепии.
Мальтиец умолк; но, видя, как потрясен Бертольд, который стоял понурясь, не в силах вымолвить ни слова, старик, прежде чем уйти, сказал ему на прощание следующее:
― Я вовсе не хотел, чтобы ты усомнился в своем призвании, я знаю, что в тебе дремлет великий дух, и я воззвал к нему могучим словом, дабы он пробудился и вольно воспарил бы на своих крыльях. Так прощай же! Желаю тебе всего наилучшего!
Бертольду показалось, будто мальтиец только выразил словами то, что у него самого давно накипело на душе; в нем заговорил внутренний голос: «Нет! Все мои прежние стремления, все мои старания ― это лишь опасливое, неверное блуждание слепца. Долой! Долой все, что до сих пор меня ослепляло!»
Он больше не в состоянии был сделать ни одного штриха в своем рисунке. Он покинул своего учителя, метался в ужасной тоске и с громкою мольбою призывал к себе то высшее знание, о котором говорил ему мальтиец.
«Лишь в сладостных мечтах я изведал счастье... блаженство! В мечтах сбывалось все, о чем говорил мальтиец. Я лежал среди зеленых кустов, овеваемый волшебными дуновениями благоуханного ветерка, и голос природы внятно раздавался в мелодическом дыхании лесной чащи. Вдруг ― чу! «Слушай, слушай, посвященный! Внимай первозданным звукам природы, как они претворяются в сущность, доступную для твоего человеческого восприятия». Мой слух все ясней и ясней различал звучание аккордов, и вот к моим чувствам словно бы добавилось еще одно новое, и я с изумительной отчетливостью начал воспринимать все, что раньше казалось мне непостижимым. Огненными письменами я чертил в пространстве как бы странные иероглифы, запечатлевая в них таинственное откровение; однако и дерево, и куст, и полевой цветок, и холм, и воды ― дышало жизнью, и звенело, и пело, сливаясь в сладостном хоре».
Но, как уже сказано, бедному Бертольду только в мечтах доводилось испытать такое блаженство; сила его была сломлена, а в душе царило еще худшее смятение, чем тогда, когда он жил в Риме и надумал податься в исторические живописцы. Пойдет ли он теперь погулять в зеленый лес, на него нападал там необъяснимый ужас; выйдет ли на приволье и поглядит на дальние горы, как вдруг словно холодные когти вцеплялись ему в сердце, так что у него перехватывало дыхание и он терзался смертельным страхом. Вся природа, которая прежде встречала его ласковой улыбкой, теперь стала для него грозным чудищем, и вместо приветливых голосов, которые он слышал раньше в шорохе вечернего ветерка, в журчании ручья, в шуме листьев, теперь все возвещало ему погибель и уничтожение. Наконец, утешась мало-помалу сладостными мечтами, он несколько успокоился, но с тех пор уже избегал одиночества на лоне природы, и так случилось, что он подружился с компанией веселых немецких художников и часто стал совершать вместе с ними прогулки по красивым местам в окрестностях Неаполя.
Один из них, назовем его Флорентином, не столько был занят глубоким изучением своего искусства, сколько наслаждался теми радостями, которые можно найти в жизни, об этом свидетельствовал и его альбом: пляски крестьянских девушек, процессии, сельские празднества ― все это с непринужденной естественностью ложилось на его листки уверенными и быстрыми набросками. Все эти сценки, оставаясь небрежными эскизами, полны были у Флорентина жизни и движения. Но притом душа Флорентина отнюдь не была невосприимчива к более высоким предметам; напротив, мало кому из современных художников удавалось так глубоко проникаться благочестивым духом старых мастеров. Себе в альбом он срисовал однажды беглыми штрихами фрески одной старинной монастырской церкви, которую вскоре должны были снести. Они изображали житие великомученицы Екатерины. Эти легкие наброски отличались такой проникновенностью, что ничего более прекрасного и чистого невозможно был себе представить; на Бертольда они произвели удивительное впечатление. Мрачная пустыня, которая его окружала, озарилась вдруг блеском молний, и с тех пор он снисходительнее стал относиться к веселому нраву Флорентина; поскольку же Флорентин, живо чувствуя всю прелесть природы, больше всего любил в ней человека, то и Бертольд принял человеческое начало за основу, которой ему надо держаться, спасаясь от пустоты бесформенного хаоса. Пока Флорентин, облюбовавший какую-то случайную группу людей, наскоро писал этюд, Бертольд раскрыл его альбом и стал срисовывать оттуда чудный образ Екатерины; это более или менее ему удалось, но, как и тогда в Риме, безуспешными оказались его попытки вдохнуть в свои фигуры жизнь, которая ощущалась в оригинале. Он посетовал на это Флорентину, которого, не в пример себе, считал истинно гениальным художником, и тут же пересказал своему товарищу то, что говорил об искусстве мальтиец.
― А ведь так и есть, братец ты мой Бертольд! Мальтиец-то прав. И я ставлю настоящий пейзаж в один ряд с глубокими по мысли картинами из священной истории, которые написаны старыми мастерами. По моему разумению, следует сперва утвердиться в изображении более понятной для нас органической природы; умея это, скорее начнешь различать свет и в ночном ее царстве. Я тебе советую, Бертольд, приучить себя к такому изображению человеческих фигур, чтобы в них толково выражались твои мысли; может быть, тогда для тебя прояснится и все остальное.
Бертольд послушался дружеского совета и поступил, как ему было велено, и вот ему уже стало казаться, что тучи, омрачавшие его жизнь, понемногу начали рассеиваться.
«Я старался изобразить в иероглифах то, что смутно угадывала моя душа; но черты этих иероглифов складывались из человеческих фигур, которые, сплетаясь в странном хороводе, кружили возле какого-то источника света. Этим источником света должен был стать дивный образ, какого еще не рождала фантазия художника; но тщетно силился я схватить черты этого видения, которое во сне являлось мне, излучая небесный свет. Всякая попытка изобразить его оканчивалась позорной неудачей, я весь сгорал в пламенной тоске».
Флорентин заметил почти болезненное возбуждение своего друга и утешил его как умел. Он часто повторял Бертольду, что это, мол, переломный момент перед творческим озарением; но Бертольд ходил понурый, точно в бреду, и все его попытки оставались бессильными ребяческими потугами.
Невдалеке от Неаполя находилась вилла одного герцога, оттуда открывался прекрасный вид на Везувий и на море, поэтому ее ворота были гостеприимно открыты для приезжих художников, в особенности для пейзажистов. Бертольд там часто работал в парке, а еще того чаще, уединившись в гроте, предавался своим фантастическим мечтам. Однажды он спрятался в гроте, мучимый жгучей тоской, которая истерзала ему сердце, и плакал горючими слезами о том, чтобы звезда с неба осветила его мрачную стезю, как вдруг в кустах послышался шорох и перед гротом, словно небесное видение, возникла некая чудная жена.
«Яркий солнечный свет заливал ее ангельский лик, она обратила на меня неописуемый взор. Сама святая Екатерина! ― Нет, что Екатерина! ― Мой идеал! ― То был мой идеал! ― В безумном восторге я повергся перед нею на колени, и тут видение с приветливой улыбкой словно растаяло в воздухе! Итак, услышана моя горячая молитва!»
В грот вошел Флорентин, его удивил вид Бертольда, который с восторженным выражением кинулся ему на грудь. Из глаз Бертольда хлынули слезы:
― Друг мой! Друг мой! Какое счастье! Какое блаженство! Она нашлась, нашлась!
И быстрым шагом Бертольд отправился к себе в мастерскую, натянул холст и начал писать. Словно в могучем порыве божественного вдохновения, он волшебной кистью воссоздал представшее ему видение неземной красоты.
С этого часа в нем совершился полный переворот После тоски, которая прежде иссушала его душу, он воспрянул и сделался бодр и весел. Не жалея сил, он прилежно занялся изучением старых мастеров. Выполнив несколько замечательно удачных копий, он принялся за самостоятельные картины и удивил всех знатоков. О пейзажах больше нечего было и думать, сам Гаккерт признал, что юноша наконец-то обрел свое истинное призвание. В конце концов Бертольду поручили писать алтарные образы для нескольких церквей. В большинстве случаев он выбирал для них радостные сюжеты из христианских легенд, но на всех его картинах сиял дивный образ его идеальной мечты. Многие находили, что лицо и фигура поразительно напоминают принцессу Анджелу Т., сказали об этом и самому молодому художнику, а иные хитрецы посмеивались, намекая, что, дескать, огненные очи прекрасной донны глубоко ранили молодого художника в самое сердце. Бертольд страшно сердился на вздорных болтунов за то, что им, словно нарочно, хочется стащить все небесное в земную обыденность.
― Ужели вы думаете, ― вопрошал он, ― будто такое создание может существовать на нашей земле? Мне было чудное видение, в котором мне открылся высший идеал; этот миг посвятил меня в таинства искусства.
Отныне Бертольд жил счастливой и радостной жизнью вплоть до победоносного итальянского похода Бонапарта, когда французская армия подступила к границам Неаполитанского королевства и здесь разразилась революция, которая нанесла ужасный сокрушительный удар по всякому спокойному благополучию. Король с королевой покинули Неаполь, был созван парламент. Наместник заключил позорное перемирие с французским генералом, и вскоре прибыли французские комиссары, чтобы получить назначенную для выплаты сумму. Наместник сбежал, спасаясь от народной ярости. Народ же решил, что и наместник и парламент ― словом, все, кто должен был защищать город от вражеского нашествия, бросили жителей на произвол судьбы. Тут рухнули все устои, на которых зиждется общество; ринувшись в анархическое буйство, чернь попрала порядок и законность и с кличем «Viva la santa fede!» [1] безумные орды понеслись по улицам, грабя и поджигая дома знати, которая, как считали эти толпы, предала их на милость врага. Напрасно Молитерно и Рокко Романо, эти любимцы народа, избранные им в предводители, пытались обуздать безумие. Уже были убиты герцоги делла Торре и Клементий Филомарино, но чернь все еще не утолила своей кровожадности.
Бертольд полуодетым едва успел выскочить из горящего дома, как тут же на его пути показалась толпа, которая, сверкая ножами, с горящими факелами, мчалась ко дворцу герцога Т. Юношу приняли за одного из своих и увлекли за собой.
«Viva la santa fede!» ― вопили безумные, и спустя несколько минут герцог, его слуги и все, кто оказывал сопротивление, были убиты, а самый дворец заполыхал, со всех сторон охваченный пожаром.
Бег толпы увлекал Бертольда все дальше и дальше в глубь дворца. Он быстро пробежал раскрытые нараспашку комнаты; ему снова грозила опасность погибнуть от пожара, и он тщетно искал выхода.
Вдруг впереди послышался испуганный вопль. Бертольд бегом кидается в залу. Перед ним женщина бьется в руках оборванца, но тот крепко держит свою добычу и уже приготовился пронзить ей грудь ножом. Это ― принцесса! Идеал Бертольда! Не помня себя от ужаса, Бертольд ринулся к ним, схватил оборванца за горло, повалил, его же ножом перерезал ему глотку, принцессу ― на руки, бегом промчался через пылающие залы, выскочил на лестницу, сбежал по ступенькам и ― вон из дома, на улицу, наперерез бурлящей толпе! И все это было сделано в одно мгновение!
Никто не остановил бегущего Бертольда; такого ― почерневшего от копоти, с окровавленным ножом в руке, в растерзанном платье, его принимали за убийцу и грабителя, который уносит с собой свою законную добычу. Где-то среди заброшенных закоулков города, под сенью ветхих стен, куда он прибежал, спасаясь от опасности, словно под влиянием какого-то инстинкта, Бертольд рухнул наземь и потерял сознание. Когда он очнулся, то увидал принцессу; склонясь над ним, она студеной водой смачивала ему лоб.
― О, слава Богу! ― пролепетала она чудным, нежным голосом, ― Благодарение святым, ты очнулся, мой спаситель! Жизнь моя!
Бертольд приподнялся, он был точно во сне, оцепенелым взглядом он воззрился на принцессу. Да, то была она! Прекрасное небесное видение, которое зажгло божественную искру в его душе!
― Возможно ли? Правда ли это? Неужели я еще жив? ― воскликнул он.
― Ты жив, ― отвечала ему принцесса, ― и отныне живешь для меня. То, о чем ты не смел даже мечтать, сбылось каким-то чудом. О, я знаю, кто ты! Ты ― немецкий художник Бертольд; ведь ты полюбил меня и прославил в своих лучших картинах. Разве могла бы я стать твоею? Но вот я ― твоя на веки вечные! Давай убежим! Ах, убежим с тобой!
Странное чувство пронзило вдруг Бертольда при этих словах принцессы: словно внезапная боль развеяла его сладкие сны. Но когда обхватили его белоснежные руки прелестной красавицы и он сам, очутившись в ее объятиях, прижал ее к своей груди, он вдруг весь затрепетал от неведомого сладостного чувства и, ощутив себя наверху земного блаженства, в безумном восторге воскликнул:
― О нет! Не обманчивую мечту ― жену мою я держу в своих объятиях и никогда больше не выпущу! Она утолит во мне жгучую иссушающую тоску!
Бежать из города не было никакой возможности, французское войско стояло у ворот, и народ три дня держал оборону, не давая врагу вступить в город, несмотря на то что не имел ни должного вооружения, ни какого бы то ни было руководства. В конце концов Бертольд с Анджелой перебрались из своего убежища в другое, потом и третье и таким образом выбрались на волю.
Охваченная пылкой любовью к своему спасителю, Анджела не захотела оставаться в Италии, ради Бертольда она была согласна, чтобы родня считала ее умершей. У Анджелы было с собой алмазное ожерелье и драгоценные перстни, и в Риме, куда после долгих странствий попали оба путника, они на эти драгоценности смогли купить себе все необходимое; таким образом они благополучно добрались до Южной Германии в город М. Бертольд хотел там поселиться и зарабатывать на жизнь своим искусством.
Не правда ли, это было такое небывалое счастье, о котором Бертольд не мог и мечтать? Подумать только! Сама Анджела, это чудное небесное создание ― красавица, идеальная мечта художника, вдруг стала его женой, вопреки всем преградам, которые жизненные обстоятельства воздвигли между ним и его возлюбленной! Бертольд и впрямь никак не мог поверить своему счастью и наслаждался этим блаженством, пока внутренний голос не стал все громче и громче напоминать ему о том, что пора бы уже ему вспомнить о своем искусстве. Он решил, что большая картина, которую он должен был написать для церкви Девы Марии, создаст ему известность в М. Замысел картины был прост. Бертольд хотел изобразить Марию и Елизавету на лужайке среди чудного сада вместе с играющими в траве младенцами Христом и Иоанном; однако, как ни тщился он увидеть духовным зрением идеальный замысел будущей картины, образы ее представлялись ему расплывчато, как во время пережитого им злосчастного кризиса, и вместо царицы небесной перед его мысленным взором вставала ― увы! ― земная женщина, жена его Анджела, в каком-то чудовищно искаженном облике. Наперекор тем таинственным страшным силам, которые хотели подчинить его своей власти, он все-таки приготовил краски, начал писать; но воля его была сломлена, и все его старания, как и тогда, оставались беспомощными потугами неразумного младенца. Все у него выходило безжизненным и застылым, и даже Анджела ― Анджела! Его идеал! Она сама ему позировала, но сколько он ни пытался написать ее портрет, ничего не получалось: с полотна на него таращилась стеклянными глазами мертвая восковая кукла.
И тут в душу Бертольда все сильней стало закрадываться безнадежное уныние, уничтожившее в конце концов всю его жизнерадостность. Бертольду расхотелось работать, да он уже и не мог; и постепенно он впал в нищету, которая тем более угнетала его, что Анджела ни разу не проронила ни единой жалобы.
«Душу мне разъедали нескончаемые мучения от несбывшихся надежд, от непрестанного непосильного напряжения, которое всякий раз оказывалось тщетным, я вскоре пришел в состояние, близкое к настоящему помешательству. У нас родился сын, и это довершило мое уничижение; долго копившаяся обида вырвалась наружу яростным озлоблением. Она, она одна ― виновница моего несчастья! Нет, она ― не воплощение моего идеала! Мне на погибель она обманом приняла обличье того небесного создания! В бешеном отчаянии я проклял ее и невинного младенца. Я обоим желал смерти, чтобы избавиться от невыносимой муки, которая точно калеными ножами бередила мне душу. И вот во мне зародилась адская мысль! Напрасно читал я на покрывшемся смертельной бледностью лице Анджелы, в ее слезах отражение моего безумного святотатственного умысла. «Ты сломала мне жизнь, окаянная баба!» ― заорал я на нее и отпихнул от себя ногой, когда она без сил упала передо мной наземь, обнимая мои колени».
Жестокое и безумное обращение Бертольда с женой и ребенком привлекло к себе внимание соседей, они донесли об этом в полицию. Его хотели арестовать, но, когда полиция пришла в дом, оказалось, что и он, и жена с ребенком куда-то бесследно исчезли.
Вскоре Бертольд объявился в Н. в Верхней Силезии; к тому времени он как-то уже избавился от жены и ребенка и бодро принялся писать свою картину, которая никак не получалась у него в М. Однако он успел закончить только Марию и младенца Христа с Иоанном, как вдруг с ним приключилась ужасная болезнь, которая чуть было не свела его в могилу. Впрочем, он и сам желал тогда умереть. Люди, которые за ним ухаживали, понемногу распродали все его принадлежности, не исключая и неоконченной картины, и, едва оправившись после болезни, он покинул эти места жалким и хворым нищим.
Впоследствии он кое-как добывал себе пропитание, пробавляясь настенною росписью, когда ему перепадал какой-нибудь заказ.
― История Бертольда заключает в себе нечто ужасное и зловещее, ― сказал я профессору. ― Я считаю его, хоть он сам прямо этого и не говорит, за отпетого преступника, убийцу своей ни в чем не повинной жены и родного сына.
― Он глупец и сумасшедший, ― отвечал на это профессор. ― И я не верю, чтобы у него хватило духу на такой поступок. На этот счет он никогда не высказывается с определенностью, и тут все остается под вопросом; может статься, он только воображает себе, будто повинен в смерти жены и сына; сейчас он опять малюет мрамор; нынче ночью он будет заканчивать алтарь, тогда он будет в хорошем настроении, и, может быть, вам удастся выведать у него побольше об этом щекотливом вопросе.
Должен сознаться, что после чтения записок, из которых я узнал историю Бертольда, у меня мороз по коже прошел при одной мысли, как я среди ночи останусь наедине с этим человеком в пустой церкви. Мне почудилось вдруг, что, несмотря на все его добродушие и сердечную простоту, в нем все-таки проглядывает какая-то чертовщина, и потому я решил лучше не откладывать дела, а переведаться с ним при свете ясного дня.
Я застал Бертольда, когда он, стоя на помосте, кропил краской стену, чтобы получились мраморные прожилки; казалось, он был погружен в угрюмую задумчивость. Взобравшись к нему наверх, я молча стал подавать ему горшочки с красками. Он обернулся и с удивлением посмотрел на меня.
― Я ― ваш подручный, ― сказал я тихо.
Он невольно улыбнулся.
Тогда я нарочно заговорил об его жизни, чтобы показать ему, что я все уже знаю, а он, по-моему, решил, что сам тогда ночью обо всем мне рассказал. Потихоньку да полегоньку я подводил дело к той ужасной катастрофе, а потом вдруг прямо и брякнул:
― Так, стало быть, вы в припадке безумного умопомрачения убили свою жену и ребенка?
Тут он выронил горшочек с краской и кисть и, вперив в меня ужасный взор, закричал, потрясая воздетыми руками:
― Чисты эти руки и не запятнаны кровью моей жены и сына! Еще одно такое слово, и я вместе с вами брошусь с лесов и размозжу обе наши головы о каменный пол церкви!
Момент был такой, что я действительно очутился в довольно-таки странном положении, и я решил ввернуть наудачу что-нибудь совсем неожиданное.
― Ах, взгляните-ка, милый Бертольд, ― произнес я как можно спокойней и хладнокровней, ― какие безобразные подтеки получаются от этой темно-желтой краски.
Он глянул и начал замазывать пятно, а я тем временем потихоньку спустился с лесов, вышел вон из церкви и отправился к профессору, заранее приготовясь, что он будет потешаться над тем, как мне поделом досталось за мое любопытство.
Коляску мою уже починили, и я покинул Г., взяв на прощание с профессора Вальтера слово, что он мне сразу напишет обо всем, что бы ни приключилось с Бертольдом.
Прошло, кажется, около полугода, как вдруг я и в самом деле получил от профессора письмо, в котором он пространно изливался насчет удовольствия, полученного от нашего знакомства. Вот что он написал о Бертольде:
«Скоро после Вашего отъезда с нашим чудаком художником стали происходить удивительные вещи. Он вдруг очень повеселел и превосходно дописал свою незаконченную картину, и все дивятся на нее еще пуще прежнего. Потом он вдруг исчез, и поскольку он ровным счетом ничего с собою не взял, а спустя несколько дней на берегу реки О. нашлась его шляпа вместе с дорожным посохом, то мы все теперь думаем, что он, верно, сам лишил себя жизни».
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |