"Скоморохи" - читать интересную книгу автора (Аристов Владимир Павлович)
Глава IV
Великий князь Василий угасал.
Он не прожил еще и половины века, возраста, когда по-настоящему только начиналась старость, но силы быстро оставляли его одряхлевшее тело, как оставляет вода прохудившийся сосуд.
Шла веселая и шумная масленая неделя, последняя перед великим постом, но в великокняжеских хоромах было тихо. Князь Василий сидел в крестовой палате, опираясь на посох и обратив пустые веки на увешанную образами стену. Запах горелого масла от неугасимой лампады и ладана вызывали у Василия тоску и мысль о близкой смерти. Думы великого князя уходили далеко в прошлое и, как у всех слепых людей, то, что было много лет назад, вставало в памяти живо, точно случилось вчера.
Василию было десять лет, когда умер его отец, князь Василий Дмитриевич, завещав сыну великое княжение. Еще холодное тело отца лежало на столе, когда пригнал обратно из Звенигорода отряженный туда боярин. Он привез известие, что родной дядя, князь Юрий, отказался признать племянника великим князем. Василий тогда от досады заплакал, а лица у бояр и митрополита стали озабоченными, потому что отказ князя Юрия означал междоусобие и войну.
Дядя оставил Звенигород, ушел в Галич и там собирал войско, чтобы идти на Москву отнимать у племянника великое княжение. Бояре послали к дяде митрополита Фотия. С великим трудом убедил Фотий князя Юрия не начинать с малолетним племянником междоусобной брани, страшил гневом господним и тем, что все московские люди готовы поднять щиты за Василия. Сговорились — быть так, как решит в орде великий хан. Однако ни дяде в Галиче, ни племяннику в Москве не хотелось тащиться в орду на ханский суд. Кое-как протянули пять лет. В орду все же пришлось ехать, когда дядя опять начал собирать войско и грозить племяннику войной. Василию было тогда пятнадцать лет. Казалось, лучше было умереть, чем ехать в орду, чтобы на коленях перед ханом вымаливать великое княжение. К тому же жила еще у всех память о великом князе Юрии Даниловиче, убитом в орде тверским князем Димитрием.
Бояре утешали Василия, напоминали, что отца его в орде встречали с великой честью. Летом потащился Василий в орду. С ним ехал боярин Иван Всеволожский, хорошо знавший все ордынские повадки. Перед отъездом отобрали в подарок хану самых дорогих соболей. Дело в орде сладилось гораздо лучше, чем думал и Василий и бояре. Велеречивый и хитрый Иван Всеволожский подарками и лестью как паутиной опутал ордынских мурз. Всю зиму пришлось пробыть в орде, ожидая дядю, вызванного на суд ханом Мехметом.
Князь Юрий явился в орду вместе со своим доброхотом Тегинем. Но как ни старался Тегинь, по-дядиному не вышло. Подарки мурзам и ханским женам и хитрая речь льстивого боярина Ивана сделали свое дело. Хан Мехмет велел быть великим князем Василию.
Василий вспомнил багровое от стыда и гнева лицо дяди, когда по ордынскому обычаю хан велел Василию сесть на коня, а князю Юрию приказал в знак покорности великому князю вести коня под уздцы вокруг ханской ставки.
Однако и суд в орде не утишил, а еще более разжег вражду между дядей и племянником. Василию было уже семнадцать лет. Давно настала пора выбирать жену. Боярин Иван Всеволожский из кожи лез вон, чтобы породниться с великим князем. У боярина была дочь Анница, рябая и некрасивая девка. Ее он и прочил в жены великому князю.
Но Василий, посоветовавшись с боярами и матерью, выбрал в жены Марию, внучку знаменитого Владимира Андреевича Хороброго. Боярин Иван от злости едва не рехнулся тогда умом. «Моим тщанием в орде Василий на великокняжеский престол сел, не я — видать бы Василию великого княжения как ушей своих, а ныне меня князь бесчестит».
Боярин Иван Всеволожский, не сказавшись, уехал в Галич к князю Юрию. И в этом не было ничего плохого, потому что отъезжать от князя к князю было древним правом любого боярина. Но боярин Иван, переехав на службу к князю Юрию, стал теперь строить против Василия козни с такой же хитростью, как строил их недавно в орде против князя Юрия. Иван сделался у дяди приближенным боярином, и они вместе ломали головы, обдумывая: как отнять у Василия великое княжение.
Скоро после того как боярин Иван отъехал к князю Юрию, была свадьба. На свадьбу явились двоюродные братья, Василий Косой и Димитрий Шемяка, сыновья князя Юрия. Боярам и тот и другой намекали — приехали они помирить дядю с племянником. Свадебный пир задали такой, какого еще в Москве в великокняжеских хоромах не бывало. На пиру и случилось то, что поссорило Василия с двоюродными братьями. Пир был в полупире, гости уже не раз кричали «горько», заставляли жениха целовать невесту, когда приблизился к Василию боярин Константин, ростовский наместник, и стал шептать ему на ухо, кивая на край стола, где сидели Косой и Шемяка. Но Василий смотрел на княжну Марию, она опускала глаза, алый румянец полыхал на нежных щеках, и тогда-то, впервые, про себя назвал Василий суженую белой лебедушкой, и так звал потом Марию долго. Он не слышал, что говорил ему ростовский наместник, он с нетерпением ждал, когда поднимутся дружки и с поклоном попросят у посаженого отца и матери позволения вести молодых опочивать. Боярин Константин отошел, поняв, что молодому князю не до него.
Шум на том конце стола заставил Василия повернуть голову. Он увидел мать, княгиню Софью, и боярина Константина. Боярин крепко держал за плечи Косого, а княгиня силилась стащить с него кованного золота широкий пояс. Косой вырывался и лицо его от гнева и хмеля было багровым. Потом княгиня Софья, подняв над головой пояс, показывала гостям, а боярин Матвей Медведь, старик, скрюченный пополам годами, служивший еще Васильеву деду Димитрию, клялся, что это тот самый пояс, который тысяцкий Голубь украл у князя Димитрия и подменил его другим в день княжеской свадьбы. То же утверждали и другие бояре. Шемяка выхватил из ножен большой нож и готов был кинуться на Медведя, кто-то ударил его по руке, и нож упал, вонзившись острием в дубовый пол.
Косой и Шемяка ушли с пира, срамно лая Медведя и всех гостей и желая княгине Софье и Василию подавиться поясом. Василий тогда вовсе не думал о наследственной своей договоренности, он желал только одного — скорее остаться с Марией.
Косой и Шемяка покинули Москву на другой день. Кое-кто из бояр говорил, что теперь нельзя ничего доброго ждать от Юрьевых сыновей, и напрасно старая княгиня Софья обесчестила Косого. Лучше было бы поступиться дорогим поясом, неведомо каким путем попавшим к сыну князя Юрия, чем наживать таких врагов, как Косой и Шемяка.
Скоро пришла весть, что Шемяка и Косой идут со своими ратными людьми на Москву, а дядя Юрий уже стоит с большим полком в Переяславле.
Но Василий не думал тогда о войне. Утехи любви сделали его слабым. И сейчас, через тридцать лет, он думал о княжне Марии с нежностью, и чувствовал, как воспоминания о тех днях согревают охладевшую кровь.
Перепуганные бояре послали к князю Юрию хитроречивого Федора Лужу и дьяка Товаркова. Послы вернулись обратно с великим срамом. Ни дядя, ни его бояре и слышать не хотели о примирении и обзывали Василия щенком и молокососом. Пришлось, бросивши все — и Москву, и молодую жену — бежать в Кострому, а когда и там настиг его князь Юрий, надо было на коленях и слезах молить дядю переложить гнев на милость. А в сенях уже стоял любимый дядин конюший слуга Сила Мерин и, пробуя пальцем остроту тяжелого меча, ждал только дядиного знака, чтобы кликнуть подручных тащить Василия во двор. Не сносить бы тогда Василию головы, не заступись за него боярин Семен Морозов. Уговорил дядю боярин: «Что тебе, князь Юрий, в юнце неразумном? Погубишь его — чести и славы себе не найдешь, грех же на душу падет великий. Господь позволил тебе княжить на великом княжении в Москве, дай племяннику в удел Коломну».
Пока дядя, хмуря серые брови, решал, как быть с племянником, Василий не смел поднять головы. И когда услышал над собой хрипловатый голос дяди: «Быть по твоему, Семен», казалось, вся низкая горница и тусклые оконцы озарились сиянием. Василий поднялся, и дядя, пяля куда-то в сторону сердитые, как у хоря, глаза, приложился жесткой волосатой щекой к племянниковой щеке. Василий подумал тогда не о потерянной для него Москве, а о том, что скоро увидит опять свою белую лебедушку Марию.
Дядя оставил племяннику в удел Коломну и велел ехать туда немедленно. Вечером тайком к Василию пришли бояре и увещевали его не кручиниться: «Была бы голова на плечах цела, а великое княжение как за тобою было, так и будет».
Пересказали и вести — не только бояре и служилые и посадские, а и все московские люди стоят за него. Москва уже привыкла видеть на великом княжении после смерти великого князя старшего его сына. Так повелось еще со времен Ивана Калиты, так было при деде Димитрии, победителе Мамая. Это предупреждало усобицы, и московские люди хотели, чтобы так было и впредь.
Едва только Василий с боярами добрался до Коломны, как из Москвы потянулись с чадами, домочадцами и товарами купцы, за купцами хлынул и мелкий посадский люд. Москва опустела вмиг. В маленькой же Коломне от множества возов и людей не было где упасть яблоку. Благо время было летнее, московские люди жили кто в наскоро ставленном шалаше, кто просто коротал дни под открытым небом. Князь Юрий скрипел зубами, глядя со стен Кремля на пустую торговую площадь, на улочки мертвые, точно после небывалого мора, и корил боярина Морозова, присоветовавшего ему отпустить Василия в Коломну. Юрьевы сыновья, Косой и Шемяка, вечером удавили боярина Морозова в сенях.
В пустом городе долго княжить не будешь, пришлось дяде слать в Коломну к племяннику послов: «По милости моей отдаю тебе Москву, иди на великое княжение, княжи как прежде».
Тогда, возвращаясь в Москву в окружении ликующих бояр и множества московских людей, думал Василий, что все беды и невзгоды теперь кончились, они же только по-настоящему еще начинались. Было ему тогда девятнадцать лет, и будущее с белой лебедушкой Марией казалось ему безоблачным.
Не прошло и полгода, как вражда между дядей и племянником разгорелась вновь. На этот раз князь Юрий сам не пошел, а послал воевать Косого и Шемяку. Большая галицкая рать разбила московское войско на речке Кусе. Не хотелось Василию покидать Москву и княжну Марию, но бояре настояли, чтобы великий князь сам сел на коня и вел на Галич полки.
Московская рать взяла Галич на щит. От города и слобод остались дымящиеся головни. Дяде пришлось бежать к Белозеру. На помощь князю Юрию подоспели вятчане, и бежать пришлось уже племяннику. Князь Юрий обложил Москву, белая лебедушка Мария и старая мать княгиня Софья Витовтовна попали в лапы дяди. Дядя опять объявил себя великим князем. Племянник, спасшись в Нижний Новгород, уже готов был бежать в орду искать защиты у хана, когда пришла весть о неожиданной дядиной смерти. На великое княжение сел было Косой. Но Москва была завидной добычей, и Косой не мог там долго усидеть. С великого княжения прогнали его родные братья Шемяка с Димитрием Красным. «Бог не попустил отцу нашему на великом княжении сидеть, а тебе, скудоумному, вовек в Москве не быть». Однако знали, если сядет кто из них на великое княжение, Шемяка или Косой, миру между ними не быть, решили: сидеть в Москве по-прежнему Василию. Пришлось Василию за то отдать Шемяке города Углич и Ржев, а Димитрию — Бежицкий Верх.
Мир опять был недолог. Косой, выгнанный из Москвы, волком рыскал по Бежицкой и Двинской земле, с бору и сосенки собирал себе рать. И опять приходилось посылать бояр и ратных людей мечом отстаивать отчизну. Когда узнал Василий, что Косой идет к Ростову, он сам выступил навстречу двоюродному брату. Московские полки одолели вражескую рать, а Косой, хвалившийся привести в железах в великокняжеский город двоюродного брата, попал в полон. Василий велел ослепить врага, и, когда было все кончено и он смотрел на лицо Косого, на пустые, кровоточащие впадины вместо глаз, он не чувствовал ничего, кроме лютой ненависти к нарушителю мира, заставившего его покинуть Москву и садиться на коня. И сейчас, много лет спустя, здесь, в крестовой, когда подкрадывался к сердцу могильный холод, Василию казалось, что именно с этого и начались все великие несчастья его жизни.
Несколько лет прошло потом в мире, если не считать недолгих раздоров с Новгородом. Потом Мария родила сына. Пришел монах, старец Мисаил, и сказал, что был ему голос свыше: «Слава Москве! Сын Васильев победит князей и народы». Так ли было, как рассказал старец, или иначе, но радость и от рождения сына и от пророчества была великая, княгине Марии подарил тогда Василий дорогое царьградское ожерелье, щедро наградил и старца-провидца.
Год после рождения сына прошел спокойно, казалось, дитя принесло счастье и успокоение. Потом опять начались раздоры с Шемякой, приходила Литва, волчьими стаями набегали татары. Прогнанный зимою, казанский царь Улу-Мехмет опять нагрянул весной, как только стали проходимыми дороги. Пришлось самому вести полки на татар. Шемяка, целовавший крест на вечную дружбу, не прислал ни одного ратного. У Ефимьева монастыря великокняжеский полк попал в засаду. Василию впервые пришлось драться как простому ратному. Стрела впилась ему в руку, он отбивался пока татарский конник не отхватил ему саблей пальцев. Василий видел, как упал облитый кровью можайский князь Иван, как рубился в гуще татар боровский князь Василий Ярославич, и он подумал, что пришла смерть.
Но Василий остался жив и стал пленником Улу-Мехмета. Шемяка радовался несчастью двоюродного брата. Он посылал мурзам подарки, обещал не пожалеть серебра, если они уговорят Улу-Мехмета оставить Василия в вечной неволе. Тверской князь Борис Александрович разорял города Васильева княжества. Казалось, беззащитной Москве, опустошенной дотла недавним пожаром, пришел конец. Но дело обернулось так, как не ожидали Васильевы недруги. В столице Улу-Мехмета шли раздоры, и ему было уже не до войны. Он взял с Василия обещание дать откуп и отпустил его в Москву. Не одну лошадь загнал тогда Василий, поспешая в стольный город. После пожара Москва лежала в пепелищах. Белая лебедушка Мария встретила хозяина у кремлевских ворот, не сдержав сердца, кинулась ему на шею, завыла в голос.
Но еще не переполнилась мера бедствий. Шемяка в своем Угличе все еще помышлял о великом княжении и вместе с Иваном Можайским, тайно перекинувшимся на его сторону, ковал козни и готовил новую братоубийственную войну. Посланные можайским князем и Шемякой ратные люди обманом захватили Василия, когда молился тот у Троицы, и привезли в Москву на Шемякин двор…
Князь Василий поднялся. Воспоминания подошли к пределу. То, что потом случилось, надвое разделило Васильеву жизнь. Шестнадцать лет прошло, а тусклый февральский день, и падавший на землю тихий и мягкий снежок, и бородатое, в рябинах лицо боярина Вырбы, и его голос вкрадчивый и злорадный: «Вынял ты, Василий, тезке своему князь Василию Косому очи, а ныне указал князь Димитрий и с тобою по тому же учинить, как аукнется, князь, так и откликнется», — все это, и тускло сверкнувший нож, было ярко, точно случилось вчера.
Князь Василий вытянул перед собою посох, постучал, ощупывая порог, шагнул. Голова его вдруг стала тяжелой и тысячи колоколов зазвонили в ушах, Василий пошатнулся, расставив руки, ловя, за что бы ухватиться, под руку попался большой медный подсвечник, стоявший перед образами. Князь Василий рухнул на пол. Подсвечник упал и крепко ударил его по хребту. Когда великий князь очнулся, лежал он на пуховиках. У ложа на скамье сидели бояре Федор Басенок, два брата Ряполовские, Андрей и Роман, князь Иван Оболенский-Стрига, Ощера. Они тихо переговаривались и Василий узнавал их по голосам. Все это были старые верные бояре, вызволившие когда-то своего князя из Шемякинских лап. Басенок сказал:
— Дозволь, князь Василий, ведуну Кореню тело тебе трутом жечь, чтобы хворь выгнать.
Ждан и Белява хотели сыграть свадьбу честь-честью. Упадыш договорился с пантелеймоновским попом (церковь Пантелеймона Целителя стояла в Огородниках), что поп окрутит молодых, как только отойдет вечерня. Нареченным отцом и матерью были Упадыш и Ириньица. Уговорились, что молодые будут жить на дворе у Ириньицы в новой избе. Избу начал ставить еще Ириньицын хозяин: Никита Капуста. Изба была совсем готова, следовало только нарядить нутро — прорубить и околодить оконца, помостить лавки, повесить дверь. Никита нежданно-негаданно умер, изба так и осталась стоять.
Плотники в один день сделали все, что было нужно. Изба вышла хоть куда, с печью по-белому и дымницей.
С утра сваха, Ириньицына соседка с невестиными подружками готовили в холодной горнице постель молодым, нарезали по стенам крестов, в углу поставили по корчику с медом. Надо было еще воткнуть в углы по стреле, а на стрелы повесить по соболю, да где взять соболей, когда у жениха с деньгами не густо.
Ждан весь день Беляву не видел. Время до вечера тянулось долго. Чуть стало темнеть на дворе, вошел в избу Чунейко Двинянин, сказал, что время ехать за невестой. Он вызвался быть на свадьбе тысяцким и с утра где-то пропадал. За воротами жениха поджидали сани. Ждан с поезжанами и дружками (все свои ватажные молодцы) стали рассаживаться. Старый Ларя вышел во двор, смотрел, тряся головой: «Сказано — скоморохи, не по-людски свадьбу играют, ни каравая, ни попа».
Поезжане, успевшие уже хватить хмельного, с шутками и прибаутками двинулись в санях за женихом. Когда подъезжали к невестиному двору, Двинянин прикрикнул, чтобы угомонились. У ворот Ириньицына двора толкался народ, больше девки и женки, пришли поглазеть, как повезут невесту к венцу. Когда Ждан с поезжанами у ворот вылез из саней и через двор шел к избе, позади кто-то свистнул, выкрикнул похабное, помянул и Ждана и Беляву. Двинянин оглянулся, помахал кулаком:
— Крикни еще слово, язык вон выдеру.
Навстречу жениху и поезжанам из избы вышли Упадыш, Ириньица и девки, невестины подружки, посторонились, пропуская жениха в избу. На столе горели четыре свечи. Белява сидела на лавке, опустив глаза. По обе стороны от невесты стояли подружки. Рядом с невестой сидел белоголовый мальчонок, у него нужно было жениху выкупать место. Ждан покрестился на образ, поклонился на четыре стороны, шагнул к невесте. Белява подняла длинные ресницы, синие глаза ее счастливо мерцали. Лицо, в белой фате и чуть бледное, показалось Ждану краше, чем всегда. Он сунул мальчонке малую деньгу — выкуп за место. Тот встал, отошел в сторону. Ждан опустился рядом с Белявой, сидел и, казалось ему, слышал, как билось у нее сердце.
Гости и поезжане для порядка пригубили по ковшику, пожевали пирога. Сваха поклонилась нареченным отцу с матерью, просила дозволить снаряжать невесту к венцу, разложила на лавке убор — кику и волосник, сняла с Белявы фату. Подошла подружка с ковшиком меда. Сваха окунула гребень в ковшик, прошлась по волосам, надела волосник и кику, покрыла опять голову фатой. Сваха убрала невесту, отошла на середину избы, кинула под потолок горсть хмелю. В избу ввалился Клубника, длинная до пят овчина на нем была выворочена шерстью наружу. Клубника стал перед молодыми, сверкнул белыми зубами и весело подмигнул:
— Сколько на овчине волосинок, столько бы послал вам господь деток.
Сваха опять поклонилась Упадышу и Ириньице, просила дозволения вести молодых к венцу.
Жених с невестой вышли на крыльцо. Задудели дуды, загудели гудки. Откуда-то вывернулись девки-плясовицы, притоптывая, затянули веселую свадебную песню. Так и шли через двор к воротам: впереди Аггей, Клубника, Чекан и Сила Хвост с гудками и дудами, за ними плясовицы, тысяцкий, гости, жених с дружками, невеста со свахой и подружками. В чистом небе высоко стоял месяц. Недавний снег голубел и сверкал. Перед воротами кучкой стояли шестеро молодцов в вывороченных овчинах, на лицах скоморошьи хари. Как только вышли жених с невестой, вместо величания молодцы в харях засвистали, замяукали кошачьими голосами, затянули срамную песню. Толкавшиеся у ворот девки и женки захихикали. Ждан подскочил к молодцам, рванул с переднего харю. Из-под хари глянуло на Ждана бледное от месяца лицо Якушки Соловья. Якушко дюжей рукой схватил Ждана за ворот, потянул к себе, дохнул хмельным:
— Перед всей Москвой меня бесчестил, собакин сын!..
Голос у Якушки был сиплый, уже не одну неделю заливал он обиду вином. Ждан перекрутился на месте, вывернулся из Якушкиной руки, стоял тяжело дыша.
Якушкинские молодцы закричали:
— Ударь его, Соловей!
— Вышиби душу вон!
Подоспел на выручку Двинянин, треснул одного якушкинского, тот охнул, зарылся носом в сугроб. В ответ Двинянина ударили сзади кистенем, удар пришелся по меховой шапке, Чунейко только качнулся. Аггей, отбросив гудок, кинулся в драку, за ним ввязались и Чекан и Сила Хвост. Сцепились, дрались порознь один на один. Якушко Соловей был на целую голову выше Ждана. Ждан ловко увертывался от грузных кулаков. Сам два раза ударил Якушку в грудь, но Соловью хоть бы что, лез на Ждана, орал во всю глотку. Ждан изловчился; ударил его третий раз в переносицу. Якушко взревел, наклонился, пошарил за голенищем, в руках голубовато блеснул длинный засапожный нож. Ждан заметил на снегу оброненный кем-то из якушкинских кистень, отбежал, чтобы поднять. Якушко увидел Беляву, не помня себя метнулся к ней, замахиваясь:
— Держи, девка!
Подскочил Сила Хвост, поймал Якушкину кисть, стиснул. Якушко перехватил нож в свободную руку, ударил наотмашь. Сила булькнул горлом, покачнулся, прижимая к груди руку, грузно сел в сугроб. Сваха и девки-подружки охнули:
— Девоньки, уби-и-ил!
Клубника, неловко топчась, приподнял Силу за плечи. Подбежали еще скоморохи, дружки, поезжане и возчики. Голова Силы мертво свешивалась набок и лицо от луны казалось синим. Двинянин потрогал руку, угрюмо выговорил:
— Кончился!
Кто-то из толкавшегося у ворот люда закричал, чтобы вязали Якушку, но и Соловья и его товарищей уже и след простыл. Мертвого Силу внесли в избу, положили под образами на лавку, в изголовье поставили свечи. Вошла за всеми в избу Белява, в лице не видно было кровинки, бессильно опустилась на колени, свадебная фата сбилась на бок, по щекам катились частые слезы. У двери толпились и шептались девки-подружки. Нареченная мать Ириньица хлопотала над мертвецом, сложила на груди руки, прикрыла глаза. Отошла в сторону, поглядела, ладно ли мертвецу лежать, вздохнула:
— Ой, грех! Ладились свадьбу играть, а вместо того надо попа кликать заупокойную править.
Сваха вполголоса говорила девкам-подружкам:
— Грехов на невестушке без числа, как на корове репьев. За невестины грехи бог на чужой душе взыскал.
Белява слышала, что говорила сваха. Она упала на лавку, ударилась головой, заголосила протяжно, навзрыд.
Отпевал Силу тот самый пантелеймоновский поп Мина, который уговорился с Упадышем венчать Ждана с Белявой. На другой день после того, как отнесли Силу на кладбище, пришел Мина в Ириньицыну избу, стал корить Беляву:
— Блудница, ненасытная! Грехов учительница! Твоим тщанием смертоубийство учинилось…
Стоял поп Мина посреди избы длинный и костлявый, широкополый поповский кафтан висел на нем, точно вздетый на жердь, грозил поп пальцем, вертел горбатым носом, фыркал волосатыми ноздрями, сверкал взглядом, стращал Беляву вечным огнем и адскими муками.
Белява сидела на лавке, не смела поднять на Мину сухих глаз, одеревеневшая от горя. И без поповских укоров знала она — великий грех упал на душу. Два раза ходила она на Москву-реку, подходила к проруби, смотрела в темную студеную воду, кажется, шагни шаг — и всем мукам конец. И каждый раз отходила она от проруби. Как наложить на себя руки, когда есть еще на свете ласковый Жданушка. Легла между ними чужая кровь, думать бы только о нем, светике, дни и ночи и того довольно. И сейчас, когда корил и стращал ее поп Мина, чудился ей в мыслях свет-Жданушка.
Поп точно угадал Белявины мысли.
— О Жданке-скоморохе думы кинь. От лица человеческого беги в пустынь. Послушанием и молитвой в келье иноческой грех замолишь.
Голос у Мины, когда заговорил об иноческой келье, сразу подобрел. На прошлой неделе приехала из дальней обители игуменья Феодора, родная попова сестрица, плакалась: «Обитель наша лесная, инокинь всех шесть душ, годами стары, телом немощны, и на поварне стряпать, и обшить стариц, и всякое дело делать некому».
Мина обшарил Беляву взглядом, прикидывал: девка молодая, крепкая, такая, если возьмется, — всякое дело будет в руках гореть, и стариц обошьет, и всякую монастырскую работу справит, лучшей послушницы игуменье Феодоре и не надо. Да и прийдет в обитель не с пустыми руками, в сундуке, должно быть, кое-что припасено. Мина подсел к Беляве на лавку, заговорил уже совсем без гнева:
— О душе твоей пекуся. Мешкать нечего. Станешь под начало игуменьи Феодоры, лучшей наставницы тебе и не надо. А если что — я твой заступник перед Феодорой.
Белява подняла голову, смотрела на попа широко раскрытыми глазами, удивилась, как самой прежде не пришло в голову уйти в монастырь замаливать грех. Увидела себя в смирном монашеском одеянии, показалось — уже слышит ладанный дух и сердцеусладное пение инокинь. Стало вдруг жаль Себя, и не так себя, как его, свет-Жданушку. Если б можно было не в обители, а иначе как-нибудь грех замолить и душу спасти. Не за свою душу страшно, за Ждана. Потешает мил-дружок православных людей скоморошьими играми. А игры, попы твердят, — бесовские. Оба грешны. Оттого и не выпало им счастливой судьбины. А чей грех больше — ее или Ждана — одному богу ведомо. В обители ночей не станет она спать, будет за грешную душеньку мил-дружка молиться, только бы вызволить душеньку его из пламени адова. Одна она за Ждана молельщица. Самому грехов ему не замолить. Когда отпели Силу, и стал поп Мина корить Ждана и увещевать, чтоб бросил скоморошить, в ответ тот и бровью не повел.
Поп Мина поднялся, сказал, чтобы Белява приходила утром же на поповский двор. Феодора собирается завтра обратно в обитель, с ней Белява и съедет. Поп шагнул к двери, на пороге остановился, почесал нос, будто только что вспомнил, ласково вымолвил:
— Дружки серебра и иного чего, сдается, тебе дарили немало, — то в обитель на масло и свечи вклад. Чуешь?
— Чую!
— То-то! Обитель у матери Феодоры бедная. Всякое даяние благо.
Поп Мина ушел, сутулясь, Белява слышала, как скрипнули во дворе ворота. Тотчас же вошла в горницу Ириньица. Стояла она в сенях, слышала, как поп увещевал Беляву идти в монастырь. Сердце у Ириньицы было мягкое, уже не раз, жалея Беляву, всплакнула она сама над несчастной девкиной долей. В Огородниках и ближних слободах судов и пересудов о том, что стряслось в Ириньицыном дворе, — не переслушать. И все говорили одно — на Белявиной душе грех, из-за девкиного блуда пролилась кровь человеческая. Неслышно вошла Ириньица в горницу, тихо вздохнула: «Эх, всем взяла девка, и лицом красна, и станом ладная. В монастыре некому будет и красоте девичьей порадоваться».
Села Ириньица на лавку, тронула тихо косу: «Касаточка…». Чтобы утешить, стала говорить о сестрах инокинях, христовых невестах: «Житье у них тихое, службу церковную поют сладостно, будто ангелы на небесах».
Во дворе проскрипели по снегу шаги, стукнуло в сенях, низкая дверь распахнулась, стремительно вошел в горенку Ждан. Остановился Ждан у порога, щурился со света, ладный, раскрасневшийся от мороза, в ловко перехваченной синим поясом шубе… Лицо у мил-дружка чуть грустное, в глазах не видно веселых искорок как всегда. Вчера, после того, как схоронили Силу, и помянули скоморохи ватажного товарища пирогами и медом, долго раздумывал он, как теперь быть. Жаль до плача было Силу, сложившего в сваре голову. И голову сложил Сила потому, что сунулся спасать Беляву от ножа. И пока сидели скоморохи вокруг стола и поминали покойника сыченым медом, слезы туманили Ждану глаза.
Упадыш сказал Ждану — поп Мина о венчании и слышать не хочет, придется с другим попом рядиться, чтобы перевенчал. «А кручиниться, Жданко, кинь, ни ведовством, ни молитвой Силу из домовины не воскресить, мертвые — мертвым, живые — живым». Упадыш перетолковал с попом Кузей. Пока владыко митрополит ни о чем не проведал, Кузя брался тишком окрутить молодых.
С того вечера, когда принесли в избу мертвого Силу, о венце Ждан не перемолвился с Белявой и словом — нельзя было о свадьбе толковать, когда в горнице лежал покойник. Сейчас пришел он утешить маков цветик, сказать, что завтра вечером окрутит их поп Кузя. Ириньица, когда увидела Ждана, поднялась, вышла тихо. «Пускай перед разлученьем словом перекинутся». О том, чтобы пошла теперь Белява с Жданом под венец, у Ириньицы и в мыслях не было.
«Не попустил бог мужней женой быть, одна дорога девке — в монастырь. Добро, что поп Мина берется дело сладить».
Ждан шагнул к лавке, взял маков цветик за руки, притянул к себе. Губы у Белявы были холодные. Сказал ей, что завтра пойдут под венец. Белява отвернула лицо в сторону, выговорила шепотом:
— Не бывать мне с тобой под венцом, не любиться. Лег на мою душу грех, в монастырь уйду, в келью темную грех замаливать.
— Опомнись…
— Не на радость, Жданушка, мы слюбились…
Голос у Белявы задрожал, повернула к Ждану лицо, на длинных ресницах сверкали слезинки.
— Позабудь, Жданушка, девку Беляву. На Москве отецких дочек много. Приглянется какая — веди по-честному к попу под венец.
Белява закрыла ладонями лицо, плечи под сарафаном тряслись. Ждан издали видел, как выходили из ворот поп Мина, догадался, что, должно быть, поп и надоумил Беляву идти в монастырь. Смотрел он на маков цветик и все еще не верил, чтобы и в самом деле случилось так. «Попище настращал. К завтрому одумается». Утешал себя тем, что маков цветик передумает, но на сердце было тоскливо.
От мысли, какая вдруг озарила голову, у Белявы захватило дыхание. Смотрела на Ждана и глаза лучились несказанной радостью. Теперь знала — не нужно ей идти в монастырь замаливать грехи. Довольно, если мил-дружка душеньку вызволит, а с ней — чему суждено быть, пусть так и будет. Припала к Ждану на плечо:
— Кинь, Жданушко, со скоморошьей ватагой скоморошить…
Сказала, а у самой слышно, как сердце отстукивает, что-то мил-дружок в ответ молвит. Скажет, что не будет скоморошить, не надо тогда и хоронить себя в темной келье, довольно будет того, что спасла от греха милого дружка душеньку, заживут тогда они со Жданом в любви и согласии. Может быть, за то, что спасла от греха милого душу, и с нее грех снимется.
— Сядь! — Пододвинулась близко, охватила руками шею, молила и взглядом и телом теплым сквозь тонкий сарафан.
— Кинешь скоморошить, до гроба я тебе раба верная…
Ждан отодвинулся, руки у Белявы разжались, скользнули вниз. Белява увидела близко глаза милого дружка, прозрачные, как льдинки. И сразу потухла в сердце короткая радость. Голос у милого дружка был чужой и слышался откуда-то издалека, точно и не сидел мил-дружок здесь же рядом:
— Лучше мне в домовину лечь, чем песен перед людьми не играть!
Ушел мил-дружок, не сказав больше ни слова и стукнув дверью так, что сквозь щели с потолка посыпалась земля.
Ночью ворочался Ждан на лавке в жаркой избе. Думы гнали сон. Жаль ему было и себя, а еще больше Беляву. Надо было без гнева, по-хорошему, с маковым цветиком потолковать. Не знал он, откуда и взялся тогда в сердце гнев.
Утром, чуть рассвело, Ждан кинулся в Огородники. Торопливо шагал, думал дорогой, что не устоит податливое сердце макового цветика против ласкового слова. Забудет Белява и думать об иноческой келье.
Ворота на Ириньицыном дворе оказались на запоре. Вышла на стук Ириньица, всхлипнула, вскинула жалостливые глаза.
— Наказала Белява тебе кланяться. Увезла ее, свет-голубушку, игуменья Феодора в обитель, а где та обитель стоит — не сказала.
Ведун Оська Корень жег князю Василию плечи трутом, но отогнать хвори, одолевшей великого князя, не мог. Язвы от трута не заживали и гнили.
Великий князь Василий умирал.
Шла четвертая, «крестопоклонная», неделя великого поста. Была суббота. Князь Василий лежал в ложнице, и дорогое камчатное одеяло не могло скрыть пугающей худобы его тела. Под образами на лавке лежало монашеское одеяние. Монатью и клобук принесли от митрополита Феодосия. Князю предстояло идти к богу в монашеском чине. Митрополиты на смертном одре постригали князей в монахи. Отец и дед Василия умерли монахами. Принял перед смертью схиму и прадед. Монахом предстояло умереть и Василию. Таков был обычай.
И когда все было готово, и митрополит с тремя архимандритами уже готовился приступить к совершению обряда, вошел боярин Басенок с Оболенским-Стригою, Ощерой и Оболенским-Лыном. Они знали, что Василию еще не пришло время принимать схиму. Великий князь прежде чем стать монахом и отречься от мира, должен сказать всем московским людям свою предсмертную волю, иначе опять встанут кровавые междоусобия. Федор Басенок приблизился к митрополиту, склонил перед святителем голову, выговорил твердо:
— Повремени, владыко. Князь Василий телом еще крепок, посхимить поспеешь.
Сказал так, хотя и видал — хорошо, если дотянет князь Василий до ночи. Однако все же грех на душу взял.
Басенок шагнул к ложу, низко склонил над изголовьем бороду, заговорил громко, чтобы слышали все, кто был в хоромине:
— Не оставляй, князь, своих людей сирыми. Вели дьяку духовную грамоту писать.
У Василия пустые веки дрогнули, он медленно повернул к Басенку лицо, восковое, с смертными синими пятнами, пошевелил высохшими губами, вымолвил через силу:
— Кличь дьяка!
Великокняжеский дьяк Беда уже ждал. Он вошел, не глядя отвесил поклон ложу. За ним вошли бояре, братья Ряполовские, стали у стены, скорбно потупив глаза. Дворовый слуга, внес аналой, другой следом внес две свечи. Дьяк положил на аналой бумагу, неторопливо оглядел на огонь перо, Владыко Феодосий кивнул архимандритам, чтобы подошли к нему ближе, сам опустился на лавку, сидел, неподвижный и прямой, маленький седой старик в высоком белом клобуке с крестом.
Федор Басенок прикоснулся пальцем к одеялу, торжественно выговорил:
— Великий князь Василий, владыко и бояре слушают твою волю.
Князь Василий молчал. Казалось, не слышал любимого боярина. Сквозь маленькие оконца лезли в горницу ненастные мартовские сумерки, заползали в углы. Князь Василий лежал на ложе неподвижно, обратив к потолку нос, длинный, с горбинкой, желтые блики от двух свечей падали на высохшее лицо великого князя. Боярам и отцам духовным показалось, что лежит на ложе мертвец. Басенок склонился к самому уху Василия, и так же торжественно, как и в первый раз, выговорил:
— Кому из сыновей, князь Василий, быть на великом княжении?
Спросил, хотя и все знали, что никому другому из сыновей, кроме Ивана, объявленного великим князем еще восемь лет назад, не откажет Василий великого княжения. Но надо было, чтобы великий князь в предсмертный час подтвердил свою волю.
Князь Василий молчал. Басенок откинул край камчатного одеяла, приподнял руку умирающего. Рука была холодная. Из горла Василия вырвался короткий вздох. Братья Ряполовские вытянули шеи, владыко Феодосий приставил к уху ладонь, боясь пропустить хоть одно слово. Василий заговорил через силу слабым голосом, почти шепотом:
— Великим княжением отчиною своею благословляю сына старейшего Ивана, и ему же даю треть в Москве, да Владимир, да Кострому, да Переяслав, Галич, Устюг, землю Вятскую, да Суздаль…
Дьяк Беда склонился над аналоем, побежал по бумаге пером. Голос у Василия с каждым словом креп, говорил он теперь быстро, дьяк едва успевал вписывать в грамоту города и волости, какие называл великий князь.
…Сыну же, Юрию, даю Дмитров, Можайск с Медынью, Серпухов да Катунь. А Андрею даю Углич…
Бояре переглянулись, задвигались, затрясли головами. Не ждали от князя Василия, чтобы стал он делить отчину свою по-старому на уделы. Помнили, что не раз сам говорил князь Василий, хлебнувший лиха от раздоров с дядей и двоюродными братьями: «Откажу великое княжение и все города и волости сыну Ивану, остальным под его рукой быть и по его воле ходить. А Иван, как хочет, так пусть и жалует братьев за службу городами и волостями».
Басенок забыл, что князь говорит свою предсмертную волю. Закричал, как не раз, бывало, кричал на боярском совете:
— Помысли лучше, князь Василий, за дела твои дашь ответ на христовом судилище! Разделишь отчину по-старому меж сыновьями, — не забыть тогда крови и усобицы, довольно Москва от дяди твоего Юрия и Шемяки натерпелась. Благослови сына Ивана твоею отчиною и всеми городами и землями, какие под твоей рукой есть.
Заговорили бояре Оболенский-Стрига и Ряполовские:
— Не губи, князь, отчины своей, что отцы твои и деды и сам ты по крохам собирал.
— И о слугах своих верных помысли…
— Не дели отчину меж сыновьями.
Отцы духовные закачали клобуками. Симоновский игумен Афанасий шагнул к Ряполовским (они шумели больше других), потряс тощим пальцем:
— Ой, бояре, ополоумели, у смертного ложа господину великому князю перечите…
Ряполовские на игумена и не взглянули. Сине-восковое лицо великого князя, настоящее лицо мертвеца, было неподвижно. Бояре притихли, все, кто был в горнице, подумали разом:
— Преставился!
Владыко Феодосий поднялся с лавки, готовый читать отходную молитву. И вдруг мертвец заговорил. Он называл города, какие давал самому младшему сыну Андрею: Вологду, Кубенок и Заозерье.
Бояре Ряполовские опять было раскрыли рты. Владыко Феодосий метнул на братьев из-под кустистых бровей сердитый взгляд, приподнял посох. Братья прикусили языки, вступать в спор с святителем не решились.
За стенами княжеских хором стояла ненастная темень. Слышно было, как где-то в оконце ветер шуршал прохудившейся слюдой. Молчаливые, стояли перед ложем бояре. Под камчатным одеялом лежал не мудрый государь князь, а слабый отец, в последний час, на смертном ложе, помышлявший не о благе государства, а лишь о том, чтобы не обидеть и не обделить кого-нибудь из своих четырех сыновей. Видели бояре, что еще до полуночи отойдет князь туда, где нет ни печали, ни воздыхания, и нельзя было спорить с тем, кому осталось жить считанные часы.
А князь Василий, заботливый отец и хозяин, чувствуя, как уходят силы, торопился. В этот последний час перед кончиной ум его получил великую ясность. Он перебирал в памяти все драгоценности, какие хранились в заветных сундуках. Казалось, он ощупывал их руками, прикидывал и взвешивал на ладони. Ни один из сыновей не будет роптать на несправедливого отца. Дьяк Беда тихо покачивал от удивления бородой: «Рачителен и памятлив великий князь, ничего не пропустит». Торопливо заносил Беда на бумагу последнюю волю князя Василия.
— …А сына своего Ивана благословляю: крест Петров, чудотворцев, да крест золотой Парамшинской, да шапка, да бармы, да сердоликовая коробка, да пояс золотой большой с каменьями…
Сыну Юрию отписывал князь Василий филофеевскую икону, золотой крест — благословение великой княгини Софьи, пояс золотой на червчатом ремне; Андрею старшему — пояс с цепочкой, что носил еще дед, князь Димитрий, победитель татар, и крест золотой, каким благословила княгиня мать, когда Василий вел под Великий Новгород московскую рать; Андрею младшему завещал один только золотой с изумрудами образ.
С духовной грамотой покончили к полуночи. Беда отлог жил перо, пошевелил занемевшими пальцами. Митрополит Феодосий шагнул к аналою, обвел безмолвных бояр суровым взглядом, откинул широкий рукав монатьи, склонился над бумагой, скрипучим пером приложил к грамоте руку, Василий хотел сказать еще что-то, но силы уже оставили его, и вместо слов с губ срывалось непонятное булькание. С трудом разобрали бояре — князь велит кликнуть сыновей.
В горницу, открыв рывком дверь, стремительной походкой вошел князь Иван. Пламя свечей колыхнулось, и тени побежали по стенам. За Иваном вошли, один по одному, братья: Юрий, Андрей старший и Андрей младший. Князь Иван сверкнул глазами, быстрым взглядом обвел бояр и отцов духовных. Архимандриты стояли, сложив руки на животах, знали заветные думы князя Ивана — быть после отца полновластным хозяином на всех землях великого княжения, что по крохам, когда гривной, когда мечом собирали его предки, московские князья, начиная с Калиты. Теперь, когда предсмертной волей князя Василия земля дробилась между братьями по-старому, отцы духовные угадывали — придется им рано или поздно держать ответ перед князем Иваном, не раз им вспомнит князь Иван: «По вашему то хотению отец учинил». Того и смиренно поджали губы архимандриты, когда в горницу вошел князь Иван.
По лицу боярина Басенка Иван догадался, что все вышло не так, как ему хотелось и как думали доброжелатели бояре. Он шагнул к ложу, опустился на колени. Шепотом, но так, что голос его был слышен во всех углах горницы, выговорил:
— Отец!
Великий князь заворочался на ложе, хотел приподняться. Басенок помог Василию. Князь вытащил из-под одеяла руку, поднял, чтобы благословить сына. Рука бессильно упала на пуховик. Иван подхватил отцову руку, костлявую, с синими ногтями, бережно поднес ее к губам. Холодные пальцы, шаря, скользнули по его лицу. Это была привычка слепца. Рука легла Ивану на голову. Он удивился ее необычайной легкости, и еще ниже склонил голову, хотя стоять, низко согнувшись, было неудобно. Князь Василий приблизил губы к уху сына, и Иван почувствовал на щеках угасающее дыхание отца. Коснеющим языком Василий прошептал:
— Блюди, Иван, отчизну нашу, чтобы свеча рода нашего не погасла.
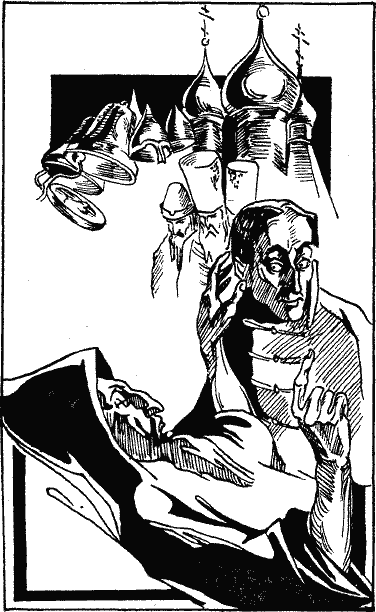 |
Голова великого князя упала на подушку, на ресницах пустых желтых век скупо блеснула слеза. Подходили один за другим Юрий, Андрей большой, Андрей младший, становились на колени у ложа, прижимали к губам холодеющую руку умирающего. И когда сыновья простились с отцом, вошла великая княгиня, ни на кого не взглянув, опустилась на колени у изголовья и громко заголосила.
Князю Ивану нестерпимо захотелось пить. Он вышел из горницы. В длинных переходах и в сенях горели редкие свечи. У лестницы, что вела наверх, в горницы великой княгини, шестеро женщин, одетых в черное, о чем-то перешептывались. Это были старухи, ожидавшие, когда их позовут обмывать тело мертвеца, и привезенные накануне из Владимира прославленные бабы вопленицы, Паша Красногласая и Дотька Слеза. Завидев князя Ивана, бабы замолчали и все шестеро поклонились ему, коснувшись пальцами пола. Он увидел еще нескольких детей боярских и дворовых слуг, собравшись в полутемных сенях, они говорили вполголоса, как бывает в доме, когда на столе лежит мертвец. Князю Ивану захотелось, чтобы скорее рассеялась эта наполненная шепотом тишина, водворившаяся в дворцовых хоромах с того дня, как отец слег в постель. Он вспомнил шумные споры на боярском совете, пиры, от которых непрочь был слепой князь Василий, и охоту с кречетами. Отец умирал слишком долго и медленно.
Князь Иван нашел в передних сенях поваренного слугу и велел ему принести квасу. Запрокинув голову, он жадно осушил ковш и, когда шел обратно полутемными переходами, встретил разыскивающего его Федора Басенка. Басенок стал называть Ивану города, какие отец в духовной грамоте отказал братьям.
И князь Иван подумал, что, пожалуй, его княжение еще больше будет наполнено усобицами и войнами, чем княжение отца. Но, подумав так, он не испугался, ему было двадцать лет, жизнь казалась длинной, и думал он о большем, чем города, розданные отцом в удел братьям. Князь Иван ничего не ответил Басенку. Он торопился теперь в горницу, где умирал отец.
Великий князь Василий умер перед рассветом. Его похоронили в каменном храме Архангела Михаила.
От бирючей московские люди узнали, что великий князь Василий преставился ко господу — умер. Бирючи одеты были в темные кафтаны, но орали как всегда, во всю глотку, не заламывали назад колпаков, скорбными голосами выкрикивали на большом торгу, перекрестках и малых торжках печальную весть.
Московские люди тянули с голов шапки, крестя лбы, вздыхали. Худым помянуть князя было не за что, да и хорошего особо Москва от Василия не видела. Терпели немало в Васильево княжение от татар, а более всего от княжеских усобиц.
Митрополит Феодосии велел попам и игуменам сорок дней править по князе Василии заупокойные литии, а пока не отойдет сорок дней, московским людям наказано было песен не петь, игрищ не играть, на скоморошьи позорища не глядеть.
Упадыш думал дождаться с ватажными товарищами лета в Москве, а там податься в Вязьму и Смоленск. Чунейко Двинянин, когда Упадыш помянул про зарубежные города, начал было спорить: «Вязьма и Смоленск под Литвой сидят. Корысти там мало». Упадыш на речи Двинянина сердито блеснул глазами: «А хоть и под Литвой? Люди там живут русские, а где русские люди, туда и скоморохам путь».
С того дня, как ушла Белява в монастырь, Ждан стал молчалив, спросит кто из веселых товарищей о чем, часто случалось — отвечал он невпопад, сидел целые дни в избе или валялся на лавке, уткнувшись лицом в овчину.
Великоденский праздник — пасха уже была не за горами, когда же и повеселить скоморохам народ, как не на праздник. Когда услышали ватажные товарищи, что митрополит и великий князь Иван указали московским людям сорок дней игрищ не слушать и на позорища не глядеть, решили не мешкать. Переждали только два дня, когда Чигирь-Звезда станет к доброму пути. Из ватаги остался в Москве один Чекан, был он родом из Москвы, надумал теперь поставить в Скоморошках избу, зажить своим двором.
Утром у мытной избы ватажные товарищи дождались мужиков-попутчиков и с ними ехали на санях верст тридцать. Над лугами и полями стоял туман, кое-где на дороге уже проступали лужицы. В Звенигороде от купцов, возвращавшихся из Литвы, узнали — за Можаем дороги нет совсем, реки взломал лед, на литовскую сторону ни конному, ни пешему скоро пути не дождаться. В Звенигороде тоже делать было нечего — шла седьмая неделя великого поста. Ватажные товарищи надумали идти в Верею, благо было недалеко и случились как раз с санями мужики из села Глинеска, они и довезли ватагу до села, а там до Вереи было рукой подать.
Прямиком через лесные сугробы добрались скоморохи до реки Протвы. Снег на реке стаял, на посиневшем и вздувшемся льду блестели озерца. На той стороне высился земляной вал, на валу стоймя одно к одному заостренные бревна — город князя Михайлы Андреевича — Верея. Снега на валу уже не было, лежал только кое-где у городского тына. По обе стороны от княжеского города разбросаны дворы мужиков и обнесенные огорожами поля. А дольше кругом бор без конца и края, по-весеннему синий, туманный.
Постояли скоморохи на берегу, видно, что лед на реке едва держится, однако делать было нечего. Упадыш снял колпак, перекрестился на маковку церквушки за городским тыном. Первым осторожно ступил на лед. За ним гуськом тронулись ватажные товарищи, позади всех плелся Аггей со своим мехом ватажного мехоноши. На том берегу из ближнего двора выскочил мужик, замахал руками, закричал:
— Гей, перехожие! Мила жизнь, так напрямик не идите. — Кинул палку, показывая куда идти. Упадыш, поджав губы, шарил по льду ногой, выискивая безопасное место. Подтаявший лед гнулся и трещал. Упадыш добрался до берега, повернул лицом к реке, смотрел, как перебирались по его следу остальные. Подбежал мужик, тот, что кричал, увидел на ремне у Упадыша холщевое нагуслярье, радостно выговорил:
— Добро пожаловать, люди перехожие, веселые молодцы, давно в нашу сторону скоморошеньки не захаживали.
Выбрались на берег и Ждан с Клубникой, и Двинянин. Брел по льду еще один Аггей. Был он у самого берега, как вдруг громко треснуло, лед раздался и брызги воды взлетели кверху. Ватажные товарищи с берега увидели над водой бледное лицо Аггея, он искал руками, за что бы ухватиться. Тяжелый мех мехоноши за плечами тянул его ко дну. Упадыш метнулся к полынье, но Аггея уже не было, только плавал поверх воды меховой колпак и колыхались разломанные льдины.
Прибежали мужики, натащили хвороста, накидали на лед, полезли к полынье с шестами, зацепили, выволокли Аггея на берег. Лежал Аггей, раскинув руки, по одевшей лицо мертвой синеве видно было, что не играть ему больше песен, не бродить с веселыми товарищами. Откуда-то взялся хромоногий, малого роста мужик, стал на колени, несколько раз подул Аггею в лицо, невнятно пошептал, подергал за руки. Из носа утопленника вылилось немного воды. Хромоногий мужик велел положить Аггея на овчину. Клубника с Упадышем и двое мужиков подняли овчину, стали качать из стороны в сторону. Качали, пока не занемели руки. Аггей лежал на овчине по-прежнему неподвижный и синелицый. Хромоногий мужик подергал еще за руки, подул, сказал, что водяной весной спросонья зол, удавил перехожего человека до смерти, никакое ведовство не поможет.
Мертвого Аггея отнесли в ближний двор, там же стала постоем и скоморошья ватага, оказалось — у хозяина двора, Семы Барсана пустовало пол-избы. Аггея положили в холодной клети, ватажные товарищи постояли перед мертвецом, повздыхали. Вспомнили — у Аггея в последние дни только и разговоров было, что о селе под Тверью, откуда три года назад ушел он скоморошить. Думал — походит до осени с ватагой, а зимой подастся в родные места поклониться отцовской и материной могилкам. Вздыхали ватажные товарищи: «Думы за горами, а смерть за плечами».
Утром Аггея положили в колоду, перенесли в избу, поставили на лавку под образами. Только было хотел Упадыш идти звать попа, а тот уже тут как тут, а за ним дьякон. Поп был дюжий и веселый мужик, влез в избу, распушил бородищу, подмигнул озорным глазом:
— Кому мертвец, а нам товарец. Давайте, люди перехожие, две деньги, а еще деньгу дадите, так и на жальник утопленника до места провожу.
Веселый голос попа разозлил Упадыша, зло прикрикнул:
— Уймись, жеребец! Не пир пришел пировать, а мертвеца в путь-дорогу провожать.
Поп напялил поверх сермяжного кафтана епитрахиль. Упадыш с Клубникой и Двинянин со Жданом подняли на рушниках колоду, вынесли ногами вперед. За колодой шли Сема Барсан, хозяин избы, и двое мужиков соседей. Скользя по талому снегу, дотащили гроб до церкви, поставили на скамью посредине.
Поп походил вокруг гроба, побрякал кадилом. Надгробные молитвы пел он не так, как все попы поют, гнусно и скорбно, а скороговоркой, точно скоморошины. Упадыш хмурил брови, так и хотелось боднуть развеселого попа кулаком.
Когда выносили колоду из церкви, вперед выскочила баба-вопленица, рванула с головы повязку, раскосматилась, закрыла ладонями лицо, истошно завопила:
У Упадыша разошлись на лбу морщины — поп неладно Аггея отпел, зато вопленица голосит красно.
До кладбища рукой подать. Когда дошли, из ворот выскочили двое молодцов, стали, растопырив руки, один закричал:
— Пошто земляных денег не заплативши, с мертвецом на жальник суетесь?
Ватажные товарищи опустили колоду на землю. Упадыш ввязался с молодцами в спор:
— За что давать? Яму для покойника сами своими руками копали.
Сема Барсан потянул Упадыша за рукав, растолковал, что спорит он впустую. Князь Михайло Андреевич дал жальник на откуп купцу Дубовому Носу. Дубовый Нос поставил своих людей брать за упокойников деньги. У князя Андрея Михайловича без зацеп и мертвец в землю не ляжет. Для того и поставлены на жальнике мужики-зацепляне.
А зацепляне закричали:
— Не дадите земляных денег, так воротите со своим упокойником вспять.
Упадыш спросил, сколько надо давать земляных денег. Зацепляне переглянулись, один показал другому два пальца, тот сказал:
— Мужикам, какие на князя Михайлы землях сидят, велено давать за упокойника земляных денег деньгу, а вам, перехожим людям, дать надо две деньги.
Подошли еще мужики, стали корить зацеплян:
— Пошто с перехожего упокойника две деньги дерете?
— Наказано деньгу брать.
Зацеплянам хотя бы что, стоят, ухмыляются, рожи сытые, видно, у мертвецов промышляют неплохо, бубнят:
— С кого деньга, а с перехожего мертвеца — две.
Денег у ватажных товарищей было в обрез, да и откуда деньги, — сколько времени игрищ не играли. Упадыш торговался с зацеплянами до пота, но две деньги все же пришлось дать.
Положили веселого Аггея Кобеля в сырую землю, насыпали могилку, стояли ватажные товарищи перед могилкой, думали невеселые думы:
«Ох, ты, жизнь скоморошья! Собака и та в своем дворе помирает. Скоморох бродит, людей потешает, а где сложит кости — не ведает. И хоронить доводится не по-человечески, кое-как».
Вздыхали ватажные товарищи, а ни один из них не сменяет скоморошьего бездомного житья на иное, нет на свете ничего милее, как бродить из конца в конец по великой русской земле, песни играть, потешать добрых людей.
А поп уже толкает Упадыша под бок, уже тянет руку:
— Давай, скоморошище, за упокойника, что порядились.
Баба-вопленица трясет раскосматившейся головой, тянется, подставляет лодочкой ладонь:
— Пожалуй, милостивец, недаром и я вопила.
Сидел Ждан на просохшем валу под городским тыном. Солнце с ясного неба грело жарко. Мокрые бревна частокола, просыхая, дымились, снег уже сошел с полей и лугов, только белел еще на той стороне реки у опушки бора.
Был первый день праздника пасхи. После заутрени прямо из церкви всей ватагой ходили скоморохи на жальник христосоваться с Аггеем. Кинули на могилу по яйцу, друг за дружкой повторили: «Христос воскрес». На жальнике было людно, сошлись христосоваться с родными покойниками мужики и бабы едва не со всего удела князя Михайлы. С тех пор, как отдал князь кладбище на откуп московскому купцу Дубовому Носу, окрестным мужикам велел он покойников хоронить на жальнике у Вереи. Иной раз приходилось пахарям волочить мертвеца болотами и лесными дебрями верст за двадцать. Да что станешь делать, князь в своем уделе господин.
Ждан, когда кидал яйцо на могилу Аггея, подумал о Беляве. Будь крылья, так и полетел бы похристосоваться с маковым цветиком. Да куда лететь, не знает он, в какой пустыни спасает Белява душу. Стало горько до слез. Ушел Ждан с жальника, унес от товарищей скоморохов тоску. Сидел теперь один на валу под тыном, смотрел на далекое небо, на темный бор за рекой.
Мимо тянулись мужики и бабы с пустыми коробейками — носили князю яйца, великоденский припас. Был великий день, всем праздникам праздник, а одеты мужики были не по-праздничному, в худые овчины… И пахари и посадские мужики жили под рукой князя Михайлы скудно. От Семы Барсана и других верейских мужиков Ждан слышал — с подвластных людей князь Михайло берет дань немилостивую, и с дыма, и с животины, и с сохи, да еще выход — татарскую дань с каждой живой души, а поминками и вовсе замучил. Выход шлет Михайло в Москву великому князю, тот перед ордой за всех князей ответчик. Сколько шлет Михайло в Москву татарской дани, никто не знает, говорят — треть того, что собирает.
Город у князя Михайлы — одна слава, что город. Тын на валу прохудился, подперт бревнами, как у нерадивого мужика замет. Башни по углам покосились, смотрит каждая в свою сторону. Не то от татар и Литвы, если случится, в городе не отбиться, — кажется, бодни корова рогом, или боров бок почеши — и повалится город князя Михайлы с тыном и башнями.
Ждан увидел ватажных товарищей, они пробирались меж водяных луж к городу. Ждан их догнал. Упадыш сказал, что князь Михайло прислал дворового слугу, велел идти на княжеский двор.
Обходя тропкой непролазную грязь, добрались скоморохи к воротам под проезжей башней. В городе дворов всех было десятка полтора, жили в них бояре и ближние дворовые княжеские слуги. Дворы подстать всему городу: в одном замет развалился, в другом ворота сорваны, створки кинуты в грязь, чтобы не увязнуть в воротах коннику. Упадыш оглядывался по сторонам, ухмылялся, кивал Ждану:
— Ой да бояре, у московских посадских избы краше.
Высокие хоромы князя Михайлы видны от городских ворот. Когда подошли ближе к княжескому двору, увидели, что и хоромы одно горе, просторные, но обветшали вовсе. Один угол осел, ступени перед боковым крылечком провалились, тес на кровле густо порос мохом.
По шатким ступеням за дворовым слугой поднялись скоморохи на крыльцо. На крыльце подождали, пока слуга ходил в хоромы спросить князя — впускать ли веселых. Вернулся он скоро, сказал, чтобы шли.
В столовой хоромине было полутемно. За столом, по обеим сторонам, сидели на лавках бояре князя Михайлы. Упадыш с товарищами со свету сразу не разглядел, кто из сидевших хозяин, князь Михайло, кому отдавать большой поклон. Дворовый слуга толчком поворотил его куда следовало.
Князь Михайло Андреевич сидел за столом, посередине, на своем хозяйском месте. Борода скучно висела, глаза глядели невесело, остальные гости тоже не видно, чтобы были рады княжескому пиру… Пока пели хозяину славу, Ждан успел разглядеть и столовую хоромину и то, что было на столе, и одежды княжеских бояр.
Хоромина была просторная, но убранство в хоромине скудное. На поставце стояли две малые серебряные чарки, лавки были крыты истершимся цветным сукном, кафтан на князе Михайле травяного цвета с алым козырем тоже казался вытертым, точно траченным молью, жемчужное шитье потускнело, видно, что кафтан бывал еще на плечах у деда князя Михайлы, и, должно быть, уже доживал свой кафтаний век. У бояр тоже одежда, хоть и цветная, но ветхая, ношенная не отцами, еще дедами.
Упадыш, вздев к потолку глаза, думал, какой песней потешить гостей. Гости — видел, хоть и хватили уже хмельного, но глядят невесело, по делу бы следовало играть песни веселые, чтобы распотешить бояр, да в праздник великоденский ни один самый разудалый веселый молодец не возьмет на душу греха, не станет играть потешную песню. Когда окончили славу, Упадыш шепнул Ждану, заводить песню, ту, какую пел он в Москве перед судной избой. Ждан вполголоса начал зачин:
Князь Михайло от песни совсем заскучал и еще ниже склонил над ковшом никлую бороду. И словами и голосом, видел князь Михайло, песня была гостям по душе, у самого же под сердцем зашевелилась досада. Будто только и супостатов, что татары. Покойный великий князь Василий был для сидевших в уделах младших князей похуже поганого хана. У хана всяк хорош, кто вовремя дает дань. От великого князя одними подарками и деньгами не откупиться, так и смотрит — как бы у кого из младших князей удел оттягать. Князь Михайло стал перебирать в памяти, какие города уже прибрали московские князья к рукам. Ох, довольно! В Можайске совсем недавно сидел родной брат Михайлы — князь Иван Андреевич. Вздумал Иван против воли великого князя Василия идти, и мыкает теперь горе в Литве, а в Можайске сидит московский наместник. И другой князь Иван — сын Василия Ярославича соседа, боровского владетеля — едва ноги унес и тоже в Литве горе мыкает. У родителя его отнял князь Василий отчины Углич, Козельск и Городец. Вздумал было и сам господин Великий Новгород против великого князя подняться, послал князь Василий в новгородские пятины московскую рать, и пришлось господину Великому Новгороду идти на попятный. Откупились гордые новгородцы деньгами, и дали клятвенную грамоту слушаться во всем великого князя, с врагами Москвы дружбы не водить и черную дань и судебные пошлины платить московским наместникам, как прежде платили…
А Ждан пел:
Князь Михайло вздохнул: «Горе! От татар горе, а от Москвы вдвое». Защемило под сердцем, когда думал, что, может быть, не за горами время, придется брать оскудевшую отчину и ехать на поклон в Москву, бить челом на службу великому князю. А князем великим сидит в Москве двоюродный племянник Иван. Может случиться, и челом бить не придется, пришлет племянничек в Верею своего наместника, а дяде велит жить перед своими очами в Москве, чтобы не вздумал дядя с Литвой переведываться и на Москву крамолы ковать. Хорошо еще, если станет племянник держать дядю в чести, как держит своих бояр, а то, чего доброго, посадит за караул, как родитель его Василий шурина, боровского князя, посадил.
У Ждана скорбный голос повеселел, когда запел он о красной Москве, всем городам городе.
Гости встрепенулись, слушают скомороха: кто с грустью, кто хороня в бороде злую ухмылку, косит глазом на князя Михайлу. Думы у всех невеселые. Год от году скудеют младшие князья. Оскудеет князь — и боярам княжеским не житье. Только и званья, что бояре, а кафтанишка цветного и того справить не за что. У великого князя в Москве бояре на пиру из серебряных чар пьют, а у Михайлы и оловянных не хватает, черпают гости мед липовыми корчиками, точно мужики-пахари на братчине. Князь Михайло не скуп, и рад бы верных своих бояр одарить, да чем одарить, когда сам у Дубового Носа, купчины московского, по макушку в долгу. Пояс отцовский, золотом кованный, и крест золотой в заклад Дубовому Носу свез. Отъехать бы куда к другому князю? Да куда подашься? И двор насиженный бросать не охота, и другие удельные князья бояр своих не в большой чести держат. Везде скудость! В Москву податься — тоже чести мало, у великого князя дворовых слуг довольно. Поместят где-нибудь за тридевять земель от Москвы, хорошо, если окажутся на земле мужики, а то верти мозгами, как бы пахарей к себе залучить.
Князь Михайло поднял голову, глаза стали круглыми, как у разозлившегося кобчика: «Москва! Москва! Куда ни кинься, — везде Москва поперек стоит». Еще с князя Ивана Калиты повелось: сунется какой-нибудь обиженный удельный князь в орду, станет нашептывать ханским мурзам: «Великий князь войско собирает, хочет на орду войной идти». Мурзы и слушать не хотят, знают — с захудалого удельного князька много не возьмешь, Москва не одарит богато, — и отъедет князек ни с чем. Брат Иван Андреевич, можайский князь, и другой князь Иван думали в Литве у короля Казимира найти управу на Москву и мечом вернуть наследственные свои города, и даже грамоту написали: если выгонят великого князя из Москвы, Ивану Андреевичу сесть в Москве, а Ивану младшему владеть своей отчиной по-прежнему. Дело однако стало за малым, не было у дружков рати воевать Москву.
— Москва! Москва! — с досадой думал князь Михайло, — добро, когда бояре великого князя Москву славят, а то и скоморохи от том же песни завели.
На щеках князя Михайлы под самыми глазами заалел румянец, князь Михайло тряхнул головой, стукнул о стол ладонью:
— Будет!
Ни Ждан, ни Упадыш, подыгрывавший Ждану на гуслях, не слышали хозяина. Ждан заливался соловьем во весь голос, пел о Москве, собиравшей под свою руку младшие города. Князь Михайло поднялся, затопал ногами, закричал так, что у веселых молодцов в ушах зазвенело:
— Вон! Выбивай их, собак, вон!
Бояре вскочили, ошалело пяля глаза и налезая в тесноте друг на друга, толкали скоморохов куда попало. У Клубники сломали гудок, у Упадыша выбили гусли. Чунейко Двинянин застрял в узкой двери, боярина, толкавшего его в загривок, лягнул так, что тот отлетел в угол. В сенях выскочили из прируба дворовые слуги. Двинянин только показал им кулачище, и те попятились перед веселыми молодцами. Когда были уже во дворе, Клубника остановился и весело подмигнул:
— А и кислый же у князя Михайлы мед.
Скоморохам пришлось еще неделю жить во дворе Семы Барсана. Дороги и тропы не подсохли, нечего было и думать пускаться в путь. Пасхальная неделя проходила скучно. Один раз играли песни на братчине у верейских посадских и один раз у пахарей. Но ни у посадских, ни у пахарей настоящего веселья не было. И посадские, и пахари жили в Верее, перебиваясь с хлеба на воду. Куда ни повернись, везде надо было платить пошлину. Вздумает мужик пиво или мед сварить, гостей на крестинном или свадебном пиру попотчевать, или родителя помянуть, бьет князю Михайле челом, чтобы дозволил. Сложатся посадские, чтобы братчиной почествовать николин или другой день, какая же братчина без хмельного, и идет посадский староста на княжеский двор, бьет челом, а заодно и поминки несет. С каждого жбана хмельного платили мужики князю Михайле пошлину. Оттого на братчинах и было пива и меду только-только усы обмочить.
Ждан без дела не оставался. Сидят веселые молодцы в избе, позевывая, перекидываются словами, а Ждан возьмет гусли, уйдет подальше к реке Протве, примостится на бугорке, положит на колени гусли, тихонько перебирает струны, складывает наигрыш новой песни. Упадыш его ни о чем не спрашивал. Знал, пока не сложит Ждан песни и не приспособит наигрыш, — до тех пор ничего не скажет.
Прошла пасхальная неделя. В понедельник на Красную Горку скоморохи поднялись чуть свет, надо было поспеть и девок потешить, когда станут они кликать весну, и на жальник.
На кликанье ватажные товарищи припоздали. Когда пришли они на луг, солнце уже выбралось из-за бора, и заливало все кругом веселыми лучами. За околицей девки готовились водить хоровод. Одна стояла в кругу посередине. В одной руке девка держала круглый хлебец, в другой — яйцо, крашеное в желтое. Высоким заливающимся голосом девка пела:
Солнце золотило высокий кокошник кликальщицы и сама она, румянолицая и высокогрудая, озаренная ранним солнцем, казалась красной весной, явившейся, чтобы прогнать зиму, еще кое-где белевшую последними сугробами сквозь лесную чащу, на той стороне.
Ждан стоял и не мог оторвать от кликальщицы глаз. Клубника подмигнул ему: «Лебедь белая». Девки подхватили припев, взяли друг дружку за руки, пошли хороводить. Парни обступили хоровод, угадывали какой душе-девице доведется быть осенью в суженых. Девки показывали белые зубы, вполголоса перекидывались с парнями задиристыми словами.
Кликальщица прокликала в последний раз, взмахнула белой рукой, кинула на землю пасхальное яичко. Скоморохи только этого и ждали, грянули веселую. Парни вломились в круг, у каждого уже была на примете душа-девица, другие любились еще с прошлой весны. У душенек лица стали нарочито суровыми, каждая рада-радешенька дружку, но показывать на людях радости нельзя, поплыли в плясе. Ждан перебирал струны гуслей, а сам не отрывал глаз от кликальщицы. Она стояла в стороне и, щуря от солнца глаза, смотрела на плясавших подружек. Ждан подумал, что должно быть, красавице не нашлось под пару дружка.
Солнце поднялось совсем высоко, ласковое, весеннее, красное солнышко. Ждан вспомнил, когда был он монастырской служкой, плясал с Незлобой в купальскую ночь у Горбатой могилы. Стало грустно и радостно. Была ласковая Незлобушка и нет ее, была Белява и та оставила дружка на гореваньице, сама похоронила себя в темной келье, замаливает грех. Эх, где вы, утехи, ночные, нежные! Ждану стало жаль себя, глаза затуманились, пальцы сами перебирали струны.
Скоморохи играли на лугу недолго, девки и парни торопились по дворам, а оттуда — на жальник — поминать мертвецов. Скоморохи тоже пошли к жальнику. На жальнике, за огорожей, среди леса намогильных крестов, толкался народ. В руках у баб коробейки со съестным, у мужиков — сулеи с вином, кувшины с медом и пивом.
Между могилок шныряют попы, побрякивают железными кадильницами, предлагают за малую деньгу, а кто за калач и полдесятка яиц, отпеть панихиду. За попами бродят по пятам в темных жалельных[6] шушунах бабы-вопленицы. Только мужик раскрывает рот: «Помяни, отец, панихидкой родителя, раба божьего», поп дует на кадило, раздует угли, походит вокруг могилки, помотает кадильницей, побормочет под нос и тянет руку: «Давай, что уговорено». А тут вывернется вопленица, поголосит над могилкой и тоже тянет руку: «И мне, милостивец…».
Когда ватажные товарищи пришли на жальник, поминовение уже давно началось. Поминальщики, помянув покойников молитвой, расставляли на могилках снедь, сулеи и кувшины с хмельным. Кое-где родичи уже пускали вкруговую первую поминальную чашу. Кое-кто тянул скоморохов за кафтан, зазывая. Упадыш от угощения отнекивался: «Повремените, люди добрые, как станет поминанье к концу, тогда зовите». Веселые товарищи знали, что Упадыш хитрит, боится — если начнут ватажные молодцы спозаранку угощаться, когда придет время православных потешить, — не то песни играть, и лыка не свяжут.
Солнце стало в полдень. Народу на жальнике собралось густо, точно на торгу. Гнусавят попы, бряцают кадильницы, у могилок чавкают и гомонят поминальщики, а над гомонящим людом и деревянными крестами плывет синий фимиамный дым, лезет в нос хмельной медовый и пивной дух, мешается с весенним запахом древесных почек и сырой земли. Упадыш сказал, что пришло время играть песни. Стали скоморохи в стороне, начали приспосабливать гудки, тихонько насвистывать в дуды. Только заиграли, со всех сторон воронами налетели попы. Было их шестеро. Трясли попы бородами, дружно гаркали:
— Сатаны прислужники!
— Семя дьяволово!
— Пошто православных от молитв заупокойных отбиваете?
А один, дикого вида, гривастый и хмельной, с бородищей до пояса, выхватил из огорожи кол, полез в драку. Двинянин плечом оттеснил попа.
— Пошто, отец, цепляешься, чем я тебе повинен?
Поп махнул колом, вышиб у Двинянина гудок. Чунейко обозлился, сунул попу в брюхо кулаком. Поп икнул, выронил кол, сел на землю, замызганная епитрахиль свернулась набок. Сидел поп, упершись руками в землю, грива разлохматилась, сползла на глаза, лаялся поп на чем свет стоит, матерно. Народ хлынул глядеть на свару, скоморохов и попов обступили. Одни стали за попов, другие за скоморохов. Упадыш смекнул, что без даяния дело не выйдет, не дадут попы играть на жальнике песен. Оставив ватажных товарищей перепираться с попами, Упадыш сам выбрался из толпы, стал искать поповского старосту. Тот стоял в сторонке, как ни в чем не бывало глядел в небо. Упадыш побрякал монетами, сложил ладони лодочкой, на ладони было даяние.
— Благослови, отец… — И совсем тихо: — Вели своим попам зацеп не чинить.
Поповский староста махнул широченным рукавом, сгреб деньги, крикнул попам, чтобы шли петь панихиды, с веселыми молодцами управится он сам. Попы отходили неохотно и ворча, хмельной поп, тот, которого Двинянин ткнул в брюхо, не отходил. Поповский староста схватил его за ворот, оттащил силой. Упадыш знал, цепляться попы теперь не станут, все же ватажные молодцы отошли подальше. Песню заиграли веселую. Поминальщики и поминальщицы, уже угостившиеся толком, пошли приплясывать: пусть и покойнички, глядя на земное веселье, порадуются в сырой земле.
Проиграли ватажные товарищи заводную песню, и со всех сторон потянулись к ним руки с чашами, чарками, ковшиками. Каждый просил не обессудить, выпить за упокой души. Выпивши, сели с поминальщиками перекусить. Потом играли опять. Попы, покончив с панихидами, одни угощались в кругу поминальщиков, другие, собрав поминальные калачи и пироги, разбрелись по дворам.
Ватажные молодцы, каждый раз сыграв плясовую, садились угощаться. У Ждана уже кругом шла голова. Он взял гусли, сказал, что будет петь новую песню, какую недавно сложил, дернул струны, запел во весь голос:
Народ сдвинулся плотнее, по зачину догадались, что песня про князя Михайлу будет смешная. Хмель кружил Ждану голову, он понесся точно молодой конек, не чуя узды.
В толпе кто-то хохотнул. Ждан прибавил голоса, пел о том, что дани и оброки с мужиков князь Михайло берет великие, а в сундуках у князя, сколько ни давай, все пусто. А потом опять, как провожал князь веселых молодцов тычками.
У мужиков от смеха дрожали усы. Веселый молодец попал князю Михайле не в бровь, а в самый глаз, хоть и не сказал, отчего у князя в карманах пусто, не каждое слово в песне поется.
Смех смехом, а мужикам под князь Михайловой рукой и кисло и горько. Как не быть княжеским карманам пустыми, если бояр и слуг дворовых на княжеском дворе столько, и всем и есть и пить надо. Да питья и еды одной мало, еще подавай каждому цветной кафтан. С сохи дань давай, с дыма — дай, с борти мед и воск неси, да повозное, да мыть, да тамгу, да за пятнение животины. И в оброк еще и овчины, и белки, и куницы, и масло, и сыр. А с девок и баб — полотно. Кроме дани князю и оброка боярину, плати еще и митрополичьему десятнику. Мужик один, а даней и оброков — пальцев не хватит пересчитать. По-настоящему не смеяться надо, а плакать, только начни над мужичьими бедами плакать — и слез не хватит, со смехом же и беда не в беду. Потешно веселый молодец поет, как бояре князя Михайлы вместо меда, проводили скоморошков тычками.
Ждан опустил гусли, вскинул на мужиков глаза, от хмеля озорные:
— Чуйте теперь, люди добрые, песню, какая князю Михайле не по нраву пришлась, чего ради пожаловал князь скоморошков коленом в гузно.
Провел по струнам, запел о красной Москве, всем городам городе, собирательнице земли светлорусской. Мужики слушали не дыша, голос и слова, казалось, прямо забирали за душу, у захмелевших даже хмель стал проходить. Когда Ждан кончил петь, знали, чего князь Михайло велел боярам проводить скоморохов тычками. Поперек горла стала Москва князю Михайле, а идти ему под московскую руку горше смерти, а пахарям и всему черному люду здорово. Москва для черных людей куда милостивее удельных князей. Со всех сторон поднялись руки с деревянными ковшиками и чашками:
— Выпей, молодец, сыченого.
— Наш мед сладкий, не то, что у князя Михайлы.
— Выпей, чтоб было все, как в песне говорится.
— Чтоб собралась земля светлорусская под московской рукой.
Говорили все наперебой, Ждан чуть пригубливал ковшик или чашу, но чаш и ковшиков было столько, что и от пригубления все пошло кругом. А люди все тянули и тянули руки с чашами и ковшиками:
— И со мной, молодец, выпей.
— Здоров будь.
— И со мной пригуби.
Упадыш увидел — станет Ждан пригубливать со всеми, упьется и до двора не дотянется, мигнул Двицянину и Клубнике, чтобы играли плясовую. Набежали девки и бабы, закружились в плясе. Прошла мимо девка, та, что кликала весну, повела на Ждана глазами, и взгляд был не гордый, как за околицей, когда стояла она посреди хоровода, а зовущий и ласковый.
Когда стало солнце клониться к закату и от крестов легли на могилки тени, народ потянулся по дворам. Ждан пошел искать кликальщицу, знал — не спроста глядела ласково, ждет где-нибудь в березках. Найти красную девицу не успел. Догнал его Сема Барсан, выпалил одним духом:
— Беда, Ждан! Сведал князь Михайла, что ты про него песню поносную пел. Велел дворовым людям тебя схватить и в поруб[7] кинуть. Да и товарищам твоим не поздоровится.
Подошли Упадыш с Двинянином и Клубникой. Упадыш, когда услышал весть, махнул рукой:
— Веселым людям пути-дороги не заказаны.
Ночь скоморохи переночевали у ближнего мужика бортника. Туда же Сема Барсан притащил им утром и мехоношин мех.
Лесными тропами и дорогами двинулись скоморохи в путь.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |