"Сказки темного леса" - читать интересную книгу автора (Djonny)
Старуха и её макраме
Прошла пара лет, но не нашлось никого, кто бы пожелал нам помочь. Сказки остались сказками, слухи слухами, а ролевые игры были также далеки от нас, как луна. Но луну мы видели часто, а игры продолжали быть скрыты от нас. Наш первоначальный интерес не угас — как костер, пищей которому служили чужие слова, он продолжал тлеть, ожидая своего часа. Временами, пробираясь в помещение секции фехтования за новой партией эспадонов и рапир заместо сломанных, я думал — когда же уже? Но время шло, и мы, следом за ним, не стояли на месте.
Толкиена мы прочитали, и это сказалось, но было и ещё кое-что: в озере наших интересов открылся ключ, вот только воды в нём не было. Мы начали запой, которому суждено было длиться всю ближайшую десятилетку — и этанол вобрал в себя, преломил и растворил всё, чего мы касались. Алкоголь стал для нас другом и защитником, ибо подлинно сказано: «Всё — ты, и ничего без тебя».
Спиртное вошло в нашу жизнь стремительно и мощно — словно распахнулись ворота рая, отпустившие на волю бешеный ветер и ослепительный свет. Еще вчера мы были просто увлекающимися детьми, но с сегодняшнего дня начали стремительно взрослеть. Начав пить, мы больше не останавливались, подобно стартовавшей стреле, для которой немыслимо поворотиться вспять и снова вернуться на тетиву.
Я до сих пор помню свой первый глоток спиртного — огненное причастие, навсегда изменившее трогательный мир моего детства. Словно кровь братства,[3] обещающая бессмертие, алкоголь стер наши прошлые жизни, взамен подарив нам по новой. Пройдя рубеж, мы стали смотреть на мир совсем другими глазами, впервые соприкоснувшись с новым для себя чувством — нестерпимой жаждой спиртного. А самые первые наши «алкогольные опыты» были такие.
Под Питером есть такой лагерь — «Зеркальный»,[4] второй по значению пионерский лагерь в стране после знаменитого «Артека». Это чудное место с обширными собственными традициями, где помимо «красных» смен вздумали проводить еще и «зеленые». На несколько таких смен ездили я и мой друг Костян, а также наши коллеги по биологическому кружку — Рыпаленко и Пушкарев. Это были так называемые «зимние смены», когда счастливые дети не только живут, но и «учатся» в лагере. На самой первой смене мы были еще слишком маленькие, чтобы воткнуться в расклад, но на следующий год Рыпаленко привез с собой пять банок сахарной браги. Именно она и заставила нас «проснуться и открыть глаза».
В Зеркальном даже «зеленая смена» не свободна от подозрительных зомбирующих традиций. Важнейшая из них — так называемое «вечернее отрядное дело», когда вожатый собирает отряд в темной рекреации и начинает усиленно промывать детям мозг. Сначала все садятся кружочком, а потом вожатый зажигает в центре свечку и начинает «гнать»:
— Эта свеча символизирует сияющую, чистую душу зеркаленка! — со значением говорит он. — Глубоко вдохните и как бы вберите в себя ее свет! Чувствуете, как он наполняет все ваше тело? Свеча горит сегодня не просто так — она хочет помочь вам рассказать отряду о себе, о своих надеждах, волнениях и тревогах. Выйди вперед, Пушкарев, и скажи нам …
Пока мы были маленькие и не пили, мы велись на это говно, но взращенная на «теплаке» брага быстро расставила все по своим местам. Первый же стакан этой пенящей жидкости освободил наш разум, сделав глаза и уши свободными. Брага потушила неверный свет «зеркалятской души», подарив нам весь мир взамен этого мутного светоча. Вместо него в наших душах вспыхнули пары алкоголя — синее пламя ада, в свете которого россказни вожатых мгновенно потеряли всякую силу.
— Ребята, на отрядное дело! — прогнусавил в один из таких дней местный «шнырь»[5] заглядывая в двери нашей комнаты. — Только вас и ждем, все давно уже собрались! Комната у нас была одна на четверых — пружинные кровати и несколько тумбочек, доверху набитых банками с брагой. Лично мне хватало тогда трехсот грамм, чтобы упиться «в говно», а поллитрой я мог довести себя уже до «полного отрубона». Поэтому слова «шныря» не произвели на нас особого впечатления — мне неожиданно стало похуй не то что на «отрядное дело», а и на самих вожатых и на весь этот ебучий отряд. И, видно, не мне одному.
— Пошел отсюда! — прикрикнул на «шныря» Костян. — Пока мы не встали и не дали тебе пизды!
— Ах вот как! — рассердился «шнырь». — Ну я вам …
Но что «он нам», «шнырь» придумать так и не смог. Мы легко дали бы ему пизды, и «шнырь» неожиданно для себя очень хорошо это понял. Так что пришлось ему убираться ни с чем, а у нас появился опыт отстаивания собственных прав с помощью «угрозы пиздюлей». Впоследствии нам это очень и очень пригодилось. Но в тот раз дело на этом не кончилось.
В Зеркальном у вожатых не принято самим врываться в комнаты к детям и орать.[6] И если уж кому-нибудь дали поручение привести ребят на «отрядное дело», то за неявку «взъебут» в первую очередь нерадивого посыльного. «Шнырь» это знал, потому и принялся нас «заебывать» — открывать дверь на несколько секунд и орать:
— Вы что, блин, не слышали? На отрядное дело!
На третий раз терпение у Костяна истощилось. Вынув из-под подушки финку, он хлестко метнул ее в назойливого «шныря». Метать ножики мой друг умел с детства, так что «шныря» спасло только то, что он вовремя закрыл дверь. Нож пробил тонкую филенку и застрял в фанере аккурат на уроне его лица.
На эту смену с ножами приехала вся наша четверка, а у Костяна была с собой еще и цепь с амбарным замком, пропущенная через ручку от велосипедного насоса. Вскоре нам очень пригодился этот нехитрый инвентарь.
Через два дня меня поймал возле нашей двери какой-то хмырь, года на три меня старше. Это был активист из «красных», которого хитроумные вожатые попросили «повлиять» на дерзких нарушителей лагерного режима.
— Ну, ты! — заявило мне это хуйло. — Знаешь, я могу ударить тебя ногой вот сюда! С этими словами он прикоснулся пальцами к моей голове и сделал «страшное лицо».
— Все понял?! — переспросил он. — А?!
— Хуй на! — спокойно ответил я, так как был всего в шаге от дверей нашей комнаты. — Сейчас мы с тобою поговорим! Тут я трижды постучал каблуком в дверь, как у нас было условлено.
— Что ты … — взбеленился мой собеседник, но ему не дали как следует развить свою мысль. Высыпавшие из комнаты товарищи окружили активиста плотным кольцом, уперев ему в бока лезвия длинных ножей.
— Ну что, сука? — спросил у нашего «гостя» Костян. — Будешь еще нас заебывать? Товарищи по двору успели привить Костяну правильные понятия, так что на людей с «красной смены» он смотрел теперь как на конченую мразь.
— Ага! — обрадовался я, взяв у Рыпаленко из рук мой собственный нож и поворачиваясь к активисту. — Знаешь, я могу ткнуть тебя ножом вот сюда! И сюда тоже!
С этими словами мы принялись приставлять ему ножики к различным частям тела. Активист вяло сопротивлялся, но без особого успеха, так как своего ножа у него не было.
— Не дергайся, а то мы тебя зарежем! — сурово заявил Костян. — Стой спокойно, или тебе пиздец! Зарезать мы бы его, конечно, не зарезали, но активисту неоткуда было об этом узнать. Пришлось ему позорно терпеть унижения от малолеток, благодаря чему мы записали в свои «дневники» еще одно правило: «старше тот, кто с ножом». Так что на время все успокоилось, пока мы с товарищами не придумали ограбить в нашем отряде «сладкое место».
«Сладкое место» — немаловажная вещь для каждого зеркаленка. Это шкаф посреди коридора, куда вожатые складывают отнятую у детей еду — килограммы конфет, мешки пряников и многое другое. По традиции, все это богатство распределяется между членами отряда в равных долях, да вот беда — мы больше не считали наших сверстников «своим отрядом».
Поэтому ближайшей же ночью мы «выставили сладкий шкаф» — выгребли все подчистую, оставив на полках лишь мешок каменного овсяного печенья, валяющийся там еще с прошлой смены. Кому-то это может показаться мелочью, но в масштабах Зеркального ограбление «сладкого места» — это наихудшее ЧП. Хуже будет, если только в старших отрядах запалят на ёбле какую-нибудь неосторожную девочку.
— Произошла трагедия! — толковал на утренней внеплановой линейке один из вожатых. — Кто-то предал своих товарищей и украл всю еду из отрядного «сладкого места»! Есть единственный способ исправить эту беду — выйти вперед и прямо сказать отряду о своей ошибке! Мы даем этому человеку время подумать, а до этой поры весь отряд будет стоять и …
Что это за «и», мы так и не узнали. Потому что Костян тут же шагнул вперед и уверенным голосом заявил:
— Я уверен, что в нашем отряде «крыс» нет! Как вы вообще могли на нас подумать? Несмотря на собственные рассуждения по поводу «актива», Костян занимал в своей школе должность командира отряда. А следовательно, умел говорить с администрацией как бы «от лица всего коллектива».
— И товарищи со мною согласны! — вещал Костян особенным «пионерским голосом», от которого лично у меня слезы наворачивались на глаза. — Я абсолютно уверен, что это сделали ребята из другого отряда!
Такая постановка вопроса сделала задуманный вожатыми «моральный прессинг» невозможным. Вряд ли нам удалось их обмануть, но знать наверняка они не могли, а одних подозрений было явно недостаточно. Так что им ничего не оставалось, кроме как согласиться с Костяном. Ведь в противном случае они бы противопоставили себя «отряду в целом», что для вожатых Зеркального совершенно недопустимо.
На следующую ночь словам Костяна вышло самое что ни на есть конкретное подтверждение. Неизвестные хулиганы ограбили за одну ночь еще четыре «сладких места», причем все — в нашем корпусе. Так что шмон наутро был уже на весь лагерь.
— Некоторые зеркалята стали не такими, как были прежде! — причитала на линейке одна старая мегера из администрации. — Но мы верим, что изменились не все! Я обращаюсь к тем, кто это сделал — осталась ли у вас хоть капля совести?! Пусть самый смелый из вас выйдет вперед и скажет, почему он это сделал! Он не понесет никакого наказания, а мы вместе с другими ребятами будем думать: как помочь этому человеку? Что мы можем для него сделать? Не могу сказать, чтобы тогда мне было легко все это слушать. Это сейчас я могу врать, глядя прямо в лицо следователю, а тогда совесть еще имела надо мной власть. Слова старой суки падали, словно гранитные глыбы, сгибая мои плечи и вбивая в горло предательский ком. Еще немного, и я бы сломался — но тут дух, что сидит на дне бутыли с брагой, заговорил со мной, зашептал мне прямо в левое ухо:
— Воспрянь духом, тебя же просто разводят! — в услышанном мной голосе чувствовалась уверенность и жестокая сила. — Ты отпил от меня, поэтому я убью твою совесть и заберу твой страх! Посмотри, чего ты боялся!
При первых же звуках этого голоса словно судорога прошла по моему телу — один краткий миг, и я полностью изменился. Цепкая совесть разжала холодные когти, с плеч упал многотонный груз, а голос старой мегеры стал просто далеким, ничего не значащим карканьем.
— У нее ничего на тебя нет, она просто тянет время, — твердил голос. — Пока вожатые шмонают все палаты подряд! Но ведь ты к этому готов?!
Разумеется, я был к этому готов. Еще бы нет — все награбленное мы еще вчера спрятали в общей сушилке, а целую кучу фантиков и горсть самых невкусных конфет подбросили в соседний отряд. Так что голос был прав — беспокоиться было не о чем. Когда я понял это, во мне родилось собственное понимание чести — сильное чувство, испытав которое, человек никогда больше не станет самого себя предавать.
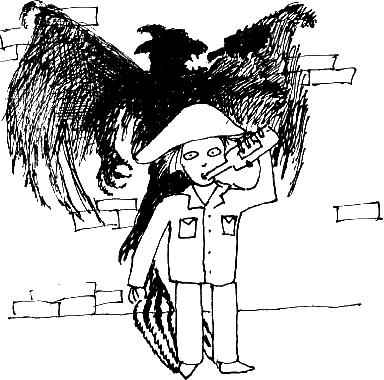 |
На следующий год меня в Зеркальный уже не взяли. Тогда я и мой школьный товарищ Саулин приехали туда как бы на выходные, чтобы тайно гостить в палате у «прорвавшегося» на эту смену Костяна. К тому времени мой одноклассник Ордынский уже побудил меня завязать с брагой и взяться за спирт. Так что мы взяли с собой две литровых бутылки спирта «Royal», здорово переоценив таким образом свои юные силы.
За три дня, что мы провели в главном корпусе, мы довели администрацию лагеря не то что «до слез», а скорее уже «до поноса». Две бутылки «Рояля» для детского коллектива подобны атомной бомбе: и шума много, и убивает наповал. Нас всерьез начали ловить, так что нам с Саулом пришлось бежать из корпуса и скрываться на территории лагеря.
Стояла лютая зима, и, чтобы не подохнуть, мы с Саулом прорубили топорами стену в летний спортзал, забрались внутрь и взялись за обустройство «нашего нового быта». Спортзал находится метрах в четырехстах от главного корпуса, по дороге к озеру — прямоугольное строение посреди привольного соснового леса.
Первым делом мы с Саулиным навалили матов поверх батутной ямы, чтобы получилось некое подобие медвежьей берлоги. В ней можно было жечь костер без опасения, что его свет случайно заметят. Топили мы в основном паркетом и шведскими стенками, а срать ходили прямо на другой конец огромного зала.
Иногда мы пробирались в корпус, чтобы взять еду, собранную для нас Костяном, или спиздить возле столовой бак горячего «утреннего кофе».[7] Все это мы сопровождали такими попойками, что Костяну под конец тоже пришлось бежать из отряда и перебираться на жительство в спортзал. Однажды местный сторож учуял тянущийся из спортзала дымок, отомкнул навесной замок и ворвался в помещение. Спорим, что он и представить себе не мог, какая картина откроется его престарелым глазам.
Огромный зал был пустынен — если не считать нашей «берлоги», от которой на десяток метров тянуло удушливой гарью. Батутная яма была завалена огромным количеством матов, большая часть из которых к этому времени уже прогорела. Паркет вокруг был сорван, обнажая желтые доски, на которых опочили сорванные со стен и изуродованные до неузнаваемости остатки «шведских стенок». Валялось несколько пустых баков из-под «кофе» и целая куча битой посуды. Дальний угол зала больше напоминал общественный туалет — до такой степени мы все там загадили. А больше сторож не увидел ничего, так как мы к этому времени уже успели вылезти через дырку в противоположной стене.
Но перед тем, как окончательно покинуть Зеркальный, мы задумали и осуществили еще кое-что. В лагере есть несколько высокочтимых традиций, причем одна из них связана с расколотым пополам валуном, торчащим из воды у самого берега озера. Этот валун называется «Разбитое Сердце», и местные легенды сообщают о нем вот что: «Тот зеркаленок, который найдет на поверхности Разбитого Сердца „теплое место“, сможет загадать желание, которое в будущем непременно исполнится». Причем «теплое место» следует искать не как-нибудь, а ползая по камню и прижимаясь к нему собственной щекой.
Приближался пересменок — нынче целые отряды зеркалят перли на берег озера, чтобы облепить торчащий из-подо льда исполинский камень. Так что мы с Саулом и Костяном задумали недоброе. Обпившись холодного чаю, мы заняли позицию на берегу озера, совсем неподалеку от Разбитого Сердца. И как только очередной отряд показывался из-за спортзала, мы прыгали на камень и живо «обоссывали» обе его базальтовые половинки.
С прятавшись на берегу, мы с наслаждением наблюдали, как зеркалята прижимаются к камню лицом, силясь отыскать на нем заветное «теплое место». Сегодня у многих это выходило на удивление легко, так как мы старательно подогревали поверхность камня своими струями. Но были и такие, кто быстро воткнулся в не совсем приятный расклад и тут же пожаловался вожатым. Так что в конце концов пришлось нам из Зеркального бежать.
Нужно было спешить, и в ход пошли не только алкоголь, но и транквилизаторы. Особенно транквилизаторы. Мы приобретали их за гроши у одной старухи на площади Мира, перед аптекой. Бабка торговала для виду нитками из картонной коробки, но под ними — димедрол в бумажных пачках, реланиум в лафетках и иногда — красные торпедки с тареном. У старухи была полным-полна коробочка — почти все «зепамы» (нитразепам, диазепам и феназепам), корректоры (паркопан «второй», «пятый» и циклодол), а иногда попадались и антифобийные средства навроде сигнопама. Временами, в хороший день, могло повезти, и старуха вынимала из коробки бодрящий сиднокарб. Маленькие круглые друзья стали нашими постоянными спутниками, и определился даже основной, рабочий метод: бутылка лимонада 0,5 на единицу «Красной Шапочки»[8] плюс шесть таблеток феназепама; циклодол или паркопан добавлять по вкусу.
Кто не пробовал подобный коктейль, может и не знать всех его прелестей. Но тот кто пробовал, знает: после него в голове остается лишь тяжелый сумрак беспамятства, рассеченный на части вспышками каких-то странных, ни с чем не сообразных событий. Эти эпизоды — как дурной сон: то ты тонешь в пузырящемся, ставшем вдруг жидком полу (димедрол), то ловишь в циклодоле вылетающий из ванны таз с бельем, то гуляешь у себя перед домом с собакой, которую никто кроме тебя почему-то не видит.
Один из первых случаев нашего соприкосновения с миром токсикомании был ознаменован наступлением эры тотального ужаса. Это был, конечно, не такой ужас, как, скажем, в «Звездных Войнах». Там всё было покруче — когда створ шахты реактора старые пидарасы из звездосмертостроительного КБ имени товарища Вейдера вывели в приёмную Императора. Но вышло, на мой взгляд, немногим хуже.
Между второй и третьей парой в нашей расчудесной школе по всеобщему располагу был перерыв на обед. Учились мы в отдельном крыле, соединяющем главное здание ДТЮ[9] с театрально-концертным комплексом, по принятой аббревиатуре — ТКК. В подвале последнего располагалась столовая, куда мы ходили каждый божий день, только вот бога не вспоминали. Однажды по пути в столовую мы встретили нашего одноклассника Богдана. С лицом, несущим печать неземного блаженства, он развалился на кушетке в коридоре. В нашем классе Богдан был на передовой, причем сразу по двум направлениям: вряд ли кто лучше него умел налаживать отношения со сверстницами, и он был первый, кто на себе опробовал инъекционную наркоманию. Так что на кушетке перед нами лежал, вне всяких сомнений, весьма уважаемый человек.
— Что это с тобой? — спросили мы, видя (так как имели уже некоторый опыт) что дело нечисто.
— Старуха на Мира, — заплетающимся языком ответил Богдан, — таблетки…
— Что? — удивился я, но Костян, как человек более практичный, спросил:
— Где именно и какие?
Богдан объяснил нам, где именно и какие таблетки. Сидя за чашкой кофе и наблюдая, как все вокруг жрут какие-то витамины, которые целыми пачками скармливало нам школьное руководство, мне пришла в голову свежая мысль:
— Слушай, — предложил я, — пришло время организовать фонд. Мы же, — я обвел рукой зал, — можем глотать всё это прямо здесь, ничего не стесняясь.
— Почему это? — удивился мой друг.
— Витамины! — объяснил я. — Никто ничего не заметит. Никому и в голову не придёт.
Святая наивность! Не понимал я тогда, что невозможно будет не заметить всего того ужаса, феерического и противоправного кошмара, который вскоре начнется. Потому что на собранные с одноклассников деньги мы приобрели у старухи столько таблеток, что разноцветные лафетки полностью закрыли дно Богдановского школьного рюкзака.
Я нашёл нужным выступить с речью:
— Мы, — сказал я, оглядывая класс, — вступаем в новую эру. На хуй нам учиться, если неподалёку есть такая старуха. Налетай, товарищи!
Нас в классе было восемнадцать человек, и среди них нашлись только двое предателей, вернее — предательниц, отказавшихся проглотить горсть белесых колёс и окутаться сумраком, порождающим глобальное непонимание, галлюцинации и чудовищ.
Это было чудное дело, доселе виданное только в сказках. Как будто по взмаху волшебной палочки адского Незнайки целый класс превратился вдруг в ползающих по полу, галлюцинирующих и блюющих животных. Каждый показал себя во всей красе, но описать это я не в силах — сумрак встал надо мной, и я ушел прямо с урока дорогой видений, тёмной тропой.
Трое суток волшебная сила таблеток носила меня по городу, как сухой лист. Я забирался на чердак, чтобы лечь там и лишиться сознания, а приходил в себя в сыром и темном подвале. В ужасе выбирался на свет и не мог понять, где нахожусь. Но я всё равно шёл, а когда не мог идти — полз, разговаривая по пути с какими-то странными существами.
Как я и говорил, всё это не осталось незамеченным. Более того, обстоятельства, наши извечные друзья, совпали так, что это оказалось не только замечено, но и было истолковано самым угрожающим образом. Некоторое время назад мы с Костяном, маясь бездельем и не зная, чем бы себя занять, измыслили вот какую шутку. На листке бумаги мы написали: «В 10 Б классе открыт набор в тоталитарную секту. Секта пропагандирует употребление наркотиков, алкоголя и создана с целью последующего суицида (самоубийства) членов секты. Желающие записаться могут обращаться в 10 Б класс». Полторы недели это объявление, не замеченное никем, провисело на доске возле кабинета директора, словно часовая мина, ожидающая своего времени. Оно наступило, и наш директор, Николай Фёдорович, обнаружил эту записку аккурат под занавес: вроде бы впору посмеяться, да только не хочется. Не уехали еще от школы машины скорой помощи, развозя по больницам притравленных чудесным коктейлем учеников. Было сделано предварительное врачебное заключение, базирующееся на найденных на полу лафетках: отравление элениумом, феназепамом и циклодолом.
Встал вопрос — кто за это ответит? Первым кандидатом оказалась наша классная руководительница, но она в эти дни приболела и не знала, что интересы класса стремительно изменяются — с биологии на токсикоманию.
Тут наши покровители предприняли еще одну манифестацию, подлинно явив свою мощь. Приболев на несколько дней и маясь температурой, наша классная в школе отсутствовала, а вечером приняла на ночь две таблетки элениума. Как следствие этого, на следующий день первые две пары она проспала. Телефон у неё был выключен, и когда наутро она явилась в школу, её встретил Никфёд — с побелевшим лицом и трясущимися руками.
— Где вы были, — спросил он. — Вы знаете, что случилось?
— Ах, — отмахнулась наша классная, ещё не владеющая ситуацией, — я проспала. Это всё, — решила оправдаться она, — элениум, Николай Федорович.
Это заявление почти что добило старика.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |