"Русское сердце" - читать интересную книгу автора (Северов Петр Федорович)
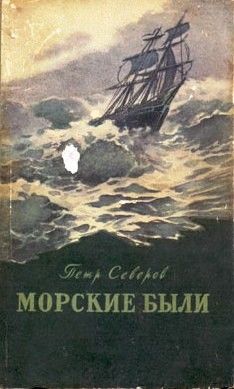 |
Пётр Фёдорович Северов Русское сердце
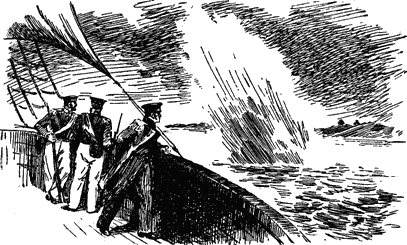 |
Лорд Маркёр, командир английского фрегата «Фосгарт», в то утро не скрывал своих чувств. Обычно холодный, необщительный, равнодушный ко всем и всему на свете, он словно переродился в течение ночи. Он пожимал офицерам руки и даже снизошёл до того, что улыбнулся раненому матросу.
Раненых на фрегате было очень много; четвёртая часть состава экипажа погибла. Но в ночном абордажном бою греческий пиратский корабль был захвачен и теперь покорно следовал на буксире «Фосгарта», и лорд Маркёр знал, что обязательно будет отмечен высокой наградой.
Лорда Маркёра особенно удивил своей отчаянной отвагой молодой русский моряк Василий Головнин, присланный недавно на фрегат для прохождения военно-морской подготовки. Едва корабли сблизились и тяжёлые острые крючья, выброшенные с фрегата, зацепились за борт вражеского судна, Головнин первый бросился на палубу пирата.
 |
Почти невероятным кажется то, что русский офицер остался невредим. Многие из англичан, что дрались рядом с ним, не возвратились. А этот смелый человек не получил даже царапины, хотя его китель был рассечён и проколот во многих местах.
После боя, уже на заре, моряки «Фосгарта» выстроились на палубе своего фрегата. Лорд Маркёр хотел проверить боевой дух экипажа. Медленно прошёл он вдоль поредевшего строя, пристально всматриваясь в хмурые, утомлённые, равнодушные лица. Нет, капитан не испытал удовлетворения. Он понимал, как много пережили эти люди за истёкшую ночь. Тем не менее он хотел бы видеть их радостными. Каковы бы ни были потери, он не мог допустить уныния на своём корабле… И снова, как в первые минуты боя, командира поразил облик русского офицера. Было что-то лихое и беспечное в сдержанной улыбке моряка, в радостном взгляде его, в том, как, оглянувшись на пленённое пиратское судно, он небрежно передёрнул плечами… Возможно, в ту минуту ревнивое чувство шевельнулось в груди англичанина: почему же все остальные на этой палубе были сумрачны и печальны?
Впрочем, лорд Маркёр тотчас же подумал, что это состояние молодого офицера легко объяснимо: люди, впервые побывавшие в серьёзном деле, сумевшие отличиться и, по счастливой случайности, уцелеть, сначала обычно не умеют скрывать душевных переживаний. Головнин, очевидно, был из таких новичков. Однако пример его и храбрость следовало поощрить перед строем.
— Я отмечаю ваше отличное поведение в бою, — молвил лорд Маркёр с улыбкой, подавая Головкину руку. — Вы вели себя в высшей степени похвально. Если это первый экзамен, я готов поставить вам сразу десять пятёрок…
— Благодарю, сэр, — негромко ответил Головнин. — Только это не первый экзамен.
Командир фрегата подумал, что он должен был подробно поинтересоваться прежними аттестациями присланного к нему офицера, но, занятый разными неотложными делами и срочным выходом в море, он только запомнил фамилию русского.
— Я знаю, — нашёлся Маркёр, попрежнему приятно улыбаясь, — в морских баталиях вы не новичок! Но абордажный бой, да ещё ночью — это все же в первый раз?..
— Так точно, сэр! — весело воскликнул Головнин, поняв англичанина. — Благодарю за экзамен, сэр!..
Затем в командирском салоне офицеры стоя пили за здравие лорда Маркёра, с именем которого в истории британского флота будет связан этот победоносный эпизод.
— Некоторых, кажется, смутили наши потери? — неожиданно спросил командир.
— Когда речь идёт о славе, — воскликнул один из офицеров, — стоит ли считаться с какими-то тремя-четырьмя десятками матросских жизней?..
Эти слова были встречены возгласами одобрения. Но Головнин заметил негромко:
— Да, с этим следует считаться…
Лорд Маркёр услышал его слова. На дряблом лице отразилось удивление:
— Вы говорите: следует считаться? Но вы — офицер и не щадили собственной жизни ради этой победы. Чему же вы больше радуетесь — победе или тому, что сохранили жизнь?
В наступившей тишине Головнин произнёс отчётливо и спокойно:
— Победе и жизни.
— Объяснитесь. Разве для отважного русского офицера победа не дороже жизни?
— Конечно, дороже, — сказал Головнин. — Я радуюсь этой победе потому, что мы — ваши союзники в борьбе против Наполеона. И одновременно я счастлив, что остался невредимым. Моя жизнь ещё будет нужна отечеству.
— Мне очень приятно, — проговорил лорд Маркёр, поднимая в честь Головкина бокал, — что на моем корабле служит такой отличный моряк и друг Англии. Англия никогда не забывает своих друзей. Где бы вы ни были и что бы ни случилось впереди, — Англия будет помнить вашу службу…
Когда через несколько месяцев Головнин прощался с моряками «Фосгарта», от имени командира ему вручили пакет. На берегу он прочитал отзыв о себе. Отмечая заслуги Головнина, лорд Маркёр особенно подробно останавливался на ночной абордажной схватке, указывая, что русский офицер был в голове сражавшихся, дрался с необыкновенною отвагою и был счастлив, что остался невредимым.
Значит, запомнился англичанину ответ Головнина. А русскому моряку запомнилась фраза, произнесённая командиром фрегата: «Англия никогда не забывает своих друзей»…
В 1806 году, когда Василий Головнин дальним путём — через Швецию и Финляндию — прибыл из Англии в Петербург, город русских моряков — Кронштадт — торжественно отмечал знамёнательное событие: корабли русского флота «Надежда» и «Нева» возвратились из первого кругосветного плавания.
Завершение этого славного похода было подлинным торжеством. Доброе начало положено!.. Отныне русские моряки пройдут в самые далёкие страны.
Ещё будучи воспитанником Морского корпуса, Василий Головнин мечтал о таких походах. Эта мечта не исчезла и теперь, не потерялась среди многих житейских забот.
Не каждый из давних петербургских знакомых Головнина смог бы догадаться, что в этом испытанном, внешне суровом и строгом офицере попрежнему жила юношеская страсть к беспокойным морским дорогам, к штормовым просторам морей и океанов, ещё таивших множество загадок.
Он считал, что русские моряки должны разгадать эти загадки, пройти нехоженными широтами, нанести на карту ещё не открытые земли.
В Англии Головнин не просто отбывал срок, положенный для усовершенствования в военно-морском деле. Пристально присматривался он ко всему, что могло оказаться ценным для родного флота, — к работе верфей, к мастерству корабельщиков, к военно-морской сигнализации, к особенностям манёвров, к распорядку на кораблях… Много здесь было такого, что следовало отбросить как хлам, как дикий пережиток. Не случайно сказал он в присутствии лорда Маркёра, что с жизнями матросов следует считаться. Свирепая дисциплина в британском флоте и бессмысленно-жестокая муштра всегда вызывали у Головнина отвращение.
Но было и такое, что могло стать полезным для молодого русского флота. Головнин написал сравнительный обзор состояния английского и русского флотов, составил свод морских сигналов и переслал все это в Адмиралтейств-коллегию, адмиралу Павлу Васильевичу Чичагову.
Адмирал спросил:
— Кто этот Головнин? Не тот ли маленький кадет, что служил на корабле «Не тронь меня?» Мой отец вручал ему медаль «За храбрость» после победы над шведами на Балтике… Вижу, старик безошибочно различил моряка. Теперь-то уж маленький кадет стал настоящим морским офицером. — Он кивнул адъютанту: — вызвать Головнина ко мне. Возможно, это и есть капитан «Дианы».
На следующий день адмирал выслушал рапорт Головнина и сказал:
— Рад видеть балтийского орлёнка таким возмужалым орлом!..
Адмирал отодвинул бумаги и раскрыл синюю тетрадь — свод морских сигналов, собранный Головниным.
— Похвально то, флота лейтенант, что, находясь вдалеке от родины, вы думали о её флоте, заботились о нем… Эту систему сигналов мы введём и у нас, на Балтике.
Чичагов подробно расспрашивал об английском флоте, о схватках при блокаде Тулона и Кадикса, о жаркой битве в Испании, в заливе Сервера…
Затем адмирал неожиданно спросил:
— Вам, конечно, уже известно о возвращении из кругосветного плавания Юрия Лисянского и Ивана Крузенштерна? Об этом вояже говорит не только весь Кронштадт, но и весь Петербург.
— О, я в восторге от этого славного путешествия!
— Но первая ласточка должна повести за собой всю семью… Вы видели, сколько на Неве кораблей? Эти флаги вскоре увидят не только в европейских странах… Российско-американская компания просит по возможности без промедлений направить ещё одно судно по уже известному маршруту к берегам Аляски. Мы решили послать военный корабль. Выбор пал на шлюп «Диану». Он, правда, нуждается в некоторой перестройке, но столь опытный командир, как вы, обеспечит все необходимые исправления…
Взволнованный Головнин встал.
— Я — командир «Дианы»?..
Чичагов молча пожал ему руку.
— Цель экспедиции — снабжение наших владений в Русской Америке. «Диана» вместо балласта возьмёт морские снаряды, необходимые в Охотске и на Камчатке. Но главная цель… — адмирал помедлил, пристально глядя на Головнина, — опись малоизвестных земель в восточном крае Азии и вблизи наших владений в Русской Америке. Быть может, вам посчастливится открыть на Восточном океане ещё неизвестные земли, — желаю успеха от всей души!
Обычная сдержанность на какие-то минуты изменила Головнкину. Он вышел из адмиральского кабинета будто в полусне.
Вот она, сбывшаяся мечта! Вслед за прославленными моряками — Лисянским и Крузенштерном — он поведёт корабль в дальний кругосветный рейс.
Головнин поспешил на набережную Невы. Скорей бы увидеть «Диану»!
Он узнал этот шлюп, не спрашивая ни у кого, и прыгнул в ближайшую лодку.
…Командующий английской военной эскадрой, стоявшей в заливе возле мыса Доброй Надежды, командор Роулей нередко сетовал в кругу приближённых офицеров на свою злосчастную судьбу. В то время, когда у берегов Испании, Франции, Италии, Англии разыгрывались морские сражения, ночные схватки, совершались налёты, преследования и захваты трофейных кораблей, — словом, когда другие офицеры английского флота делали настоящую карьеру, — он, Роулей, был вынужден отсиживаться здесь, на мысе Доброй Надежды, неподалёку от Капштадта, в этом глухом уголке планеты, куда даже известия о военных действиях доходили с двухмесячным опозданием…
Хотя бы какое-нибудь незначительное событие скрасило эту тоскливую жизнь… Вдруг появился бы французский корабль… Роулей, конечно, захватил бы вражеское судно. Это было бы для него призом, о его подвиге заговорили бы в Лондоне, слух о нем дошёл бы до королевского дворца…
Но корабля не было.
Роулей часто уезжал в Капштадт. Там все же было веселее: в игорном доме за карточным столом нередко происходили подлинные баталии, в театре можно было послушать певиц, в порту встретить моряков, только что прибывших из Европы…
На время своего отсутствия командующий обычно поручал дела капитану фрегата «Нереида» Корбету. Они доверяли друг другу многое, эти два тосковавших англичанина. Долгие вечера и ночи нередко им приходилось коротать вдвоём. Мечта о захвате призового судна стала их общей мечтой. И мог ли ожидать капитан Корбет, что эта мечта так внезапно осуществится!
В полдень, в ясную, штилевую погоду неизвестный корабль вошёл в бухту и бросил якорь напротив береговой батареи. Вскоре к берегу причалила шлюпка, и молодой статный лейтенант, козырнув капитану Корбету, спросил:
— Где я могу видеть командующего эскадрой? Мне поручено спросить, будет ли ваша эскадра отвечать равным числом выстрелов на наш салют?
— Простите, — пробормотал Корбет, — с кем я имею честь?..
— Русского флота лейтенант Пётр Рикорд. Шлюп «Диана», прибывший в Саймонстаун, следует из Кронштадта на Камчатку и в Русскую Америку.
Капитан Корбет, казалось, потерял дар речи. Он только посмотрел на русского моряка выпученными глазами и жадно хватал губами воздух. Затем, словно задыхаясь, он выдавил:
— И вы… вы требуете… ответного салюта?!
Рикорд удивлённо улыбнулся.
— Конечно… И равного количества выстрелов.
— Под стражу! — крикнул капитан Корбет. — Арестовать всех до одного!.. Только подумать, — вражеский корабль требует салюта!..
Четверых матросов и Рикорда окружили добрые две дюжины англичан.
Капитан Корбет приказал ударить боевую тревогу. На батареях засуетилась прислуга. Матросы и солдаты бежали к берегу. Не менее пятидесяти человек поспешно разместились в шлюпках, и капитан направился к «Диане».
С палубы шлюпа Головнин с интересом наблюдал за сутолокой на берегу. Он подумал, что батареи готовятся к салюту. Но почему же так много шлюпок шло к «Диане»? Присмотревшись к офицеру на передней шлюпке, Головнин узнал Корбета. Какая встреча! С этим самым Корбетом он служил в английском флоте. В ту пору они были приятелями, и Корбет настойчиво приглашал Головкина в гости к своим родным.
— Дружище Корбет! — радостно воскликнул Головнин. — Вот неожиданная встреча!
Англичанин смотрел на Головнина выпученными и словно невидящими глазами.
— Неужели не узнаете? Да вспомните «Фосгарт»!.. Какова его судьба?
— «Фосгарт»?.. Какой «Фосгарт»?..
— На котором мы вместе служили! Я — Головнин…
Корбет долго медлил с ответом. Сопровождавшие его матросы держали оружие на изготовку.
— Какой державе принадлежит этот корабль? — наконец спросил он.
— Это русский шлюп «Диана».
Корбет что-то сказал своим матросам, и те изо всех сил налегли на весла. Шлюпка помчалась к стоящему в отдалении кораблю под командорским флагом.
Головнина озадачило странное поведение давнего приятеля. Он подумал, что на мысе Доброй Надежды, вероятно, объявлен строжайший карантин и англичанам запрещено общаться с иностранцами. Но почему же не возвращался Пётр Рикорд? Почему Корбет не спросил, откуда и куда направляется корабль? Это первый вопрос, обязательный даже для холерного или зачумлённого судна. Почему, наконец, капитан сделал вид, будто не узнает Головнина? Что же случилось? Неужели война?..
Несмотря на тревожные сообщения английских газет, Головнин не считал, что возможность войны так близка. Газеты ежедневно выдумывали сенсации, однако в тот день, когда «Диана» покидала рейд Портсмута, русский фрегат «Спешный» оставался гостить в этом английском порту. В трюмах фрегата хранились золотые и серебряные слитки стоимостью в два с лишним миллиона рублей. Но командир фрегата не получал предписания о срочном выходе в Кронштадт… Кроме того, в Портсмуте было известно, что эскадра вице-адмирала Сенявина, действовавшая в Средиземном море и находившаяся в те дни в Гибралтаре, направлялась в Англию. Если бы военные действия между Англией и Россией действительно предполагались, разве повёл бы Сенявин свои корабли в английский порт?
Чтобы обеспечить свободное плавание «Дианы», Головнин ещё в Портсмуте решил запастись, на всякий случай, английским пропуском. По издавна узаконенному обычаю судну, которое направлялось в рейс с целью научных изысканий, неприятельская сторона выдавала пропуск. Этот документ устранял опасность нападения или задержания в пути, и капитан «Дианы» теперь считал себя гарантированным от возможных случайностей.
Девяносто три дня «Диана» находилась под парусами. Единственный пункт, где шлюп пополнял запасы, — город Ностра-Сенеро-дель-Дестеро на острове Св. Екатерины, был таким глухим уголком, что моряки не могли узнать там ничего нового о событиях в Европе.
Головнин не знал, что русское правительство объявило декларацию о разрыве между Россией и Англией, что русский посол покинул Лондон. Не знал он и о том, что в Портсмуте русские корабли — фрегат «Спешный» и транспорт «Вильгельмина» со всем их грузом были конфискованы, а личный состав задержан на положении военнопленных.
Направляясь в Саймонстаун, Головнин был уверен, что ведёт свой корабль в колонию дружественной державы. Теперь оставалось только ждать разъяснения причин такой необычной встречи…
От командорского корабля к «Диане» уже шла небольшая быстроходная шлюпка. Высокий лейтенант крикнул издали:
— Откуда прибыли?.. Куда следуете?..
Головнин ответил. Шлюпка развернулась и умчалась обратно.
Вскоре на командорском судне начали торопливо ставить паруса и выбирать канаты. Фрегат подошёл к шлюпу почти вплотную. Уже знакомый лейтенант, свесившись через перила, прокричал:
— Объявляю, что с этой минуты «Диана» является нашим законным призом… При попытке к бегству будете потоплены!
— По какому это случаю? — изумлённо спросил Головнин.
— По случаю войны между Англией и Россией…
На борт «Дианы» уже взбиралось несколько десятков англичан. Жерла береговых пушек угрожающе обернулись к шлюпу…
— Я спрашивал вас о салюте, — улыбнулся Головнин, — а вы встречаете форменным парадом…
Лейтенант откликнулся небрежно:
— Потрудитесь передать мне флаг и судовые документы…
— Вы не получите ни того, ни другого. У меня имеется пропуск английского правительства. Об этом вы не догадались спросить?
Простоватый лейтенант сознался откровенно:
— Действительно не догадался. Но вы не обманываете?..
— С вами говорит капитан русского военного корабля…
— Понимаю!.. Всем возвратиться на свои суда! — скомандовал он, повернувшись к своим. Затем сказал Головнину уже почти любезно: — Сейчас я отправлю сообщение об этом своему командиру. Вам придётся подождать его решения.
— Что ж, это уже лучше, — заметил Головнин.
Поздно вечером на шлюп возвратились Пётр Рикорд и его спутники.
— Разрешите доложить!.. — обратился Рикорд к капитану.
Головнин прервал его дружески-мягко:
— Не нужно рапортовать, Петя… Я знаю, ответного салюта не будет.
— И это ещё не все…
— Похоже на плен?
— Так точно. Это — плен.
Они помолчали. Где-то близко поскрипывали уключины весел, негромко всплёскивала вода.
— Крадутся у самого борта, — заметил Головнин. — Караулят. Боятся, что сможем уйти. А что если бы и в самом деле попытаться, Петя?.. Обрубим канаты и под паруса, догоняй в океане! В крайнем же случае — бой.
Рикорд порывисто, глубоко вздохнул:
— Я думал об этом. Но на фрегате не спит ни один человек. Их шлюпки всю ночь будут курсировать вокруг «Дианы». А утром, — я слышал распоряжение, — мы будем поставлены на два якоря между их кораблями и берегом. Вот в какую историю мы попали, Василий! Ведь это же война. А мы пришли: «Здравствуйте! Принимайте корабль, — флаг, экипаж, пушки, документы…» Я так полагаю, Василий Михайлович, что в крайнем случае… в самом крайнем, если положение будет безнадёжным, если они вздумают захватить шлюп, — мы… подорвёмся. Пороху у нас достаточно. Пусть получают трофей в виде обломков…
На рассвете к трапу «Дианы» подошла английская шлюпка. Рослый лейтенант, держа у груди пакет, поднялся на палубу и, спросил командира. Головнин ответил на приветствие, принял пакет, здесь же прочитал письмо Корбета… Какая честь! Оказывается, капитан Корбет тоже его узнал и только по недостатку времени отказал себе в удовольствии пожать мужественную руку русскому боевому соратнику. Впрочем, капитан будет иметь это удовольствие ещё сегодня, если Головнин соизволит приехать к нему.
Будто о чем-то второстепенном, в конце своего письма Корбет сообщал, что посланный им офицер останется на шлюпе, так как до прибытия командора судно будет считаться задержанным…
Головнин ни о чем не спрашивал английского лейтенанта. Все было ясно. При встрече с Корбетом он выяснит обстоятельно, есть ли надежда на освобождение шлюпа. Он кивнул англичанину:
— Хорошо. Можете остаться…
В каюте Головнин достал из ящика письменного стола пакет с секретной инструкцией Адмиралтейств-коллегии. На корабле, который отправляется в плавание для открытий, инструкция всегда была секретной, доверенной только капитану. Теперь этот документ Головнин должен был уничтожить, сохранив в памяти его содержание.
Трепетный огонёк робко коснулся уголка развёрнутого листа. Потом бумага задымилась и вспыхнула. Документ уже догорал, когда Головнин словно почувствовал, что кто-то стоит сзади. Он обернулся. За раскрытой дверью каюты стоял мичман Мур.
— Что вам угодно? — строго спросил Головнин.
Тонкие губы мичмана искривились, глаза смотрели вкрадчиво и испытующе.
— Я испугался… Я думал… Я увидел дым…
— Не беспокойтесь, Мур. Я сжёг секретный документ.
— Секретный? Это какой же?..
Головнин усмехнулся. Ему показалось потешным испуганное лицо мичмана.
— Какой? Я уже сказал вам: секретный. Можете успокоиться. Пожар кораблю не грозит.
Не думал капитан «Дианы», что позже ему доведётся с горечью вспомнить этот мимолётный эпизод.
…На своём фрегате «Нереида» капитан Корбет встретил русского гостя учтиво и даже торжественно. Два матроса у верхней площадки трапа салютовали вскинутыми штыками. Палуба, однако, была пустынна, видно капитан распорядился, чтобы экипаж не проявлял любопытства.
В офицерском салоне уже был накрыт обеденный стол. На это свидание Корбет не пригласил никого из офицеров. Только молчаливый служитель, вытянувшись и почтительно опустив голову, стоял у буфета.
— Мой боевой друг! — внезапно преображаясь, воскликнул Корбет и взял руку Головнина обеими руками. — Кто из нас ещё недавно мог бы подумать, что эта встреча произойдёт на самом краю земли и при таких печальных обстоятельствах?.. Не странно ли, право, что мы, друзья, испытанные огнём, сегодня являемся врагами?.. Странно. Невероятно!
— Конечно, странно, — согласился Головнин, — но, помнится, лорд Маркёр как-то говорил, что англичане нигде и никогда не забывают своих друзей. Пусть времена переменились, все же у меня никто не отнимет памяти о тех годах, которые я отдал британскому флоту.
На короткое время капитан Корбет задумался. Гладко выбритое лицо его стало печальным. Только глаза смотрели настороженно, будто выглядывали из засады, — в них был какой-то невысказанный вопрос. Неожиданно, сразу превращаясь в лихого малого, он стукнул кулаком по столу и схватил ближайшую бутылку:
— Прочь нынешние печальные дела! Вспомним, друг, славную битву у Тулона…
— Однако, — заметил Головнин, — я прибыл к вам, чтобы выяснить именно печальную сторону дела. Я имею пропуск английского правительства. Разве этого недостаточно?
Корбет неторопливо наполнил бокалы.
 |
— Будем вполне откровенны, мой друг… Вы отбыли из Англии до объявления войны. Это может означать, что ваш пропуск механически утратил силу… Я не знаю, какое решение примет командор Роулей, но если бы я был на его месте… — Капитан Корбет отпил несколько глотков, потом закурил и заключил решительно: — Я отпустил бы вас. Да, отпустил. Я вам поверил бы на честное слово…
— Благодарю, — сказал Головнин, подумав, что капитан ведет себя слишком уж театрально.
— Но я не могу этого сделать, — вздыхая заключил Корбет. — Я только подчинённый. Я не могу иначе рассматривать ваше судно, как военное судно неприятельской державы. И я не могу позволить, чтобы вы поднимали российский флаг. Это было бы оскорблением моему королю: в английской военной бухте и вдруг неприятельский флаг! Вы можете оставить вымпел, это будет означать, что судно ещё не объявлено призом…
— Ещё не объявлено! — повторил Головнин. — Значит, вы рассчитываете, что командор вынесет решение…
— О нет! Я не предвосхищаю событий, — поспешил с заверениями Корбет. — Когда командор ознакомится с вашей инструкцией…
— Она была написана по-русски…
— Что ж, это не препятствие! У нас проживает здесь человек, приехавший из Риги… Он отлично читает по-русски…
— Я говорю: она была написана. В настоящее время её уже нет.
— Где же… инструкция?
— Я её сжёг.
— Зачем?
— Чтобы вы не узнали её содержания. Когда мне объявили, что шлюп считается задержанным, я счёл своим долгом уничтожить инструкцию. Однако меня нисколько не страшат последствия этого поступка.
Чуть приметно улыбаясь, Корбет спросил:
— Но вы хотели знать, сможем ли мы прочитать документ, написанный по-русски? Надеюсь, именно поэтому вы сообщили, что инструкция написана на вашем языке?
Головнин тоже улыбнулся.
— Да, это очень важно, капитан. По крайней мере, у вас не будет причины задерживать шлюп из-за отсутствия человека, который пользуется вашим доверием и который сможет прочитать документы, изложенные на русском языке. У меня есть бумаги, доказывающие, что шлюп «Диана» следует на северо-восток только с целью открытий.
— Оказывается, мистер Головнин, вы дипломат! — удивленно проговорил Корбет и громко засмеялся, хотя глаза его попрежнему смотрели из засады. — Так ловко выпытали у меня, простака, что у нас имеется переводчик! — И уже без видимой связи с предыдущим спросил: — Скажите, на Аляске, куда вы идёте для открытий, если, конечно, верить вам на слово, говорят, очень суровый климат? Я читал о путешествиях Джемса Кука, — он побывал в тех краях…
— Раньше его побывали там русские — Чириков и Беринг…
— Разве? Очень интересно… Все же вы рискуете. Ведь пушнина не терпит солёной воды. Вам следовало бы поближе спуститься к тропикам, чтобы уйти от штормов северо-востока. О, я знаю, что значит район снежных штормов! Я побывал за Южным Полярным кругом…
— Вы даёте совет, капитан? Благодарю… Недавно я тоже побывал южнее мыса Горн. Однако мы не собираемся перевозить пушнину. Это дело коммерческих кораблей. Если бы наше судно было коммерческим, вы могли бы захватить его как приз.
Капитан Корбет заметно помрачнел.
— Очевидно, вы подумали, мой друг, будто я добиваюсь от вас косвенного признания? Не все ли равно для меня — коммерческий это корабль или военный?
— Это корабль русской географической экспедиции. И потом, о каких косвенных признаниях может идти речь? Вы не следователь, я — не подследственное лицо…
Капитан Корбет громко выразил одобрение:
— Это — слова мужчины!.. Так выпьем же за наши славные дела у Тулона! Прочь все условности, — здесь встретились два боевых товарища!..
Вскоре они простились у площадки трапа. «Диана» стояла совсем близко: отсюда можно было видеть все, что происходило на её палубе. Там шла обычная корабельная жизнь: матросы чинили снасти, скребли и мыли надстройку бака, судовой повар чистил большой медный таз… Только английский лейтенант, одинокий и скучный, медленно бродил в стороне от других.
А вокруг шлюпа попрежнему сновали лодки, переполненные вооружёнными английскими матросами.
— Между прочим, я забыл сообщить вам, мой друг… — сказал Корбет. — При малейшей вашей попытке к бегству на вас обрушится огонь всех береговых и корабельных батарей… Таково распоряжение моего начальства. Кстати, сегодня замечательная погода, не правда ли?
— Благодарю вас за отличный обед, — ответил Головнин с усмешкой. — Мы, русские моряки, знаем толк в гостеприимстве. Ещё раз я убедился, что англичане не забывают своих друзей.
Уже со шлюпки капитан «Дианы» заметил: холёное лицо Корбета побагровело. Но что переживал он, — чувство стыда, смущения или злобы, — Головнин не мог понять.
Через несколько дней шлюп был переведён в дальний глухой угол бухты. Выход в океан охраняли береговые батареи и корабли английской эскадры. Для астрономических наблюдений Головнин нанял на самом берегу старый, расшатанный ветрами дом. Сюда перенесли со шлюпа хронометры и другие инструменты. Мистер Роулей теперь окончательно успокоился: без хронометров Головнин не попытается бежать, и наблюдение за пленниками значительно облегчалось.
Обсерватория, созданная Головниным на берегу для проверки хронометров, вскоре привлекла внимание английских капитанов. Они нередко просили капитана «Дианы» проверить и их хронометры. Головнин охотно соглашался: времени свободного было много, а за работой оно шло неприметней. Впрочем, уже как будто приближался день их освобождения: в Капштадт из Англии прибыл шлюп «Рес-Горс». Головнин считал, что с этим судном должно прибыть решение английского правительства относительно дальнейшей судьбы «Дианы», — ведь запрос об этом уже давно был отправлен в Лондон. И капитан поспешил в Капштадт к адмиралу Барти.
Адмирал не заставил Головнина томиться в приёмной. Подтянутый адъютант доложил о прибытии русского моряка и тотчас распахнул дверь. В просторном кабинете оказалось не менее тридцати офицеров. Они сидели у круглого стола, стояли отдельными группами, трое склонились над бумагами, которые просматривал Барти…
Головнин подошёл к столу. Адмирал поднял лысую голову, отодвинул бумаги и поспешно встал.
— Мне очень приятно, мистер Головнин, познакомиться с вами. Я знаю о вашей доблестной службе в английском флоте. Как самочувствие? Нравится ли вам Капштадт?
— Признаться, я достаточно насмотрелся на этот город, — сказал Головнин. — Я предпочёл бы югу северные широты…
Адмирал громко засмеялся.
— Должен сказать вам, капитан, что климат этих мест считается отличным. Надеюсь, вы ни в чем не испытываете нужды?
— Я хотел бы знать, каковы ваши намерения в отношении шлюпа «Диана» и его экипажа?
Барти приподнял острые плечи. Сухое старческое лицо выразило удивление.
— Намерения самые доброжелательные. Вам, вероятно, известно, что наша эскадра, блокировавшая французские острова, недавно сильно потерпела от бури. Вчера сюда прибыло для ремонта несколько кораблей. Вам следует дать распоряжение, чтобы ваши матросы приняли участие в ремонтных работах. Это, конечно будет оплачено и отразится на снабжении вашего экипажа.
— Нет, я не сделаю такого распоряжения, — сказал Головнин. — Корабль, отремонтированный на мысе Доброй Надежды, может очутиться в Балтийском море и вести операции против России. Если бы мои матросы приняли участие в этих работах, значит, они помогали бы противникам России.
— Мне думается, в вашем положении с такими подробностями не следовало бы считаться, — заметил Барти. — Один из ста шансов, что корабль, отремонтированный вашими матросами, окажется на Балтике.
— Даже если бы это был один шанс из тысячи, — сказал Головнин. — Мы ни за что не согласимся помогать противнику.
И снова старческое лицо Барти выразило удивление, которое тут же сменилось тем благостным смирением, которое обычно бывает написано на лицах иезуитов.
— Мне очень жаль, капитан, что я не могу вас порадовать каким-либо распоряжением моего правительства относительно «Дианы». Придётся вам ещё подождать. Но вы можете быть уверены в моем неизменном к вам расположении. А сейчас я вынужден извиниться, так как срочно должен осмотреть новый сигнальный пост…
В расположении адмирала Головнин убедился в тот же день, едва возвратился на «Диану». Здесь его уже ждал английский морской офицер, только что прибывший из Капштадта. Очевидно, Барти послал его вслед за Головниным, и офицер обогнал капитана в дороге. Хмурый долговязый детина с тяжёлой челюстью и подслеповатыми глазами, он пристально всмотрелся в лицо капитана и резко отчеканил заранее подготовленные фразы:
— По распоряжению адмирала сэра Барти вы должны дать письменное обязательство о том, что не предпримете попыток оставить Саймонстаун до соответствующего приказа из Англии. Если вы откажетесь выдать такое обязательство, команда и офицеры будут отправлены на берег, как военнопленные, а шлюп займёт английский караул. Кроме того, сэр Барти распорядился, чтобы все паруса на шлюпе были отвязаны и судно обязательно стояло на двух якорях.
— Возможно, сэр Барти распорядился и в отношении снабжения моего экипажа? — спросил Головнин.
Офицер усмехнулся:
— Было бы очень странно, если бы адмирал стал составлять для вас меню…
— Но будет ещё более странно и дико, если мои люди окажутся вынужденными голодать.
— Впрочем, сэр Барти сказал, что ваши люди могут работать и получать питание.
Головнин внимательно посмотрел на него.
— Мы не страшимся ваших пушек. Можете быть уверены, что нас не устрашит и голод.
Получив письменное обязательство, офицер отбыл на берег. Провожая его взглядом, Головнин сказал:
— Да, Англия не забывает своих друзей…
Плен был особенно тягостным из-за неопределённости, в которой все время находилась команда «Дианы». Какое решение примет английское правительство?
Барти на записку Головнина о том, что на судне окончился провиант, не ответил. На второе, уже резкое, настойчивое письмо он прислал ответ только через две недели, — несколько любезных фраз с пожеланием доброго здоровья. Это было издевательство.
Капитаны голландских кораблей, с которыми Василий Михайлович познакомился здесь и подружился, не скрывали своего возмущения поступками адмирала.
— Никто не посмеет упрекнуть вас, мистер Головнин! Барти заставляет вас бежать, он грозит вам голодной смертью…
Возможно, были среди этих людей не только доброжелатели. Ни на минуту Головнин не забывал об осторожности. Обычно он отвечал сокрушённо:
— У меня нехватит провизии даже на неделю пути…
Но вечерами он пристально вглядывался в горизонт, вслушивался в плеск зыби. Хотя бы надвинулись тучи, хотя бы грянул шторм! Погода, как нарочно, стояла ясная, тихая, ночи лунные. Пытаться уйти в такую погоду в океан было бы безрассудно…
Монотонным печальным звоном корабельные склянки отсчитывали часы; сменялись вахты, приходили и уходили иностранные суда, маршировала на берегу английская морская пехота… Одна за другой проходили недели.
В апреле исполнился год с того памятного дня, когда шлюп вошёл в Саймонстаун. Уже наступил май… Пёстрые ракушки и зеленоватые водоросли густо покрывали подводную часть шлюпа, как обычно покрывают обломки затонувших кораблей…
Как-то вечером в середине мая внезапно подул желанный норд-вест, и небо закрыли тяжёлые тучи.
Головнин вышел на палубу, осмотрелся. Близко чернел смутной тенью адмиральский фрегат. Ещё днём Василий Михайлович приметил, что паруса на нем не были привязаны. Большие военные корабли, стоявшие на якорях несколько дальше, ещё ремонтировались, они не могли пуститься в погоню. Оставалась ещё одна опасность: у входа в бухту курсировали два неизвестных судна, которые могли оказаться английскими военными кораблями. Впрочем, об этой опасности долго раздумывать не приходилось: если будет погоня, значит будет и бой.
Он кликнул Рикорда.
— Сейчас уходим, — сказал Головнин. — Вызвать всех наверх… Пусть все незаметно расположатся на палубе. Соблюдать полнейшую тишину… Мы выйдем из бухты под штормовыми стакселями[1].
— Есть! — радостно воскликнул Рикорд и, словно самого себя уверяя, добавил тихо: — Я верю в счастье…
Ровный норд-вест вскоре сменился шквалом. Белые гребни волн звонко ударили в борт шлюпа. Рваные тучи спустились до верхушек мачт; сырой туман окутал всю бухту и берег. Именно о такой погоде мечтал Головнин. Однако в эту минуту, когда окончательно решалась судьба всего экипажа, голос его прозвучал по-будничному спокойно, так, будто слова команды были самыми обычными, повторенными уже много раз:
— Рубить канаты…
Он слышал короткий, приглушённый звук. Потом ощутимо дрогнула палуба, и под напором ветра судно медленно двинулось к середине бухты.
С небольшого баркаса, что стоял на якоре в тридцати метрах от «Дианы», усиленный рупором голос прокричал то ли в изумлении, то ли в испуге:
— Они уходят!.. Эй, на «Резонабле»!.. Пленные пытаются бежать!..
Головнин оглянулся на адмиральское судно. Сквозь клочья тумана он отчётливо видел, как там замелькали трепетные огни, по сигналу тревоги английские матросы бросились к пушкам. Пусть будет, что будет!
Порывистый ветер, казалось, стремился сорвать штормовые стакселя. «Диана» шла все быстрее, смутные силуэты английских кораблей возникали и таяли то с правого, то с левого борта…
Этот самый опасный участок пути, где столкновение с каким-нибудь судном казалось неизбежным, Головнин изучал в течение многих дней. Выйти из бухты или провести в неё судно Головнин смог бы теперь в любую погоду в самую тёмную ночь. Но корабли, приходившие в бухту, часто сменяли места стоянок. Перед вечером, пристально осматривая знакомые очертания бухты в подзорную трубу, Головнин старался запомнить местоположение судов. Если бы сейчас ему пришлось нанести на карту бухты тридцать или сорок точек, где брошены якоря, он сделал бы это в течение минуты и без ошибки. Однако некоторые суда могли переместиться, и дозорные могли не увидеть стоящий на пути корабль…
Прямо перед «Дианой» внезапно вырисовывается чёрная тень… Это — корабль. Остались минуты, и шлюп протаранит неизвестное судно. Головнин сам хватается за спицы штурвала.
— Лево на борт!..
Чёрный силуэт проносится у самого борта «Дианы»…
На какие-то секунды в просвете, меж рваных туч, открылись угрюмые высоты берега, — это был знакомый мыс. А дальше открывался безбрежный простор океана. Какое это счастье, — после бесконечного мучительного плена опять услышать гул океана!
До самого рассвета ни один человек на шлюпе не сомкнул глаз.
Утро было ясное, небо светлое, безоблачное. Стремительно проносясь вдоль борта, играли волны. Ветер порывисто наполнял паруса. И был он острым и сладким, этот ветер свободы, которым так жадно дышали моряки.
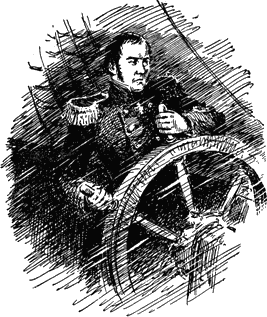 |
…В малом офицерском салоне «Дианы» вот уже третий день было шумно и весело. Со всех кораблей — военных, купеческих, промысловых, — что стояли в Петропавловской гавани, на Камчатке, за эти три дня на шлюпе побывали гости. Были среди них флотские офицеры, шкиперы промысловых судов, вечно странствующие купцы, простые матросы… Не только начальство этого бревенчатого городка, вставшего форпостом России на берегу Тихого океана, являлось на «Диану» с торжественным визитом. Шли сюда грузчики гавани, рыбаки, охотники, — все, до кого дошла весть о возвращении корабля, который уже давно считался погибшим…
Многие из новых знакомых Головнина в Петропавловске предсказывали, что он обязательно будет вызван в Петербург для доклада министру. Однако такого распоряжения не поступило. Молчание столицы Головнин приписывал прежде всего почтовой службе, — даже самые срочные депеши путешествовали с Камчатки в Петербург долгие недели.
Только в следующем, 1810 году Головнин получил распоряжение об очередном рейсе. Теперь ему предстояло повторить путь славных русских мореходов Чирикова и Беринга на Аляску, путь, правда, уже освоенный русскими моряками, но от этого не ставший менее суровым.
Особенно запомнилась в этом походе Головнину встреча с главным правителем Русской Америки Барановым, человеком огромных организаторских способностей, волевым и энергичным. Баранову было за шестьдесят лет, однако он оставался попрежнему неутомимым исследователем Аляски, попрежнему странствовал по горам Кадьяка, по тундре и лесам, изучая этот суровый край.
В доме его, на Кадьяке, Головнин залюбовался собранием редких картин, рисунками и чертежами кораблей, редкими книгами о путешествиях и открытиях — любимыми книгами Баранова.
Вечерами, когда в уютной горнице был едва различим гул океанского прибоя, они подолгу беседовали об этой дальней, открытой и обжитой русскими стороне, о сказочных, ещё не тронутых богатствах просторов и недр Аляски, о близком будущем её…
С чувством печали покидал Василий Головнин далёкую, но родную заморскую сторону, где селения носили русские имена, где жили русские люди.
Из-за позднего времени Головнин не дошёл до Охотска. «Диана» вторично зимовала на Камчатке. Команда своими силами ремонтировала шлюп, чинила снасти. А в начале апреля Головнин получил из Петербурга предписание морского министра, который повелевал капитану «Дианы» произвести точнейшее описание Алеутских и Курильских островов, а также описать Шантарские острова и Татарский берег до Охотска.
В предписании было указано, что Адмиралтейств-коллегия и Адмиралтейский департамент посылают Головнину подробную инструкцию, касающуюся возложенного на него задания… Когда же может прийти на Камчатку эта инструкция? Пожалуй, только к осени… Ожидать её значит утратить самое дорогое для исследований время — лето и, чего доброго, снова зазимовать на Камчатке.
Капитан приказал готовиться в путь.
В конце апреля команда прорубила в гавани лёд и вывела шлюп в Авачинскую губу. Четвёртого мая «Диана» покинула Камчатку…
Только теперь для Головнина наступал тот желанный период исследований и открытий, о котором он столько мечтал.
Уходя на Курилы, Головнин знал, что это плавание не обещает быть безопасным. Ещё совсем недавно русские морские офицеры Хвостов и Давыдов были вынуждены силой оружия отстаивать исконные русские права на Южный Сахалин и Курильские острова, где японские браконьеры не только уничтожали ценного пушного зверя, ловили рыбу, вырубали леса, но и строили крепости и держали под ружьём целые гарнизоны.
Какие события произошли на южных Курильских островах после отважного похода Хвостова и Давыдова в мае 1807 года? Возможно, японские захватчики снова возвратились?
Рейс «Дианы» имел, однако, самый мирный характер. Головнин решил ни в коем случае не вступать в споры с японцами, даже в том случае, если те опять осмеливаются селиться и промышлять на русской земле — Курильских островах. Он думал только об успешном выполнении большого и важного для науки задания. Немало знаменитых мореходов уже пытались положить на карту всю Курильскую цепь. Из-за туманов, шторма и сильных течений никому из них — ни Лаперузу, ни Гору, ни Сарычеву, ни Браутону, ни Крузенштерну — полностью осуществить это не удалось. Карты Курил попрежнему были путаны и противоречивы. Моряки «Дианы» должны были окончательно и точно определить положение всей цепи.
Шлюп медленно блуждал меж рифов и скал, в проливах, похожих на ущелья, боролся с могучими течениями, с холодными шквалами, внезапно налетавшими с Охотского моря, или долгими часами осторожно пробирался в тумане, где ему поминутно грозила опасность разбиться на камнях.
Один за другим ложились в чётких очертаниях на карту острова Расшуа, Ушисир, Кетой, Симусир, Чирпой…
Курилы приветливо встречали русских моряков, подносили им подарки.
Вскоре «Диана» приблизилась к острову Итуруп. Головнин решил пополнить здесь запасы продовольствия и приобрести дрова.
На берегу виднелись какие-то строения и байдары. Они принадлежали, конечно, курилам. Встреча с этими людьми могла быть очень полезной. Курилы подробно рассказали бы об острове. Уже вблизи берега Головнин приказал отдать якорь. Он кликнул штурманского помощника Новицкого и, указав на берег, приказал спустить шлюпку.
— На всякий случай возьмите с собой четверых вооружённых матросов. Но при встрече избегайте малейшей грубости. По возможности подробно расспросите у курилов об острове.
Неожиданно появился мичман Мур. После побега из Саймонстауна он всячески старался заслужить доверие капитана, даже прислужничал и лебезил, и Головнин уже собирался было списать его в Петропавловске со шлюпа, но Мур показался таким растерянным и жалким, так слёзно упрашивал, что Василий Михайлович переменил решение.
— Хорошо, — сказал он. — Я постараюсь проверить вас на серьёзных заданиях.
Мур поговаривал иногда, будто он с нетерпением ждёт этих серьёзных заданий. Теперь он заметно взволнованный стоял перед Головниным.
— Посмею обратиться, господин флота капитан… и просить вашего разрешения отправиться вместе со штурманским помощником Новицким в эту разведку…
— А что же? Пожалуй… — согласился Головнин.
Шлюпка отвалила от борта «Дианы» и быстро понеслась к селению. На низком берегу, видно было, засуетились люди. Они сдвинули на воду большую байдарку и отправились наперерез шлюпке.
— Или это приветливая встреча, — в раздумье заметил Рикорд, — или опасность.
— Спустить ещё одну шлюпку! — приказал Головнин. — Мичман Якушкин, вы отправляетесь со мной. С нами — четыре вооруженных гребца.
— Разрешите мне… — отозвался Рикорд.
— Нет, вы замещаете на шлюпе командира.
Берег, казавшийся близким, по мере движения шлюпки как будто все время отдалялся. Оглянувшись на корабль, Головнин увидел, что «Диана» выбрала якорь и осторожно следовала вглубь залива.
Но куда же делись Новицкий, Мур и четыре сопровождавших матроса? Шлюпка их лежала на берегу, а моряков не было видно.
Головнин направил шлюпку в узенькую бухточку и первым ступил на берег.
Поднявшись на вал гравия, нагромождённого прибоем, Головнин увидел на пологом откосе лагерь матерчатых палаток. Новицкий и четыре матроса стояли на плоском выступе каменной плиты, держа оружие под руками, видимо, готовые к бою. Неподалёку от лагеря, у самого вала, капитан увидел мичмана Мура. Прямо перед ним на расстоянии в три шага стоял маленький бронзоволицый японец в длинном халате, с двумя кривыми саблями. Около двух десятков японских солдат, защищённых латами и вооружённых саблями, держали ружья на изготовку, словно ждали команды своего начальника. В воздухе чувствовался острый запах серы… В руках японских солдат дымились зажжённые фитили.
Летом 1810 года с тринадцатого Курильского острова — Расшуа — к Итурупу вышла большая байдара, на которой находилось пятнадцать человек — семеро мужчин, шесть женщин и двое детей.
Груз на байдаре был невелик: несколько десятков шкур морской выдры, нерпичьи и тюленьи кожи, небольшой свёрток лисьего меха и бережно упакованные орлиные крылья и хвосты.
Это была группа охотников-курилов, русских подданных, и плыли они на юг в надежде встретить на каком-либо из островов японское селение, чтобы променять свои товары на рис, халаты, табак…
Особенно ценным товаром курилов были орлиные хвосты и крылья, — щёголи-самураи украшали этими перьями свои стрелы.
Японские селения на гряде то возникали, то исчезали; прочно и надолго японцы здесь не обосновывались, — они отлично знали, что самовольничали на чужой земле.
Небольшое такое селение охотники заметили в заливе на острове Итуруп. Курилы ещё издали стали показывать свои товары. Потом уже безбоязненно они высадились на берег.
Около сотни японских солдат с ружьями и обнажёнными саблями в руках, рассыпавшись цепью, окружили охотников, отрезав им путь к морю. Маленький японский офицер приказал отвести курилов в тюрьму. Из крикливой речи японца охотники поняли только одно: они — русские подданные, поэтому офицер считает себя вправе казнить их или миловать, отпустить на волю или держать в тюрьме.
Целый год охотники вместе с женщинами и детьми находились в тёмном сыром бараке, получая в пищу солдатские объедки.
Примерно раз в неделю офицер вызывал кого-нибудь из пленников и задавал одни и те же вопросы:
— Вы — русские разведчики? Вы пришли на остров, чтобы донести о нас русским? Вы взяли с собой женщин и детей, чтобы не вызвать наших подозрений? А где находятся русские морские офицеры Давыдов и Хвостов? Этого вы не знаете? Ну что же, можете умирать медленной смертью, если не хотите отвечать.
От холода, голода и цинги умерло уже трое мужчин и три жёнщины.
Наконец офицер вызвал всех пленников из барака, велел им стать на колени и сказал:
— Я не могу оживить тех, что умерли. Такова их судьба. Я не могу возвратить вам ваших товаров, — они давно уже проданы. Такова судьба этих товаров. Но я дарю вам свободу, возвращаю байдару и ещё дарю мешок рису. Ступайте домой и благодарите судьбу…
В океане бушевал шторм. Курилы сидели на берегу на чёрных холодных камнях, с надеждой вглядываясь в морскую даль. Временами ветер стихал, но тогда над океаном ложился плотный туман. Так проходили дни.
Утром в середине июня проглянуло солнце, и с первыми признаками долгожданной погоды над ясной линией горизонта курилы увидели силуэт корабля…
…Вопросы мичмана Мура японскому офицеру и его ответы переводил курил Алексей. Головнин не сразу увидел переводчика. Курил стоял на коленях, не решаясь поднять головы, запылённый и чёрный, как камень.
— Прикажите этому человеку подняться, — сказал Головнин. — Где видано такое, чтобы переводчик стоял на коленях?
Мичман резко обернулся, выпрямился, козырнул. Японский офицер понял, что перед ним командир корабля. Он поднял правую руку ко лбу и медленно поклонился, сгибая поясницу. Капитан тоже ответил поклоном. Мичман докладывал громко, взволнованно:
— Переводчик боится японцев. Он не решается подняться с колён… Я думаю, эти курилы, страшно напуганы.
Но японский офицер уже не обращал внимания на курила. Он вдруг стал очень вежливым и, улыбаясь, любезно приглашал Головнина в своё жилище.
В жилище, сидя на циновке, уставленной различными угощениями, японец несколько раз пытался узнать, с какой целью прибыл сюда русский корабль, но Головнин словно не замечал этого.
— Нам нужны дрова и пресная вода, — сказал он.
Японец что-то ответил огорчённо.
— Дров нет, воды нет, — перевёл Алексей и добавил от себя: — Он только говорит так. Надо быть осторожным, начальник…
Головнин обернулся к курилу. Тот смотрел растерянно.
— Он есть плохой…
Через несколько минут капитан поднялся с циновки.
— Очень жаль, — сказал он, обращаясь к японцу, — что вы не можете снабдить нас дровами и пресной водой. Нам придётся поискать другую, более подходящую бухту…
Он не был уверен, что Алексей с точностью переведёт эти слова. Но японец понял и спросил озабоченно:
— Куда вы собираетесь идти?
— На поиски нужной нам бухты.
— Вам нужно идти на западный берег острова, посоветовал японец, — в Урбитч. Там есть и вода, и дрова, и магазины…
Переводя его совет, Алексей снова добавил:
— Там есть много солдат япони…
Уже в шлюпке, по пути к «Диане», Головнин заметил Новицкому:
— Для нас самое главное, чтобы японцы не знали об истинных целях нашего прибытия. Нисколько не сомневаюсь, что они сделали бы все возможное, чтобы помешать нашей работе.
В течение трех суток «Диана» курсировала вокруг острова Уруп, и Головнин успел положить его на карту, исправив неточности прежних описей. Была нанесена на карту и часть острова Итурупа. В этом южном районе гряды у экспедиции оставалась ещё очень важная задача: опись гавани и пролива, отделяющего остров Кунасири от Мацмая. Никто из опытных моряков в этом проливе не бывал, а на картах русских промышленников, составленных на глаз или по памяти, имелись грубые ошибки.
На обратном пути к Итурупу шлюп вошёл в густую пелену тумана. Весь дальнейший путь лежал во мгле.
Огорчённый потерей времени, Головнин решил отыскать гавань Кунасири, где, кстати, как уверял оставшийся на шлюпе курил Алексей, можно было получить пресную воду и купить продукты.
Непроглядный туман стеной отгородил от шлюпа берег, и только по гулу прибоя Головнин и Рикорд, почти бессменно дежурившие на мостике, определяли расстояние, отделявшее судно от берега.
Вечером в начале июля «Диана» осторожно вошла в пролив Кунасирской гавани и остановилась. Головнин решил ждать до утра.
Прошло немного времени и на обоих мысах, справа и слева от шлюпа, вспыхнули высокие костры.
— Гавань оберегается, как видно, очень зорко, — заметил Рикорд. — Устроились на чужой земле и чувствуют себя, конечно, неспокойно: а вдруг опять нагрянут решительные люди вроде Давыдова и Хвостова?..
В сутеми вечера Головнин пытался рассмотреть в подзорную трубу селение в глубине гавани, но видел только дальние силуэты.
Костры у входа в гавань полыхали до самого утра. А когда с восходом солнца шлюп двинулся по спокойному разливу бухты к берегу, оттуда одновременно грянули две пушки. Ядра вспенили воду далеко от шлюпа.
— Что это означает? — изумлённо спросил Рикорд, вглядываясь в крепость, видневшуюся на взгорке.
— Не думаю, чтобы это был салют, — заметил капитан.
— Значит, угроза? «Не приближайтесь»?
— Сейчас выясним обстановку, — сказал Головнин. — Прикажите спустить шлюпку. Со мной отправится штурманский помощник Средний, четыре матроса и переводчик.
— А если это связано с опасностью, Василий Михайлович?
— Мы не можем отказаться от описи гавани. И второе: нам нужно пополнить запасы. Неужели эти непрошенные гости откажут в продаже хотя бы небольшого количества продуктов?
Шлюп отдал якоря в двух километрах от берега. Утро было ясное, тихое, необычное для этих мест. Дальние горы, казались сложенными из синьки.
Стремительно разрезая волны, шлюпка приближалась к молчаливому берегу, на котором, сколько ни всматривался Головнин, не было заметно ни единого человека.
До линии слабого прибоя оставалось не более пятидесяти саженей, и Головнин уже наметил место для высадки, когда над самой шлюпкой с урчанием пронеслось ядро… Все батареи крепости открыли огонь, — высокие всплески окружили шлюпку, что-то глухо ударило в подводную часть борта.
«Наверное, пробоина», — подумал Головнин и приказал грёбцам развернуться. Послушная вёслам, шлюпка круто развернулась и понеслась обратно к «Диане». А вокруг ложились ядра.
— Плохо… Очень плохо стреляют, — сказал капитан, усмехнувшись матросам. — Такую близкую цель с первого залпа следовало бы накрыть! И заряжают очень медленно… Ну, подлые пираты, было бы у меня на то разрешение, — проучил бы я вас!
Навстречу капитанской шлюпке от «Дианы» уже мчались вооружённые гребные суда. При первом залпе японских пушек Рикорд послал их на выручку Головнину. Помощь, однако, уже не требовалась, — шлюпка вышла за дистанцию обстрела неповрежденной.
Японцы, конечно, видели из крепости, что теперь ядра их делают недолёт, но, тем не менее, они продолжали ожесточённую пальбу, и Головнин удивился этому безрассудству.
— Вот «рыцари»! А ну-ка, Рикорд, пошлите им один «гостинец», да так, чтобы обязательно в крепость угодил!..
На шлюпе прозвучал сигнал боевой тревоги; комендоры метнулись к пушкам… Позже Головнин не мог вспоминать без волнения эти несколько секунд, когда корабль словно замер, и люди на нем будто затаили дыхание. Именно в эти секунды решался исход дальнейших событий. Грянул бы выстрел, и многое изменил бы он к лучшему в дальнейшем плавании «Дианы», в судьбе самого Головнина.
Но выстрел не грянул.
— Повремени-ка, братец, — сказал Головнин комендору, быстро поднимаясь на палубу шлюпа. — Мщение? Они его заслужили. Но начинать военные действия без воли правительства мы не должны. — И, обращаясь к Рикорду, спросил: — Ваше мнение, капитан-лейтенат?..
— Правильно… И все же обидно. Очень обидно, Василий Михайлович!..
— Терпение, Пётр, терпение и выдержка, — медленно, глухо проговорил капитан. — Если мы окажемся в положении, когда необходимо будет защищаться, мы им дадим урок настоящего боевого огня. А пока — пушки накрыть. Шлюп отвести дальше от крепости. Ещё раз попытаемся объясниться.
В молчаливом огорчении комендоры отошли от пушек. С берега прогремел последний выстрел, и окутанная дымом крепость затихла.
И снова на мысах всю ночь горели огни. В текучих отблесках, что дробились на зыби, чёрными тенями шныряли японские лодки. Но ни одна из них не приблизилась к «Диане»…
А утром через своих посыльных японцы передали, что обстрел шлюпки был ошибочным, что они очень сожалеют о случившемся и приносят извинения… Посыльные уверяли, будто комендант крепости сам опасался нападения, но теперь он готов лично принять капитана и оказать экипажу посильную помощь…
Мичман Федор Мур упросил Головнина взять и его в крепость.
Дозорные в крепости следили за капитанской шлюпкой с той минуты, когда она отходила от борта «Дианы». Три важных чиновника, облачённые в парадные халаты, заранее вышли из ворот крепости и спустились на берег, чтобы встретить гостей…
Головнин решил высадиться у самой крепости и теперь внимательно рассматривал её с близкого расстояния. Крепость была маленькой, построенной наспех.
Штурман Андрей Хлебников, сидевший у руля, рыжеватый мускулистый человек с внимательным взглядом и застенчивой улыбкой, даже пошутил:
— То ли осиное гнездо, то ли муравейник! А расковырять такую хламиду и со шлюпа немудрёно…
— Немудрёно, штурман, сделать глупость, — строго сказал Головнин. — Доброе дело труднее удаётся…
— Вот именно! — запальчиво воскликнул маленький Мур. — И нужно забыть подобные разговоры!..
Хлебников удивлённо взглянул на него, пожал плечами и ничего не ответил.
После очень длинного приветствия, в котором рядом с фамилией капитана торжественно вспоминались и солнце, и звезды, и луна и которое Алексей полностью не смог перевести, японец сказал, что будет счастлив развлечь дорогого гостя разговором, пока в крепости закончатся последние приготовления к встрече.
Разговор, однако, не клеился. Головнин спросил чиновника о названии отчётливо видневшегося отсюда мыса, которым оканчивался на севере остров Мацмай, но тот, вздохнув, ответил, будто он никогда не интересовался подобными названиями. Не знал он также, какова ширина пролива, глубок этот пролив или мелок, имеются ли течения и насколько они опасны для мореходов.
В этой скучной беседе прошло больше часа. Наконец-то из крепости дали сигнал, и чиновник сказал, что теперь он может сопровождать милых его сердцу гостей.
Головнин приказал матросам вытащить шлюпку на берег. Поняв его распоряжение, японец с улыбкой поклонился. Алексей перевёл его слова:
— Очень хорошо! Мы вполне доверяем друг другу…
У шлюпки Головнин оставил одного матроса. Кроме мичмана Мура, штурмана Хлебникова и переводчика Алексея, с ним были ещё три моряка, матросы первой статьи: Спиридон Макаров, Дмитрий Симанов и Григорий Васильев.
Капитана и его спутников поразило количество солдат, разместившихся в тесном дворике крепости. Не менее четырехсот человек, вооружённых ружьями, саблями, копьями, кинжалами и луками с набором стрел, сидели вокруг площади, словно ожидая какого-то уже известного им приказа.
— Не может быть, — негромко сказал Хлебников, — чтобы столько военных постоянно находилось в этой малой крепости… Наверное, их собрали со всего острова…
— Пожалуй, — согласился Головнин. — Посмотрим, к чему собрана эта ватага…
Посредине площади была раскинута просторная полосатая палатка. Ни на минуту не задерживая гостей во дворе, чиновник провёл их в эту палатку.
Начальник крепости, с сонным лицом, важно восседал на высоком стуле, держа в руках металлический жезл, от которого через плечо тянулся шёлковый шнур. Одет вельможа был в дорогие шелка, на поясе его висели две золочёные сабли. Три свирепого вида оруженосца разместились за его спиной. Рядом, на стуле пониже, сидел помощник начальника, уже знакомый Головнину, тоже охраняемый тремя оруженосцами. По сторонам палатки сидело восемь чиновников, не сводя с вельможи робких взглядов.
Головнин слегка поклонился. Оба начальника встали, подняв левую руку ко лбу и как бы переламываясь в пояснице.
Капитан присел напротив старшего вельможи. Мичман, штурман, переводчик и матросы заняли скамьи несколько позади.
— Мне очень приятно, почтеннейший капитан, — звонким голосом произнёс вельможа, пристально оглядывая Головнина, — видеть вас под этим кровом… Надеюсь, ваше здоровье вполне благополучно?
Головнин ответил, что он тоже рад видеть столь знатного начальника.
Слуги принесли чай, а потом табак и трубки. Отхлёбывая из фарфоровой чашки несладкую зеленоватую жидкость, вельможа как будто между прочим спросил:
— Сколько же людей у вас на корабле?
Головнин ответил, увеличив количество команды почти вдвое.
— Наверное, это самый большой русский корабль? — осведомился японец.
— О нет! — сказал Головнин. — У нас имеются корабли и впятеро большие.
— Разве у России много кораблей?
Головнин улыбнулся:
— У берегов Камчатки, в Охотском море, в океане, у Русской Америки плавают десятки наших кораблей.
— Э! — воскликнул вдруг начальник и оглянулся на своего помощника. Тот встал и вышел из палатки. Через несколько минут он вернулся и что-то шепнул вельможе. Начальник еле заметно кивнул головой и снова обратился к капитану.
— Как это хорошо, что вы пришли ко мне в гости. К чему нам враждовать? Мы можем всегда оставаться друзьями. Слово рыцаря, — ни один волос не упадёт с вашей головы, потому что вы мои дорогие гости.
Он встал, собираясь выйти из палатки. Головнин тоже поднялся. Японец улыбнулся.
— К чему спешить, капитан? Мы же ещё не договорились о самом главном.
— Если вы собираетесь уйти, — с кем, кроме вас, мне договариваться?
— Нет, я ещё побуду. Я угощу вас прекрасным обедом, какой только можно было приготовить в этих бесплодных местах…
И снова, обернувшись к помощнику, он произнёс с оттенком нетерпения:
— Э!..
Помощник опять поспешно вышел. Слуги внесли обед. На больших деревянных лакированных подносах едва помещались десятки блюд: рыба, соусы, зелень, какие-то корни, студни, приправы и особенно много хмельного саке.
— Рановато обеду быть, — осторожно заметил Хлебников. — Или, может, обедают у них с утра?
Мур ответил ему тоном поучающего знатока:
— Торжественный обед может быть подан в любое время. А после обеда, как видно, будет парад.
— Из чего вы это заключили? — спросил Головнин.
— О, я все примечаю. Помощник начальника дважды уже выходил, и когда у входа полог откидывали, я приметил, что они раздают солдатам обнажённые сабли. Это, конечно, к параду!..
— Как знать… — молвил с сомнением Хлебников.
Помощник вельможи возвратился ещё более радостный, чем прежде. С аппетитом закусывая и запивая, Алексей передал его вопрос:
— Нравится ли достопочтенному капитану угощение? Он сам присматривал за поварами. Эту честь оказывают только самым высоким гостям.
Мур осмелел и попросил Алексея перевести японцам его слова:
— Теперь мы видим, что наши опасения были напрасны. Вы — благородные, честные люди…
Придерживая сабли и не выпуская из руки свой железный жезл, старший начальник встал со стула и сказал, что он должен взглянуть на гавань.
— Я тоже должен взглянуть, — воскликнул Головнин, поднимаясь. — В гавани мой корабль…
Маслянистое лицо японца нахмурилось. Оруженосцы переглянулись. Молчание длилось долгую минуту.
— Передай капитану, — сказал начальник, обращаясь к Алексею, — что снабдить его корабль я ничем не смогу. Я жду ответ на моё донесение губернатору острова Мацмай. Пока ответ не поступит, один из русских офицеров должен остаться в крепости заложником…
Головнин насмешливо взглянул на Мура.
— Вот они, благородные люди… Но сколько же дней придётся ждать ответ губернатора?
— Пятнадцать, — сказал японец, зачем-то поднимая свой жезл. — Однако возможно, что губернатор запросит правительство.
Головнин, казалось, не удивился. Оба начальника и все их оруженосцы теперь внимательно всматривались ему в лицо. Собрав всю волю, чтобы не выдать волнения, он ответил тоном спокойным и ровным, словно продолжая прежнюю приятную беседу:
— Согласиться на такое длительное ожидание без совета с офицерами, которые остались на корабле, я не могу. Оставить у вас офицера я просто не хочу. Не забывает ли начальник, что перед ним сыновья могущественной страны — России? Не забывает ли он, что в России найдутся силы, которые вступятся за нас? Не берет ли на себя начальник слишком большую ответственность за попытку поссорить два государства? Наконец, известно ли ему, что такое измена? Завлечь безоружных людей в крепость, диктовать им свои условия и угрожать, — это и есть измена.
Моряки «Дианы» встали одновременно. Японец пронзительно вскрикнул и схватился за саблю. Но в глазах его был испуг. Вот почему он дважды пытался выйти из палатки: он боялся в эти заранее рассчитанные минуты за свою жизнь! Но оглянувшись на вооружённую охрану, он осмелел и начал говорить крикливо и запальчиво.
Лицо Алексея побелело, губы и веки дрожали.
— Какое несчастье, капитан!.. Мы не уйдём отсюда… Они нас убьют…
Из всей длинной речи японца Алексей понял только одно: если начальник выпустит хотя бы одного русского из крепости, ему самому вспорют брюхо.
— Ясно, — сказал Головнин. — Бежим! К шлюпке!
Отбросив приземистого копейщика, он выбежал из палатки. В крепости поднялся вой и визг. Могучим ударом Хлебников опрокинул нескольких японцев. Близко грянул выстрел.
Капитан выбежал в ворота. Вой и визг в крепости стали ещё яростней и громче. Выстрелы защёлкали теперь очень часто. Над головой просвистело несколько пуль. Из неглубокого овражка поднялась вдруг многочисленная засада. Головнин увернулся от удара, выхватил из рук солдата копьё. Рядом оказался Хлебников. Он прорвался к своему капитану сквозь толпу. Подхватывая камни, работая кулаками, сюда же пробивались матросы Васильев и Шкаев. Мичмана Мура, матроса Макарова и Алексея на откосе не было видно. Их схватили ещё в крепости. Но четверым все же удалось вырваться. Берег был совсем близко…
Но что же случилось со шлюпкой? Она была у самой воды, а теперь оказалась в добрых пяти саженях от неё. Головнин увидел покрытые водорослями, мокрые камни и понял: был отлив. И им не сдвинуть эту тяжёлую шлюпку.
«Значит, все кончено!» — подумал Головнин и посмотрел на рейд, где виднелся стройный корпус «Дианы».
Дозорные «Дианы» доложили Рикорду, что в крепости происходит какая-то сумятица: японские солдаты поминутно вбегали в ворота и возвращались.
Рикорд, Рудаков и другие офицеры поспешили на мостик шлюпа. В подзорные трубы они видели, как геройски пробивались к шлюпке четверо русских, а пятый бежал им навстречу, швыряя в японцев камнями…
Рикорд узнал капитана и штурмана Хлебникова, стоявших перед слабой полоской прибоя в ожидании своей судьбы. Он видел, как окружила их толпа и в солнечном воздухе засверкали сабли.
До боли сжав кулаки, стиснув зубы, чтобы сдержать рыдание, он долго не мог сказать ни слова. За синеватым кругом стекла толпа японцев медленно удалялась. Солнечный берег вскоре опустел.
— Всех офицеров срочно на совет, — приказал Рикорд.
Через минуту офицеры собрались на палубе. Глядя в их застывшие лица, Рикорд сказал:
— Наш капитан в плену. Возможно, его и отбывших с ним моряков уже нет в живых. Возможно, что в эти минуты предатели готовят казнь. Как быть?
Некоторое время офицеры молчали. Лейтенант Илья Рудаков выступил вперёд:
— Мы все готовы идти в бой и драться до последнего человека. Но облегчит ли это участь пленников? А если при нашем выступлении изменники поторопятся их убить? Они могут это сделать из трусости, злобы, опасения расплаты. Я предлагаю испробовать ещё раз мирные пути, и если все усилия будут напрасны, — тогда бой… Самый жестокий, без пощады!..
Доводы Рудакова были вески. Попытка спасти пленных казалась ещё не поздней. Японцы могли убить их на берегу, но почему-то увели в крепость. Значит, пленники зачем-то нужны самураям? Это и давало надежду на спасение капитана и его спутников.
— Есть ли ещё предложения? — спросил Рикорд.
— Назначить делегата для переговоров, — сказал кто-то из офицеров.
— Я предлагаю вызвать добровольцев, — воскликнул Якушкин. — Если мне доверят хотя бы сопровождать делегата… Я готов…
— Здесь все на это готовы, — заметил Рикорд. — Придётся бросить жребий. Итак, мы избираем мирный путь. Мы будем надеяться…
Он не успел договорить. Над головами офицеров со свистом пронеслось ядро и взрыло воду далеко за шлюпом.
— Сейчас они пристреляются, — спокойно проговорил штурманский помощник Новицкий. — На таком расстоянии это не трудно…
— Однако ведь это и есть их ответ! — гневно прокричал Рикорд. — Они будут палить по шлюпке нашего делегата… Слушать мою команду!.. К пушкам!..
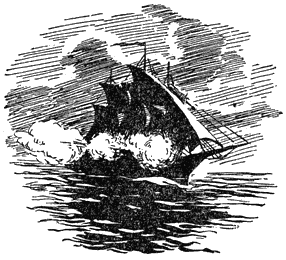 |
Шлюп дрогнул от залпа и окутался синеватым дымом. С крепостной стены свалился продырявленный щит. У ворот крепости заметались солдаты.
Глядя в подзорную трубу, кусая губы, Рикорд сказал Илье Рудакову с горечью:
— Как жаль! Наши ядра слишком малы, а глубина не позволяет подойти ближе. Так мы можем только припугнуть их, но не больше… Ну-ка, ещё раз. Огонь!
В крепости взвился дымок, — видимо что-то загорелось; по откосу запрыгали камни, обрушенные с земляного вала.
— Это — булавочные уколы, — разочарованно сказал Рудаков. — Нужно немедленно выйти из-под обстрела.
Рикорд согласился. Через несколько минут, подняв якоря, «Диана» отошла на дальний рейд и остановилась напротив рыбачьего селения, видневшегося на длинной отлогой косе.
Готовясь к высадке десанта с целью завладеть крепостью, Рикорд высчитывал соотношение сил. По его наблюдению и по мнению офицеров, японский гарнизон на острове был многочисленным, — не менее четырехсот человек. К этому количеству следовало ещё прибавить все мужское население посёлка, которое, конечно, заставят принять участие в обороне. Цифра становилась внушительной: в распоряжении японского начальника находилось свыше пятисот человек. К тому же укрепления, батареи…
На шлюпе же было всего пятьдесят человек. На корабле должно оставаться не менее десяти-двенадцати человек; у шлюпок на берегу тоже нужно было оставить хотя бы трех матросов… Что же могли бы сделать тридцать моряков против крепости, защищённой с моря земляным валом, за которым притаилась такая сила?
Было бы безрассудно посылать людей на верную гибель и обрекать на гибель корабль — ведь десять-двенадцать человек не смогут довести его в Охотск. Тогда в России никто не узнает о причинах гибели шлюпа. А это самый желательный для японцев вариант…
— Я принял решение, — сказал Рикорд, — «Диана» идёт в Охотск, чтобы увеличить силы и возвратиться. Мы не оставим товарищей в беде, — нет, никогда не оставим, хотя бы это стоило и опасностей, и жертв.
Он достал из папки и развернул большую, подробную карту острова Кунасири, недавно писанную рукой Головнина. Семь высот, разбросанных за крепостью, и сама крепость, малый полуостров и длинная рыбачья коса, свыше семидесяти промеров глубин и большая подводная отмель, три скалы и подводная банка у входа в залив, — все было обозначено на этой карте с предельной точностью, свойственной Головнину.
— Этот залив не имеет названия, — молвил Рикорд. — Теперь он получит имя… «Залив Измены»…
И, облокотясь на перила мостика, он крупно написал на карте эти два слова.
Шлюп медленно, словно нехотя, одевался парусами.
Связать человека так, чтобы он не мог пошевелиться, чтобы малейшее движение вызывало мучительную боль, а при попытке бежать петля, наброшенная на шею, немедленно захлестнулась, — у японцев считалось искусством.
Пленные стояли на коленях, и солдаты ловко соединяли петли на груди и вокруг шеи, стягивая локти за спиной так, что они соприкасались, тонким шнуром оплетали кисти рук.
Потом они стали вязать пленникам ноги.
Работали солдаты молча, неторопливо. Пленные тоже молчали, только мичман Мур негромко плакал и стонал.
Когда все пленные были связаны, солдаты приступили к обыску. Они не упустили ни одной мелочи. Даже иголки, мелкие монеты, запасные пуговицы — все перекочевало в их карманы.
Заметно утомлённые, японцы сели в кружок и так же молча закурили свои длинные бамбуковые трубки.
— Они решили повесить нас на берегу, — прохрипел Хлебников, слизывая с губ кровавую пену. — Я не виню вас нисколько, Василий Михайлович, вы не подумайте плохого… Я знаю вас не первый месяц и год, — вы были всегда человеком сердечным и справедливым…
— Но я доверился их слову! — тихо ответил Головнин. — Слову изменников… И вы теперь страдаете из-за меня и жизнью платитесь, друзья мои… Я не боюсь смерти, нисколько не страшусь, но помнить, все время помнить о том, что я виноват и в страданиях ваших и в гибели — вот самая страшная пытка…
Михайло Шкаев, бывалый удалой матрос, с трудом повернул к Головнину лицо.
— Не те слова, капитан, совсем не те… Разве мы не общее дело делали? Или мы для веселья прибыли в треклятую эту дыру? А виновные — вот они, перед нами, отступники от слова…
Матрос Григорий Васильев сказал:
— Мы с вами до конца, капитан… И не о чем жалеть. Мы все равны и перед долгом, и перед смертью.
Солдаты встали, о чем-то пошептались в уголке, затем возвратились к морякам и ослабили петли, наложенные повыше колен.
Старший солдат кивнул Головнину на выход, и капитан первым вышел из палатки. Каждого пленного сопровождали двое японцев: один держал в руке конец верёвки, другой, шагая рядом, держал на изготовку ружьё… За воротами крепости старший солдат указал на узкую извилистую тропу, уходившую в горы. Пленные взошли на вершину холма. Головнин остановился и, взглянув на гавань, вскрикнул. Далеко на рейде, одетая белыми парусами, медленно плыла «Диана».
Хлебников тоже увидел судно. Плечи матроса поникли и затряслись.
— Василий Михайлович… Капитан!.. В последний раз мы видим родную «Диану»!..
Головнин покачнулся, слезы застилали его глаза, но он твёрдо сказал:
— Ты знаешь, что говоришь?! Мы не умерли, — мы ещё живы!..
Он с силой рванул верёвку; кровь брызнула из рассечённой кожи на кистях рук.
Шкаев скрипнул зубами:
— Эх, только бы товарищи рассчитались за нас!..
Капитан выпрямился, вскинул голову.
— О чем ты говоришь, Михаило?! Чтобы товарищи высадились на берег?.. Пуще смерти боюсь я безрассудной попытки выручить нас или мстить… Ведь они погибнут до последнего человека! Их — малая горстка, а видел, сколько в крепости солдат? Высадка — это гибель, и не только десанта — корабля. У Рикорда, я думаю, хватит расчёта и хладнокровия, чтобы не сделать этой непоправимой ошибки.
 |
Конвойный что-то крикнул и толкнул Головнина прикладом, другой натянул верёвку, показывая на тропу. Едва передвигая ноги, Головнин сделал несколько шагов. Он снова хотел обернуться, но конвойный дёрнул верёвку, и петли обожгли тело. Пошатываясь, Головнин отступил с тропы.
С рейда донёсся залп. Как хорошо был знаком капитану гром этих пушек!.. Значит, Рикорд повёл моряков в атаку.
Дальние угрюмые горы вдруг сдвинулись с мест и, как огромные волны, поплыли перед затуманенными глазами капитана. Хлебников пытался поддержать его, подставить плечо, но опоздал. Захлёбываясь кровью, хлынувшей из горла, с почерневшим лицом, Головнин рухнул на тропинку.
С рейда снова донёсся залп. Это был прощальный салют «Дианы».
Пленников вели на юг. Некоторое время они в сопровождении конвойных плыли в лодках по рекам, а затем, окружённые солдатами, шли каменными осыпями перевалов, зелёными долинами, усыпанной галькой приморской полосой.
Уже окончился июль и начался август. А они все шли.
Конвойные не снимали верёвок. Раны на руках пленных гноились. В селениях, где останавливались на ночлег, конвойные обвязывали раны тряпьём и снова стягивали петли.
И все же на бесконечной этой дороге у пленников были и светлые минуты. В селениях и рабочих посёлках, в разбросанных на побережье городках моряков окружали толпы простых людей… Эти люди давали пленным воду, табак, сушёную рыбу, зелень, рис… И трогала моряков эта сердечная человеческая доброта.
Восьмого августа пленники приблизились к городу Хакодате. Власти этого города уже успели изобразить пленение русских моряков как великий подвиг японского оружия. Люди вышли навстречу, чтобы посмотреть на пленных.
Удивлённым молчанием встречала все нараставшая толпа семерых измождённых, измученных путников, в облике которых не было ни свирепости, ни злобы, ни готовности броситься на любого из японцев. Это были рослые, видно сильные люди, очень спокойные, равнодушно смотревшие вокруг.
Расталкивая толпу, солдаты повели пленников к тюрьме.
Сухощавый, с тусклыми безразличными глазами, с надменными складками по углам губ, начальник города неподвижно сидел на полу на возвышении, глядя в какую-то точку перед собой. Два секретаря его, в чёрных халатах, с кинжалами за поясами, сидели несколько позади. Места по обе руки начальника заняли два его помощника. Были здесь и телохранители, за все время встречи ни разу не подавшие голоса. С левой стороны у каждого из них лежали большие обнажённые сабли.
Пленных ввели и поставили перед начальником в два ряда: впереди — капитана и офицеров, позади — матросов. Переводчиков, — Алексея и пожилого курила, с японской стороны, — усадили в стороне. Секретари поспешно придвинули к себе чернильницы.
Начальник задавал вопросы медленно, равнодушно.
Головнин назвал свою фамилию, имя, отчество, год рождения, имя и отчество отца, матери, чин, звание, место рождения, где учился и служил… Но эти расспросы были настолько пустыми, что он сказал начальнику напрямик:
— Нельзя ли, уважаемый, поближе к делу?
Выслушав переводчика, японцы засмеялись. А губернатор бесстрастным, скучным голосом повторил:
— Итак, имя, отчество, фамилия, место и год рождения?
Допрос являлся формой моральной пытки, рассчитанной на длительное психическое напряжение пленного. Несколько часов подряд Головнин, Хлебников и Мур отвечали на одни и те же, лишь видоизменённые вопросы, вспоминая, в каком именно часу «Диана» прибыла в Капштадт, когда проходила экватор, какие погоды встретили её у Камчатки, сколько осталось в запасе провизии и воды.
Такие допросы повторялись очень часто. В тюрьме японцы тщательно следили за поведением заключённых. Больше всего удивлялись они их капитану. Этот человек нашёл себе странное развлечение: он вязал узелки. Осторожно вытаскивал из манжета или из нашейного платка нитку, ссучивал её в ладони и завязывал узелок. Этих ниток с узелками у него уже было много. Сосредоточенный, он подолгу сидел неподвижно, внимательно рассматривая узелки; губы его шевелились, он улыбался или мрачнел…
Никто не знал, что с помощью этих узелков Головнин вёл свой дневник. Каждая нить и количество узелков означали определённое событие. В бумаге и чернилах капитану отказали, и он придумал необычное «письмо», которое читал свободно.
Однажды за таким «чтением» его застал тюремный начальник.
— Оставьте свои забавы, капитан, — это ведёт к помешательству, — молвил он строго. — Сейчас я вам покажу кое-что более интересное…
Четыре японца внесли в коридор какой-то громоздкий предмет и поставили на пол. Головнин присмотрелся и бросился к решетке. Да, он не ошибся. Это был его сундук, оставленный на «Диане». Значит, корабль или захвачен японцами или разбился на скалах? Более страшной вести для капитана и быть не могло.
Он медленно отступил от решётчатой двери и, обессиленный опустился на койку. Японец смотрел с насмешливой улыбкой:
— Что? Узнаете, капитан?..
Головнин скрипнул зубами:
— Узнал… Вы — мастера пыток… В этом вам нельзя отказать.
Вскоре после этого старший тюремный чиновник объявил:
— Собираться в дорогу! Пленных приказано отправить в Мацмай.
И снова прочные петли легли на плечи и обвили грудь. За каждым пленником снова встали по два караульных. Город Хакодате, с его бесчисленными лавчонками, с игрушечными домиками, с толпами зевак на узких изогнутых улицах, с рыбачьими кораблями на близком рейде через два часа скрыла безлесная кремнистая гора…
В Мацмае мало что изменилось в условиях жизни моряков. Японский начальник в Мацмае оказался чином выше прежнего, хакодатского; замок его был богаче, прислуга многочисленней. Но верёвочные петли на теле пленников остались все те же. Так же, как в Хакодате, пленников поместили в отдельную, специально для них построенную тюрьму. И даже вопросы, которые задавал им начальник, были не новые: большой ли Петербург, сколько в нем военных казарм, сколько в каждой казарме окон…
Через некоторое время старший помощник губернатора выехал со всеми материалами следствия в столицу для окончательного решения вопроса о пленных.
Наступила и прошла зима, близилась уже весна, а в положении пленных ничего не менялось, только кормить их стали ещё хуже.
Иногда, по просьбе капитана, Алексей спрашивал караульных солдат о новостях. Ответ был всегда один и тот же:
— Плохие дела ваши, очень плохие! Если бы они были хорошие, столица ответила бы уже давно.
— Остаётся единственное, — говорил капитан Хлебникову, — бежать. Следовало попытать счастья ещё в Хакодате. Но бежать мы сможем и отсюда, — берег не так-то далёк. С весной восточные ветры пригоняют сюда туманы. Дождёмся такого ветра — и в путь. Я не вижу другого выхода…
— Я согласен, Василий Михайлович, хотя бы этой ночью, — откликался Хлебников без колебаний. — Однако следует со всеми нашими условиться. Матросы Макаров и Шкаев прямо настаивают — мол, скорее! А вот Васильев и Симанов почему-то молчат… Одно отвечают: «Как господин Мур скажет»… Почему это Мур и с какого времени стал для них старшим? И ещё не знаю, как быть с Алексеем. Разве открыть ему, что начинаем готовиться? А вдруг донесёт?..
— Сначала мы договоримся между собою, — решил Головнин. — Алексею можем сказать в самые последние минуты. С Муром я сам поговорю.
Он встретился с мичманом при первой же прогулке в коридоре. Медленно шагая рядом к дальнему углу, капитан спросил насторожённо и тихо:
— Вы согласны, мичман, бежать?
Мур вытянул шею и удивлённо обернулся к Головнину.
— Изволите шутить, Василий Михайлович? Куда бежать? На верную гибель?
— Бежать к морю. Мы захватим рыбачье судно и, пользуясь туманом, уйдём к Татарскому берегу или в самый Охотск. Гибель, конечно, возможна, однако возможен счастливый исход…
Мур не ответил. Продолжая шагать рядом, он тихонько насвистывал какой-то мотив. Повидимому, он думал. Головнин тёрпеливо ждал. Резко остановившись, вскинув своё нежное лицо, мичман проговорил насмешливо и как бы поучая:
— Хорошо для романа приключений… Оставьте эти наивные мечтания, капитан.
— С какого времени, мичман, вы стали позволять себе этот тон?..
Мур усмехнулся, показав белые ровные зубы.
— Разве вам не понятно, что с той минуты, как мы оказались, — кстати, по вашей вине, — в плену, вы перестали быть капитаном?
— Помнится, вы очень хотели отправиться со мной на остров? Я очень сожалею, что взял вас с собой…
— Я тоже очень сожалею о том часе! — воскликнул Мур. — Если бы я только мог подумать… Но перестанем об этом. Никто с вами не пойдёт. Это — во-первых…
— Со мной согласны идти Хлебников, Макаров, Шкаев. Для них я попрежнему капитан… Это — русские моряки.
Мичман капризно поморщился.
— Русские! Васильев и Симанов тоже русские, но они не пойдут. А что касается меня, вам, кажется, известно: я не совсем русский. Вернее: совсем не русский. Я происхожу из немецкой дворянской фамилии.
— И на этом основании, — глухо спросил Головнин, — вы больше не считаете себя… офицером русского флота?
Мур спохватился, поняв, что слишком далеко зашёл.
— Нет, дело не в подобных основаниях. Просто я не желаю так глупо рисковать головой…
На этом и окончился их разговор.
Молодой японец по имени Тёске, приставленный к пленным для обучения русскому языку, в тот вечер был особенно разговорчив. Он пользовался у губернатора большим доверием, чем очень гордился и дорожил, а сегодня его покровитель — сам буньиос оказал юноше особую, ласку: он потрепал его по щеке. Теперь Тёске рассказывал об этом, смеясь, а караульные и начальник тюрьмы с завистью смотрели на него и находили каждое слово его умным и многозначительным.
Повидимому, что-то многозначительное Тёске решил сказать и пленным. По-русски он говорил ещё неважно, однако объясниться ему помог Алексей.
Оказывается, у японцев хранилась какая-то бумага, написанная Хвостовым. Изгнав в 1806 году японских браконьеров из бухты Анива, этот лихой человек задержал наиболее задористых и важных из них и доставил их в Петропавловск. В следующем году на пути к Итурупу он высадил задержанных на одном из японских островов с письмом на имя мацмайского губернатора.
Что было написано в послании Хвостова? Почему, допрашивая русских моряков, японцы не проронили ни слова об этом письме?
Тёске сказал, что ему содержание документа неизвестно, однако он слышал, будто в деле пленных это письмо имеет большое значение…
Утром, во время прогулки, Мур сам подбежал к Головнину. Бледный, растрёпанный, со следами бессонной ночи на лице, мичман выглядел поникшим и жалким.
— Простите меня, Василий Михайлович… я одумался. Я узнал, что они возлагают на нас ответственность за действия Хвостова. Значит, наша судьба решена… Надо бежать!..
Не забывая об осторожности, Головнин решил использовать колебания Мура и вырвать из-под его влияния двух матросов.
— Договоритесь с Васильевым и Симановым, — сказал он, — сегодня же начинаем сборы. Через два-три дня мы уйдём.
Этот срок, казалось, испугал мичмана. Мур растерялся.
— К чему же такая спешка? — говорил он позже Хлебникову. — Я полагал недели через две. Истинно говорит пословица: семь раз отмерь, один отрежь…
Хлебников хмурился, отвечая неохотно:
— Японцы-то отмерили уже не семь раз, — больше… Несмотря на ваше происхождение из немецких дворян, они успеют за эти две недели и… отрезать. Я говорю о вашей голове, мичман…
Мур ещё пытался бодриться:
— Не смейте меня запугивать!.. Я не из робкого десятка. Я согласен к побегу даже через два дня.
А Головнин тем временем говорил с курилом.
— Мы собираемся бежать, Алексей… Готовься.
Курил вздрогнул.
— Не может быть, капитан!
— Мы доверяем тебе тайну, как другу.
Алексей смотрел широко открытыми и словно невидящими глазами.
— Как другу… Я понимаю. Однако это погибель, Василий Михайлович… — Он глубоко вздохнул и резко выпрямился. — Но я с вами. Всегда с вами. Куда вы, туда и я.
План бегства, предложенный Головниным, был прост и давно уже им обдуман. После полуночи, когда пленные засыпали, а караульные уходили в свою сторожку, нужно было проскользнуть в дальний угол, к двери, перерезать деревянный брус и открыть эту дверь. Затем оставалось только перебраться через ограду. Лёгкий и прочный трап для этого можно было сделать из одежды и ремней. Шесты, на которых сушилось бельё, на первое время могли заменить оружие. Против сабель, копий и ружей с этими палками, конечно, не устоять, но Шкаев сказал уверенно:
— Смелость города берет, а рыбачью посудину возьмёт и подавно!
Теперь осталось дождаться восточного ветра. С этим ветром на море ляжет туман — надёжное укрытие для беглецов.
…Желанный ветер подул через два дня. Прильнув к узенькому окошку, Головнин видел, как, медленно переваливая через взгорья, заволакивая овраги и перелески, с моря неторопливо полз тяжёлый, сизый туман.
Лица моряков были попрежнему суровы, но стали как будто светлее. Теперь нужно было окончательно условиться о часе побега. Они покинут темницу сразу же после полуночи, чтобы к утру быть уже далеко… Вскоре Головнин увидел Мура.
— Счастье нам улыбается, мичман, — сказал он. — Заметили, какая погода? Мы будем на свободе через несколько часов!
— Это… серьёзно? — будто о чем-то незначительном, спросил Мур, не глядя на капитана.
Головнин почувствовал, как тревожно ударило сердце.
— Вы в курсе дела, мичман. Я назначаю час…
Мур усмехнулся небрежной, деланной усмешкой.
— И даже назначаете час освобождения? О, волшебники! Но прекратите шутки, капитан. Неужели вы до сих пор считали меня глупцом?
Головнин шепнул ему, показав глазами на караульного:
— Тише!..
Но Мур нарочно повысил голос:
— Я хочу, чтобы это знали все: и вы, и Хлебников, и матросы. Я никуда с вами не пойду. Слышите? И больше не приставайте ко мне с вашими благоглупостями. У меня нет ни малейшего желания болтаться с петлёй на шее…
Из тёмного угла к ним неслышно шагнул Хлебников.
— Это… это предательство!.. Вы способны предать, мичман?
Быстро и воровато, будто опасаясь удара, Мур взглянул на его руки. Этот простоватый, не блиставший образованием штурман давно уже вызывал у него неприязнь. Теперь ему хотелось уколоть штурмана как можно больнее. Он тихо засмеялся.
— Вы называете это предательством, голубчик? В вас чувствуется опытный заговорщик. Я частенько прислушивался к вашим разговорам с матросами и спрашивал себя: а не из тех ли вы мужиков, что барские поместья поджигали? Вот вы смутились… Значит, верно? Подслушивать секреты — это уже предательство, Хлебников. Пытаться поссорить меня с капитаном — жалкая, плебейская выходка… Впрочем, я не собираюсь обучать вас правилам приличия. Были бы мы на свободе, и оказались бы вы дворянином, я просто отвесил бы вам пощёчину, мужик!..
Он резко обернулся, собираясь отойти в сторону, но капитан удержал его за локоть.
— Я повторяю вопрос штурмана: вы способны на предательство, Мур?
Мичман нервно передёрнул плечами, с усилием высвободил локоть:
— Я ничего не знаю о ваших планах. Я твёрдо решил остаться в заключении и терпеливо ждать своей судьбы. Ваше безрассудство может погубить и меня… Поэтому будет значительно лучше, если мы прекратим наше знакомство.
— Все ясно, — очень тихо прошептал капитан. — Теперь все ясно, немецкий дворянчик!..
Хлебников сказал равнодушно, так, словно Мура и не было здесь и речь шла о самом обычном деле:
— Если вы прикажете мне убрать предателя, я это исполню, капитан…
Почти всю весну и все лето 1812 года в Охотском море гремели штормы. Старожилы этого сурового края — рыбаки, охотники, оленеводы говорили, что не помнят таких непрерывных непогод.
«Диана» и маленький бриг «Зотик» с трудом преодолевали штормы.
Путь к острову Кунасири был очень долог. Рикорд не мог уклониться от выполнения приказа. Медленно продвигаясь на юг, в туманы отстаиваясь на якоре, штормуя в открытом океане, постоянно рискуя кораблями в неисследованных проливах, он продолжал опись Курильской гряды.
Семеро спасённых после аварии судна японских рыбаков, что разместились в каютах «Дианы», не раз удивлялись действиям русского капитана. Нужно было прямо держать на юг, и они говорили ему об этом, но капитан почему-то все время менял курс.
— Разве я могу положиться на ваше слово? — будто оправдываясь, иногда говорил он японцам. — Русских моряков японцы уже обманули на Кунасири. Пригласили в гости и захватили в плен… А может быть, вы хотите, чтобы корабль разбился на скалах?
Японцы молча соглашались: капитан действительно имел основание не доверять им. Но Рикорд обманывал своих пассажиров: он хранил тайну производимой описи. Завершение этого большого ответственного дела было как бы заветом Головнина.
Только в августе «Диана» и «Зотик» вошли в залив Измены. И с первого взгляда Рикорд понял, что японцы не теряли времени напрасно — малую крепость они расширили, на берегу был воздвигнут хорошо укреплённый форт. Расположенные в два яруса четырнадцать тяжёлых орудий смотрели с этого форта на залив.
Моряки «Дианы» и «Зотика» были уверены, что сражение начнётся если не тотчас по приходу в залив, то после первого недружелюбного действия японцев. На шлюпе и на бриге все были готовы к бою, но Рикорд оставался попрежнему осторожным. Даже письмо на имя коменданта крепости он решил передать не кем-либо из офицеров или матросов, а одним из находившихся на шлюпе японцев.
Четверо бравых гребцов быстро доставили посыльного японца к берегу, и шлюпка сразу же повернула обратно. Встреченный целой толпой солдат, японец вошёл в ворота крепости. Судя по времени, он не успел передать письмо, как загремели японские пушки. Шлюпка пронеслась прямо сквозь всплески разрывов.
— Они поторопились, — сказал Рикорд. — Это, наверное, опять от страха. Но сейчас они ознакомятся с письмом…
Посланный японец не возвратился. Его ждали на шлюпе несколько часов. Ворота крепости не открывались. Не могло быть, чтобы комендант так долго обдумывал ответ или пытался выиграть время. Повидимому, он не желал отвечать.
Соблюдая обычное хладнокровие, Рикорд сказал оставшимся шестерым японцам:
— Вот благодарность вашего начальства за то, что мы помогли вам возвратиться на родину… Я мог бы стереть эту крепость с лица земли, но не хочу напрасных жертв и дальнейших недоразумений. Пусть ещё один из ваших отправится на берег и скажет коменданту, что я терпеливо жду ответа.
На этот раз японцы шлюпку не обстреливали, но и второй посыльной не возвратился.
— Все же я удивляюсь вашему терпению, Пётр Иванович, — нервно похрустывая пальцами, заметил Рудаков. — Этак мы, пожалуй, отошлём к ним всех привезённых японцев?..
Рикорд сосредоточенно смотрел на берег. Не оборачиваясь, он приказал:
— Пошлите третьего… И пусть он спросит у своих: ждать нашим матросам ответа или возвращаться на корабль?
Шлюпка не задержалась у берега. Старший матрос доложил капитану:
— Нам сказали возвращаться. Но солдаты не знают, даст ли комендант ответ.
— Хорошо, — тихо и зло проговорил Рикорд, — пошлите четвертого. Если понадобится, мы захватим их сотню.
Уже на закате от берега отчалила и направилась к «Диане» малая лодка с единственным гребцом. Это был первый посыльной — сгорбленный седой рыбак, открыто опасавшийся возвращаться на родину.
Японец медленно поднялся на палубу шлюпа и, опустив голову, не глядя по сторонам, приблизился к мостику. Шёл он пошатываясь и вдруг упал на колени. Прижимаясь лицом к палубе, долгое время оставался неподвижным, только худые костлявые плечи его вздрагивали под синей бумажной тканью халата, словно от рыданий…
Рикорд кивнул матросам:
— Поднимите его…
Опираясь на дюжие руки, старик покорно встал. Лицо его было пепельно-серым, глаза смотрели с отчаянием и мольбой:
— Печальная весть, капитан… Они… убили всех ваших. Пощади меня, капитан!
Рикорд метнулся по мостику. Ворот стал ему тесен, до боли сжал горло. Он изо всей силы рванул борт мундира, так, что пуговицы со звоном запрыгали по палубе, и, не узнавая собственного голоса, выкрикнул только одно слово:
— Месть!..
Начальник тюрьмы с изумлением смотрел на пленного офицера. Никто из группы моряков, захваченных на Кунасири, до сего времени не унижал себя такими недостойным кривляньем. А этот человек каждому солдату глубоко кланялся, падал перед ним на колени, прикасаясь лицом к земле. Других пленных он почему-то перестал замечать, держался в стороне от них, а если его окликал кто-нибудь из японцев, он бросался бегом, снова униженно кланяясь и заискивающе улыбаясь.
В течение нескольких часов так неузнаваемо переменился Мур, что не только матросы, но даже караульные поглядывали на него теперь с опаской: не тронулся ли мичман умом?
Но Мур был вполне здоров. Скрытный, завистливый и льстивый, он без труда перешагнул ту грань, что отделяет себялюбца от предателя. Пока у него оставалась надежда на возвращение в Россию, он ещё держался круга пленных товарищей. Искусно притворялся, с наигранной готовностью на риск он заставлял товарищей верить себе. Даже чуткого, внимательного к людям капитана он обманывал не раз… Но теперь надежда на освобождение уменьшилась и Мур становился самим собой — жалким, беспомощным, трусливым и готовым на любую подлость.
Странной перемене в поведении мичмана предшествовал комический эпизод. Как-то мартовским утром постоянный переводчик, молодой японец Тёске, уже не плохо обучившийся русскому языку, привёл к пленным одного гостя. Это был пожилой дородный человек. Караульный поспешно постелил перед ним циновку. Медленно опустившись на пол, гость сказал:
— Я Мамия-Ринзо, астроном и землемер, знаменитый путешественник и воин, пришёл к вам, русские люди, с твердым решением изучить вашу науку. Вы должны объяснить мне, как вы описываете берега и ведёте астрономические наблюдения.
— Но если вы астроном и землемер, — ответил ему Головнин, — чему же мы сможем научить вас, учёного человека?
— О да, — согласился он не без важности. — Я действительно астроном и землемер и знаю очень, очень многое.
Под полой его халата оказался довольно объёмистый кошель, из которого он извлёк астролябию с компасом, медный, английской работы секстант, чертёжные инструменты… Любуясь своим богатством и, словно украдкой, поглядывая из-под бровей на моряков. Мамия-Ринзо спросил:
— Теперь вам ясно, с кем вы имеете дело?
— Мы верим вам на слово, — заметил Головнин. — Эти несложные инструменты нам известны…
Неожиданно Мамия-Ринзо вспылил:
— Как? Несложные инструменты?! Но умеете ли вы с ними обращаться? Он говорит: «несложные»! Я и сам не знаю этим инструментам цены…
— У нас, в России, цена им не очень-то велика, — сказал Головнин, с любопытством наблюдая за вспыльчивым посетителем. — Что же касается умения обращаться с астролябией и сёкстантом, — мы готовы поучиться вашим приёмам…
Мамия-Ринзо выслушал перевод и некоторое время смотрел на капитана то ли растерянно, то ли удивлённо.
— Очевидно, вы меня не поняли, — сказал он наконец, — вы должны меня учить.
— Да ведь вы же астроном и землемер!
— Ну и что же? — ответил японец невозмутимо. — Я астроном и землемер, знаменитый путешественник и воин… А вы ещё должны научить меня обращаться с этими инструментами.
Моряки засмеялись, а Головнин серьёзно сказал:
— Теперь мы знаем, какой вы астроном и землемер, хотелось бы ещё узнать, какой вы путешественник и воин…
Мамия-Ринзо оживился.
— Я только что хотел об этом рассказать. Я побывал на Сахалине, и неподалёку от тех мест, где впадает река Амур, и неподалеку от Манчжурии, и на многих Курильских островах. Я был на Итурупе в то самое время, когда к острову прибыл знаменитый русский моряк Хвостов!.. Мы дрались, словно тигры, а потом убежали в горы… За этот бой я получил и пожизненную пенсию.
— Вы получили награду и пенсию, и повышение в чине? — переспросил Головнин.
Мамия-Ринзо улыбнулся.
— Спросите у караульных. Они знают об этом. Должен сказать вам, я очень жалею, что Хвостову удалось так просто уйти. Если бы прибыли наши подкрепления — десять или двадцать кораблей, — мы бы гнались за ним до самого Охотска и разгромили бы город Охотск…
Капитан не выдержал, захохотал:
— Счастье ваше, что вы не знаете дорогу в Охотск. Ни один из ваших кораблей обратно, наверняка, не вернулся бы…
Мамия-Ринзо насторожился…
— Вы хотите сказать мне, воину…
— Что ваши корабли были бы потоплены или захвачены.
Мамия-Ринзо тонко взвизгнул и затряс кулаками.
— Вы смеете нам угрожать! Вы находитесь в плену и угрожаете!.. Пусть об этом сегодня же узнает буньиос. Он был к вам слишком ласков. Теперь милости его кончились. Буньиос просил о вас, писал в столицу. Он хотел, чтобы вас отпустили. Но вчера он получил ответ, в котором приказано содержать вас в вечном строгом плену, а в случае, если к берегам Японии приблизится ещё один или несколько русских кораблей, разбить и сжечь их вместе с экипажами… Что вы теперь скажете? Не забывайте, что говорит воин…
Лица матросов точно окаменели. В коридоре стало очень тихо. Мамия-Ринзо был доволен произведённым впечатлением и после молчания спросил уже уверенно:
— Надеюсь, вы согласитесь меня обучать? Это может, пожалуй, улучшить ваше положение…
Капитан покачал головой:
— Нет. Мы не боимся угроз. Мы обучили Тёске русскому языку добровольно. Если нам угрожают, мы говорим: нет…
— Но вы погибнете все до одного!
— Это останется на совести вашего правительства.
Мур сидел у самого камелька. И Тёске, и Алексей переводили на этот раз подробно. Головнин приметил, как дрогнуло и побледнело нежное лицо мичмана. Мур торопливо поднялся и, не взглянув ни на кого, осторожно, крадущейся походкой удалился в свою клетку.
Решение, которое у Мура возникало уже не раз, теперь, очевидно, окончательно оформилось. В этом решении какая-то роль отводилась и Алексею. Курил знал японский язык, значит он мог оказаться Муру полезным. А остальные пусть сами думают о себе. Мичман решил во что бы то ни стало завоевать доверие японцев. Что нужно для этого? Прежде всего, порвать со своими. Они уже назвали его предателем… Пусть! Беглецы все равно погибнут, и никто ничего не узнает. Он — немец. Скажет, что случайно оказался на русской службе, заверит, что Россию никогда не любил и только волей обстоятельств был вынужден тянуть ненавистную мичманскую лямку. Он станет у японцев переводчиком, будет обучать их русскому языку, а со временем, пусть через годы, он сумеет бежать в Европу на одном из голландских кораблей. В Европе он станет лучшим знатоком далёкой таинственной Японии. Это будет путь славы…
Назойливый бес тщеславия ночью не позволил Муру уснуть. Виделись ему собственные портреты в берлинских, парижских, лондонских ведомостях и журналах, виделись красочные обложки книг, в которых восторженные биографы описывали легендарные приключения Мура в Японии… Слава и деньги! Но самое трудное — первый шаг. Если бы Головнин решился бежать и погиб из-за своего безрассудства!.. Как же помочь ему в этом? Как ускорить побег пленников, чтобы сразу же рассказать о нем японцам? А если выдать планы побега уже теперь? Японцы, пожалуй, не поверят. Какие имеются у Мура доказательства? Единственное: нож, который хранит Симанов. Однако Симанов может сказать, что, кроме него, никто не знает об этом ноже… Тогда обвинения Мура будут недоказанными, борьба между ним и остальными пленными станет открытой. Нет, спешить незачем. Пусть идёт время, он соберёт неопровержимые улики, и тогда японцы поверят каждому его слову.
Утро принесло Муру разочарование. Сидя в своей клетушке, он напряжённо прислушивался к разговорам пленных. Сначала приглушённо, невнятно о чем-то говорил Шкаев. Замечание Хлебникова прозвучало отчётливо, раздельно:
— И нас обязательно схватят…
Мур насторожился, приник ухом к деревянной переборке. Теперь заговорил капитан.
— Я убеждаюсь, что мичман Мур был прав, — произнёс Головнин с чувством горечи и сожаления. — Мы тешили себя смелыми планами бегства. Все это мечты. Довольно! Мы должны покориться судьбе…
Сомкнутые пальцы Мура хрустнули. Он едва удержался, чтобы не крикнуть: «Нет, вы должны бежать!..» Но может быть, они знали, что он подслушивает, и капитан говорит это, чтобы его обмануть?
Головнин продолжал тем же печальным тоном:
— Нас переводят в новый дом, и я уверен, что японцы предусмотрели возможную попытку к бегству…
— Когда переводят? — спросил Хлебников.
— Тёске сказал — завтра…
— Но у нас остаётся ещё целая ночь!..
— Не будьте легкомысленны, Хлебников, — уже негромко ответил капитан. — Мы не успели подготовиться. Пять сухарей, — надолго ли нам хватит этого запаса провизии?..
Мур сжался в комок, до боли стиснул ладонями голову. Если бы в эту минуту мичман выглянул из своей клетушки, он увидел бы, что все пленные смотрели в его сторону, а лицо капитана нисколько не выражало ни покорности, ни печали, — он говорил улыбаясь…
Хлебников тронул руку Головнина и, глядя на клетушку Мура, прошептал чуть слышно:
— Подслушивает, шкода!.. Пускай… Что это? Кажется, он плачет?..
Мичман Мур плакал. Впервые за время плена у него нехватило сил сдержаться. Неужели все его планы рухнули? Неужели Головнин отказался от попытки бежать?..
Нет, Мур не поверил, будто Головнин и его товарищи больше не помышляют о бегстве. Казавшийся равнодушным к долгим разговорам пленных, назойливо искавший общества японцев, Мур неусыпно следил за капитаном, штурманом и матросами… Притворяясь спящим, он напряжённо прислушивался к негромким, отрывочным их беседам, а когда оставался в помещении один, — торопливо обыскивал их постели. Он старался найти вещественные улики и доказать японцам, что эти шестеро готовились бежать. Он знал, — не таков Головнин, чтобы смириться, а матросы попрежнему были верны своему капитану.
С возрастающим нетерпением в течение трех, семи, двенадцати суток ждал мичман своего часа. Его нетерпение не раз сменялось досадой: не было ни единого признака того, что шестеро собирались в путь. Даже беспокойный Хлебников и тот переменился: он выпросил у караульных две иглы и хозяйственно занялся починкой одежды. Эти иглы часто ломались, но Хлебников точил их о камень и снова прилежно шил…
Не догадался Мур, что провели его, как мальчишку, с этой починкой одежды. Меньше всего штурмана интересовали новые заплаты. Он делал компас. Трением о камень он сообщил иглам намагниченность, отыскал где-то кусочек меди и соединил иглы мёдной планочкой; склеил разваренном рисом несколько листков бумаги и сделал футляр. Маленький хрупкий компас почти точно указывал полярные страны.
Не дремали в эти дни и товарищи Хлебникова. Они нашли огниво и сделали трут, потом незаметно раздобыли у японцев пару кремней. Постепенно увеличивались и запасы провизии. Сэкономленные горсти риса и соли пленные постоянно носили с собой, привязав небольшие мешочки подмышкой, припрятав за поясами…
…Около полуночи Михаило Шкаев и Дмитрий Симанов быстро, бесшумно выползли на тёмный двор. На крылечке они притаились, прислушались. Караульные разговаривали у ворот. Матросы соскользнули по ступенькам и спрятались под крыльцом.
В полночь патруль обошёл двор и возвратился в свою будку. Шкаев и Симанов подождали ещё некоторое время, подползли к ограде и с помощью старого, с трудом раздобытого долота начали рыть проход. Беззвёздная, чёрная ночь лежала над Мацмаем, и апрельский ветер доносил солоноватую свежесть моря…
Пушки «Дианы» и «Зотика» были наведены на берег. Рикорду стоило только взмахнуть рукой, и десятки ядер обрушились бы на крепость, где прятались японцы. Но Пётр Рикорд медлил. Он колебался: а вдруг комендант крепости солгал? Какие имеются у него, у Рикорда, доказательства, что Головнин и шестеро моряков убиты?
Он обернулся к японцу:
— Комендант сообщил о казни русских моряков письменно? Где это письмо?
Старик испуганно затряс головой:
— Нет… Он не дал мне письма…
— В таком случае, — окончательно решил Рикорд, — вы сейчас же возвратитесь на берег и привезёте мне письменное сообщение коменданта. Скажите ему: я жду этот документ. И пусть не медлит. За последствия будет отвечать он.
Шлюпка доставила японца к отмели, он спрыгнул на галечник и бросился к воротам крепости бегом. Корабли находились в боевой готовности до самой ночи. Комендоры не отходили от пушек. Но японец не возвратился. Это могло означать лишь одно: комендант не хотел присылать письменного подтверждения. Возможно, он хотел нападения русских, чтобы оправдать совершённое преступление. А если он лгал и Головнин с товарищами были живы, это нападение повлекло бы за собой самурайское возмездие: они могли казнить пленных.
Всю ночь Рикорд раздумывал над создавшимся положением. Самое верное, пожалуй, — действовать их же методами. Японцы захватили в плен семерых — значит нужно захватить их в десять, в двадцать раз больше. Пусть самураи сами ищут возможности мирного соглашения. Если они вздумают драться на море, — дать бой…
Эта мысль приходила Рикорду и раньше, когда доставленные на Кунасири японцы один за другим исчезали в крепости и не возвращались. Но тогда он думал только об этих спасённых и предназначенных для дружественного обмена рыбаках. Очевидно, соотечественники из простого народа нисколько не интересовали самураев. Что же, моряки «Дианы» и «Зотика» добудут персон поважней. Рикорд заставит самураев возвратить пленных или выдать письменное подтверждение их казни.
Два корабля покинули залив Измены и, не отдаляясь от берега, двинулись к югу.
Океан был пустынен и хмур. Маленькие чёрные курильские буревестники стремительно проносились у борта, почти касаясь крылом волны. И русские и японские моряки знали: буревестники играют перед штормом. Быть может потому, что близился шторм, в океане не было видно ни одного судна, — японцы не решались выходить из гаваней. Только уже перед вечером дозорный «Дианы» заметил неподалёку от берега большую байдару. Огибая прибрежные рифы, она быстро шла к заливу Измены.
С мостика «Дианы» послышалась команда капитана:
— Взять!..
Три шлюпки тотчас скользнули на волну и понеслись наперерез японскому судну.
Через полчаса группа японцев была доставлена к борту «Дианы». Они поднялись на палубу и, словно по команде, разом упали на колени, вопя и причитая на все лады. Только грозный оклик капитана заставил их умолкнуть. Указывая в сторону крепости, Рикорд спросил:
— Вы уже бывали в этом заливе?
Взятый на судно в пути курил-переводчик, хотя и не отлично говорил по-японски, но легко перевёл этот вопрос.
Японцы встревожились ещё сильнее. Старший из них осторожно оглянулся по сторонам и тихонько заплакал; вслед за ним громко заголосили и все остальные.
— Они не хотят отвечать? — спросил Рикорд.
— Да, они были в этом заливе, — сказал переводчик. — Вот старший плачет и повторяет: «Были… были…»
— Спроси: где пленные русские моряки?..
Но сколько ни бился переводчик, сколько ни помогали ему и офицеры и матросы, японцы повторяли одно и то же:
— Мы ничего не знаем… Мы хотим домой…
Рикорд приказал отправить японцев в трюм, накормить, выдать постели.
Ранним утром на подходе к заливу Измены с севера они заметили большой японский корабль. Если бы не темень ночи и не туман, они увидели бы его значительно раньше: судно шло на юг в сторону Хакодате или Мацмая и проскользнуло где-то близко от русских кораблей. По приказу капитана матросы задержали судно.
На этот раз Рикорд был доволен: он захватил шестьдесят японцев. Среди них оказался богатый, одетый в дорогие шелка купец, хозяин корабля. Он спросил капитана и, подойдя к Рикорду, произнёс торжественно:
— Я — Такатаи-Кахи. В Японии отлично известна моя фамилия. Кроме этого моего корабля, на который вы напали, у меня имеется ещё десять таких же больших кораблей. У меня есть также собственные рыбные промыслы и, наконец, собственные дома и замок. На меня работают сотни людей, потому что я, Такатаи-Кахи, очень богат.
— Хорошо! — воскликнул капитан, с интересом рассматривая дородного купчину. — Мне и был нужен именно такой господин…
— Такатаи-Кахи желал бы знать, какой ценой он может откупиться? — спросил купец, говоря о себе в третьем лице.
Рикорд посмотрел на японца с улыбкой.
— Поскольку жизнь и благополучие уважаемого Такатаи-Кахи бесценны, — с моей стороны было бы неприлично называть какую-либо цену.
Купец поклонился, приняв эти слова всерьёз.
— В таком случае, — произнёс он громко, — Такатаи-Кахи надеется узнать, чем объяснить это печальное недоразумение? Доблестный русский офицер принял меня, наверное, за кого-то другого? Смею заверить доблестного русского офицера, что я, Такатаи-Кахи, чья фамилия известна по всей Японии, не злопамятен. Я соглашусь простить эту ошибку…
— Вишь ты, как пыжится! — весело воскликнул кто-то из матросов. — Умора!
Капитан строго повёл в сторону весельчака глазами и продолжал прежним, печальным тоном:
— Недоразумение вызвано, уважаемый Кахи, поведением японских военных на Кунасири. Мало того, что они ворвались на русскую землю и построили на этом острове крепость, — они обманным путём завлекли и захватили в плен капитана этого корабля и с ним шестерых русских моряков. Несколько дней назад начальник гарнизона сообщил мне через посыльного, что эти семеро русских моряков убиты… Однако подтвердить это сообщение в письменной форме он отказался…
Японец вздрогнул и побледнел, круглое лицо его перекосилось.
— Убиты?… Этого не может быть! Совсем недавно, десять дней назад, я видел пленных русских моряков в городе Мацмае. Я даже помню фамилию капитана… Капитан Мур!..
Рикорд удивлённо переглянулся с офицерами. Что же с Головнкиным? Если Мур числится капитаном, значит, Головнин погиб?..
— Быть может, вы не точно назвали фамилию, уважаемый? Фамилия капитана — Головнин.
— Нет, нет, — уверенно повторил японец, — Мур. Он среднего роста, плечистый, бороду бреет, но оставляет длинные виски, на вид суров, а глаза добрые…
— Да это и есть Василий Михайлович! — восторженно закричал Рикорд, глядя в просиявшие лица матросов.
— Да, — подтвердил купец. — Его называли: Василий Михайлович… Вы можете верить Такатаи-Кахи.
— Где они содержатся? В Мацмае? Значит, живы? Ура!
Дружное «ура» пронеслось над «Дианой» и повторилось, словно эхо, на «Зотике». На какую-то минуту Рикорд позабыл про японцев. А купец, не понимая, что происходит, утратил всю свою важность и юркнул в толпу своих спутников. Два дюжих матроса с трудом вывели его и снова поставили перед капитаном.
— Вам не грозит опасность, уважаемый Кахи, — сказал капитан, с усмешкой оглядывая взъерошенного, помятого купца. — Вы сообщили нам великую, радостную весть…
Купец моментально преобразился.
— О, Такатаи-Кахи не ведом страх! Это, знаете, от радости. Я думаю, теперь, когда вы узнали о своих друзьях, вы не погубите мой корабль? На нем так много сушёной рыбы… Если вам нужны заложники, возьмите половину моих матросов… Корабль, однако, не должен погибнуть. Вы не допустите этого, капитан?
— Можете успокоиться, — сказал Рикорд, — я не покушаюсь на ваш корабль. Он может следовать в Японию или куда вам угодно. Все ваши люди будут освобождены. А вы, господин Такатаи-Кахи, отправитесь в небольшое путешествие на Камчатку. Вы будете жить в Петропавловске до того самого дня, пока ваши соотечественники не освободят наших соотечественников… Кстати, можете написать письмо своим родственникам или губернатору Мацмая, чтобы они побеспокоились о вашем освобождении.
Купец отшатнулся.
— Я, Такатаи-Кахи, отдаю вам тридцать… Хотите, — сорок… Хотите, — пятьдесят человек!.. Зачем же вам я, старый и нетрудоспособный?.. Я отдам всех шестьдесят. Но у меня неотложные дела.
Рикорд сказал строго:
— Идите и пишите письма.
Следуя за матросом, купец понуро сделал несколько шагов и, точно споткнувшись, остановился. Почему-то теперь он смотрел на Рикорда с сияющей улыбкой. Капитан ждал очередных уловок, предложений богатого выкупа, щедрых обещаний. Но Кахи уже отлично оценил обстоятельства. Он проговорил, кланяясь и тихонько смеясь:
— Такая счастливая неожиданность!.. Я, Такатаи-Кахи, очень рад!.. Я даже счастлив… Мне доведётся путешествовать в обществе столь образованных и просвещённых людей!.. Какая завидная судьба…
Кто-то из матросов громко захохотал:
— Ну и лисица!
В тот день «Диана» и «Зотик», не предпринимая военных действий против японской крепости, покинули Кунасири. Корабли шли на север, к далёким берегам Камчатки. Освобождение пленников откладывалось ещё на год, но Рикорд теперь был уверен в успехе дела. Он мог пожалеть только об одном: о том, что не знал, какие события произошли за это время в Мацмае, в глухой тюрьме, где томились русские моряки, и в самом отряде Василия Головнина…
Мур плакал от ярости и проклинал самого себя. Как это могло случиться, что бегство пленников первыми заметили караульные? Если бы он подал сигнал тревоги в те минуты, когда они выбрались за ограду, наверняка он получил бы благодарность самого буньиоса… И нужно же было случиться такому несчастью: всегда бдительный, чуткий к каждому ночному шороху, он позорно проспал решающие минуты. А теперь, чего доброго, японцы могут заподозрить и его в соучастии. Проклятие! Впервые за время плена сыграл он такого дурака… Погоня устремилась за беглецами лишь утром, а за это время они, пожалуй, успели уйти далеко…
Новое страшное опасение проснулось в Муре с той самой минуты, когда стало известно о побеге шестерых. А вдруг погоня окажется неудачной, и беглецы не будут перебиты и не погибнут в пути? Что если им удастся добраться до Сахалина, до Охотска, до Петербурга? Тогда вся Россия назовёт их героями, а его, Мура, предателем!..
Мур пытался представить себе картину бегства. Они, конечно, готовились длительное время. И все это время скрывали от него, маскировали каждый свой шаг, опасались произнести при нем неосторожное слово. Прятаться от товарища, с которым столько пришлось пережить. Какое оскорбление! Он имел право выдать их даже из чувства глубокой обиды. Но это останется на их совести: они покинули товарища одного…
Ночью после обхода караульных они тихонько выбрались на дворик, сделали подкоп и бежали…
Куда? В каком направлении?
Картину бегства Мур представлял приблизительно верно только до тюремной стены. Он не знал, что здесь, в проходе под стеной, беглецов постигла первая неудача… Когда, прижавшись к земле, Головнин проползал сквозь узкую нору, нога его скользнула по влажной почве и что-то острое вонзилось в колено. Он стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Через минуту боль как будто прошла, и Головнин решил, что все обошлось счастливо.
Узкой тропинкой беглецы вышли на дорогу и, прячась в кустарниках, миновали последние строения города, за которыми начинался подъем в горы.
План дальнейших действий был разработан в тюрьме. Гористыми, нехоженными дебрями они уйдут подальше от Мацмая, ночью спустятся на берег, захватят рыбачью байдару, силой возьмут в одной из деревень немного продовольствия и отправятся в море. Но уже на этом первом подъёме Головнин почувствовал такую боль в колене, что без помощи товарищей не мог идти.
Все же он шёл, опираясь на руки товарищей и на палку, упрямо карабкался на выступы скал, пробирался через цепкие заросли, полз по каменным осыпям, волоча распухшую ногу. Этот путь в горы и дальше, по заснеженным вершинам хребтов, переправы через ущелья и пропасти, ночёвки на скалах под холодным апрельским ветром и дождём, — все представлялось ему тяжким горячечным бредом.
Запасы провизии вскоре закончились. Они ели траву и пили воду из горных ручьёв. Развести огонь, чтобы согреться и просушить одежду, не решались, — их неизбежно заметили бы крестьяне из многочисленных прибрежных селений. А ночные поиски лодки на берегу приносили только разочарования: байдары или зорко охранялись, или оказывались неисправными либо малыми.
Тёмной ненастной ночью Хлебников сорвался в пропасть. Матрос Васильев, спустившись вниз по каменному откосу, не достиг дна. Чудом казалось то, что штурман Хлебников остался жив. Разбитый, в полубеспамятстве, он выбрался из пропасти и сказал задыхаясь:
— А все-таки… все-таки мы уйдём!
Солдаты уже гнались за беглецами по пятам. Перед отвесной стеной утёса, поднявшейся на стометровую высоту, Головнин сказал товарищам, роняя палку:
— Здесь и конец моей дороге… Дальше идите сами. Не нужно ни уговаривать меня, ни ободрять. Так уже случилось, что в самом начале пути я выбыл из строя. Но вы ещё сможете захватить лодку и уйти в Россию…
Матрос Макаров, хмурый силач, медленно и тяжело опустился на камень.
— Что и говорить, Василий Михайлович… На такую стену и я, пожалуй, не взберусь.
— Ты силён, Макаров. Ты взберёшься. Времени зря не теряйте, вы ещё успеете уйти.
Со стороны берега донеслись голоса. Матрос прислушался и молвил равнодушно:
— Совсем близко и, видно, по следу идут.
Головнин повторял настойчиво:
— Торопитесь… Если вам удастся добраться до Охотска, — передайте там, что я нисколько не сожалел об этом своём шаге… Лучше здесь на скалах умереть, чем вечно в плену у самураев томиться.
— Они постараются взять вас живым, — сказал Макаров. — А это значит опять плен.
Капитан покачал головой:
— Живым я не сдамся. Буду камнями отбиваться, — им обязательно придётся стрелять…
— Как-то это получается не по-нашему, не по-матросски, Василий Михайлович, — вмешался Шкаев. — Не годится ваше решение: вместе мы служили, вместе страдали и надеялись, вместе и помирать будем.
— Спасибо за дружбу, Михаило, — но только и верность и дружба не должны привести нас к общей беде. Мне на этот утёс все равно не подняться.
Хмурый Макаров неожиданно улыбнулся:
— А все-таки мы попробуем, Василий Михайлович! Попробуем взобраться на утёс… Вы за мой кушак держитесь, — он крепкий, выдержит…
— Руки твои не выдержат, Спиридон…
Макаров засучил рваные рукава.
— Подкову когда-то разгинал… Вершковый прут железный будто верёвку наматывал. Выдержу!
Облава уже вплотную подходила к утёсу. Подчиняясь воле товарищей, Головнин поднялся с камня и, осторожно ступая на раненую ногу, подошёл вместе с Макаровым к отвесной базальтовой стене.
Они взбирались по малому извилистому руслу ручья. У верхней кромки утёса Головнину пришлось выпустить из рук кушак Макарова, иначе матрос не смог бы взобраться через выступ на вершину. Капитан вцепился в малое деревцо, выросшее в трещине под самой вершиной утёса, и поставил здоровую ногу на острую зазубрину камня. Последним огромным усилием Макаров перебросил своё тело через выступ… Он хотел подняться, чтобы подать капитану кушак, но оступился и упал на камень на самом краю обрыва. Головнин окликнул его, но матрос не отозвался, — он потерял сознание.
Капитан висел над обрывом, держась за малое деревцо. Камень под его ногой обломился и рухнул вниз. Теперь эта чахлая веточка удерживала его. Выпустить ветку из рук, — и конец этой мученической дороге. Он глянул вниз. По крутому подножью утёса медленно взбирались Васильев и Шкаев. Нет, выпустить ветку значило бы погубить и товарищей. Их нужно предупредить, они успеют посторониться. Он крикнул, но матросы не услышали.
— Я падаю… срываюсь! — повторил капитан, уже скользя рукой по гибкому стволу деревца.
Макаров сквозь беспамятство услышал хриплый шёпот Головнина. Первое, что испытал матрос, было чувство жгучего страха: а что если он не успеет прийти на помощь? Поднимаясь на четвереньки, Макаров высунулся из-за кромки обрыва.
— Держитесь! — вскрикнул матрос. — Я иду!
 |
Через несколько секунд они оба, тяжело дыша, лежали на утёсе над обрывом.
Далеко внизу, приближаясь к утёсу, длинной разреженной цепью шли японские солдаты. Однако облава уже не была страшна: моряки знали, что взбираться на эту каменную стену солдаты не решатся.
Ночью, спустившись на берег, они нашли под навесом большую лодку, в которой оказалось все необходимое в дороге: снасти, сети, ведра для пресной воды. Именно о таком судне мечтал Головнин, и, в конце концов, оно было найдено. Его не смутило и то, что провизия уже закончилась: есть сети, значит будет рыба, а где-нибудь на острове они добудут все необходимое для дальнейшего пути. Только бы развернуть эту лодку, только бы сдвинуть её с песка…
Почти до зари беглецы бились у лодки, но спустить её на воду не смогли. Матросы шатались от изнурения, израненный Хлебников несколько раз падал на песок. Тогда капитан понял, что его мечта о бегстве так и останется мечтой.
Днём в кустарнике на склоне горы их окружили солдаты. Головнин видел, как вязали они руки Хлебникову, как отбивался Шкаев от целого взвода самураев. Симанов и Васильев почти не оказывали сопротивления, — они были слишком слабы… Стиснув рогатину с долотом на конце, рядом с капитаном лежал Макаров.
— Мы будем драться, капитан?..
— Да, мы будем драться.
— Их очень много, — наверное, больше ста человек…
— Все же мы попытаемся отбиться. Потом возьмём в селе малую лодку и уйдём к берегу Сахалина…
— Где же мы добудем провизию, капитан?
— В любой рыбачьей хижине. Другого выхода у нас нет.
— Я слушаюсь, капитан. Хорошо, если нас не заметят… Только они обыскивают каждый куст. Смотрите, четверо идут прямо сюда.
Сквозь сплетённые ветви кустарника Макаров пристально всматривался в приближавшихся японцев. Вдруг лицо его побледнело.
— А как же с нашими товарищами? Японцы будут мстить, Василий Михайлович! Они убьют наших…
Никогда ещё не видел Головнин таким растерянным силача Макарова. Он понимал: матрос не боялся за себя. Этот бывалый человек не раз добровольно рисковал жизнью, чтобы спасти капитана, чтобы оказать помощь товарищам. И сейчас он правильно рассудил: японцы, конечно, отомстят за гибель своих солдат; Хлебников, Шкаев, Симанов и Васильев погибнут.
Головнин медленно встал.
— Я принимаю всю ответственность на себя. Я скажу, что приказал вам бежать вместе со мной и грозил наказанием в России в случае, если вы не согласились бы с моим повелением.
Матрос тоже поднялся на ноги.
— Спасибо, капитан…
Три десятка японцев с криком окружили двух моряков. Головнин вышел на поляну и молча протянул офицеру сложенные руки. Тонко плетённый шнур врезался в кисти, петлёй лёг на шею, опутал ноги…
Мур ликовал: беглецы схвачены! Об этом ему рассказал караульный солдат. Где-то в горах Мацмая теперь они брели, все шестеро, связанные, как прежде, по рукам и ногам, и, наверное, матросы проклинали Головнина… Но неужели все шестеро остались невредимыми? Не может быть. Мур отлично знал и капитана, и Андрея Хлебникова, и остальных. Не таковы эти люди, чтобы на полпути к свободе сдаться без боя.
С нетерпением ждал он прихода Тёске, — переводчик должен был знать побольше караульного.
Тёске сообщил мичману, что капитан и штурман Хлебников ранены.
— Значит, преступники понесли заслуженное наказание! — воскликнул мичман.
Молодой японец взглянул на него с недоумением.
— Вы называете своих товарищей преступниками?
Мур отвечал раздражённо:
— Я давно уже порвал с этими людьми. Но что все-таки с ними? Они ранены в схватке? Возможно, они умрут ещё в дороге?
— А вы, кажется, хотели бы этого?
— Я никогда не сочувствовал преступникам…
— Нет, они будут живы. Они не оборонялись. Капитан поранился ещё здесь во дворе, а Хлебников сорвался в расселину. А вас… Таких людей, как вы, у нас в Японии называют чёрное сердце…
Мичман молча встал со скамьи и медленно поплёлся в свою тесную клетку. Он хотел бы ответить японцу на оскорбление, но Тёске ещё может обидеться и сделать какую-нибудь неприятность. Странно, что даже этого слугу буньиоса Головнин сумел привлечь и покорить.
В темени своей каморки мичман долго обдумывал создавшееся положение. Пожалуй, не следовало сожалеть о тех минутах, когда он не смог помешать бегству. Двое самых опасных противников ранены и, главное, потеряли всякое доверие японцев. Он же не пытался бежать, следовательно, приобрёл ещё больше доверия. Теперь лишь использовать бы это преимущество, обвинить беглецов, накликать на них гнев буньиоса и японского правительства… Он скажет, что Головнин и его товарищи — друзья и сподвижники Хвостова и Давыдова, что шли они в Японию для нападений, захвата пленных и грабежей, что это лишь начало военных действий России против японского государства…
Он, Мур, не вернётся в Россию, он купит себе свободу ещё здесь, в Японии. Но не страшно, если и придётся вернуться — шестеро моряков все равно не будут в живых.
В судебном помещении, где Мур впервые после разлуки увидел возвращённых беглецов, он сразу отметил одну приятную перемену. Ему было приказано стать несколько в сторонке от группы Головнина. Мур даже не посмотрел в сторону беглецов, зато он неотрывно следил преданным взглядом за каждым движением буньиоса… Некоторое время губернатор негромко что-то говорил с чиновниками. Мичман решил использовать эти минуты для своих целей. Он сделал шаг вперёд и, сложив на груди руки, наклонив голову, всем видом изображая покорность судьбе, заговорил негромким дрожащим голосом:
— Матросы… Я обращаюсь к вам… Я знаю, вы не виноваты. Капитан и штурман заставили вас отчаяться на эту страшную, бессмысленную попытку к бегству. Прошу вас, говорите нашему доброму буньиосу только правду. Как перед богом, так и перед ним!..
Губернатор поморщился и сделал знак рукой, приказывая Муру отойти в сторону. Обращаясь к Головнину, он спросил:
— Знаете ли вы, капитан, что если бы вам удалось уйти, я и ещё многие чиновники лишились бы жизни?
— Мы знали, что караульные могли бы пострадать, — сказал Головнин. — В Европе в таких случаях ответственность несут караульные. Но мы не думали, что японские законы могут наказывать людей, ни в чем не повинных.
Мур снова решительно выступил вперёд.
— Неправда, мой дорогой буньиос!.. Капитан сознательно говорит неправду. Я сам объяснял ему, и штурману, и матросам, что в Японии имеется на сей счёт очень суровый закон…
Моряки удивились, что губернатор, казалось, не обратил внимания на эти слова мичмана.
— Разве в Европе существует закон, — спросил губернатор строго, — по которому пленные могут спасаться бегством?
— Такого закона не может быть, но мы не давали честного слова и считали свой шаг позволительным.
— Вас опять обманывают, мой буньиос! — воскликнул Мур огорчённо. — Капитан открыто смеётся над вами. В Европе бегство из плена карается не менее сурово, чем в вашей стране…
Немигающие глаза губернатора словно остекленели.
— Вы, очевидно, забываете, что все равны для меня, хотя вы лично и не успели бежать.
— Но я и не пытался бежать, мой буньиос! — вскрикнул Мур испуганно. — Я давал только притворное согласие, чтобы вам обо всем рассказать…
Чиновники засмеялись, а губернатор сказал негромко, обращаясь к Головнину:
— Когда Мур давал согласие бежать вместе с вами, вы верили ему?
— Да, безусловно, — твёрдо сказал капитан.
— А теперь… кого же он обманывает, вас или меня?
— Поступки мичмана Мура остаются на его совести. Когда мы собрались бежать, мы были уверены, что он уйдёт с нами. Но потом он струсил. А позже, я думаю, у него появились собственные планы: предать товарищей и возвратиться в Россию одному. Он, вероятно, рассчитывал, что сможет оклеветать нас и тем загладить свою вину…
Мур вздрогнул и отступил к стене; бледные губы его дрожали. Почему-то Головнин вспомнил в эту минуту, как когда-то мичман оказался у двери каюты, когда капитан сжигал секретный документ. И Головнин понял, что этот человек всегда был готов перейти на сторону сильного противника. Но теперь планы Мура разгаданы…
Снова посовещавшись со своими помощниками, губернатор спросил:
— Правда ли, капитан, что посланник Резанов сам затеял нападение на японское селение в бухте Анива в октябре 1806 года и позже на Итурупе? Он дал такое приказание лейтенанту Хвостову, и тот выполнил его, а позже Резанов от своего приказания отказался?
— О таком приказании Резанова никто из нас не слышал, — сказал капитан, взглянув на Мура.
— Недавно нам рассказали об этом курилы. Странно, что даже им это известно, а вы оставались в неведении…
— Мичман Мур называет себя немцем, а не курилом, — заметил капитан. — Я уверен, что он один мог сочинить подобную версию…
— Нет, это правда, — резко откликнулся Мур, — вы же знаете, что это правда! Вы обещали говорить только правду и снова обманываете достойного буньиоса! Вы даже утверждали, будто не были знакомы с Хвостовым. А в вашей записной книжке черным по белому записаны фамилии Хвостова и Давыдова и даже их адреса… Вы просто не хотите признаться во всем до конца! Разве вы не скрывали от экипажа секретные задания экспедиции? Я говорю этим благородным людям все с полной чистосердечностью: пусть они знают, что ваша экспедиция была разведочной, что Россия готовится завоевать Японию…
— Если задания экспедиции были секретны, откуда же они стали известны вам? — с усмешкой спросил Головнин.
Японцы переглянулись и засмеялись. Передав помощнику бумаги, буньиос встал; два телохранителя поддерживали его под руки.
— Итак, у меня последние вопросы, — проговорил он. — Вы бежали из плена с единственной целью, чтобы возвратиться в своё отечество?
— Так точно, — дружно отозвались пленные.
— А потом вы увидели, что бегство невозможно, и вам оставалось умереть в лесу или в море?
— И это правильно, — отозвался Хлебников.
Старик поморщился и неожиданно улыбнулся.
— Все это очень наивно! Разве вы не можете лишить себя жизни, не уходя из тюрьмы?
— Все же у нас была надежда, — сказал Головнин.
— Не надежда, а страх! — проговорил Мур. — Вы боялись наказания за действия своего дружка — Хвостова и за то, что являетесь русскими военными разведчиками… Тёске, я прошу перевести буньиосу мои слова.
Губернатор резко вскинул голову, недовольно поджал губы.
— Этот помешанный становится слишком назойливым. Позже постарайтесь успокоить его, Тёске… А пленным передайте, что их стремление возвратиться любой ценой на родину я не считаю преступным. Они не принесли Японии никакого вреда.
— Бог мой, что же это происходит? — в отчаянии прохрипел Мур. — Японцы мне не верят… Они не верят честным признаниям, идиоты!
— Мой долг передать эти оскорбительные слова буньиосу, — сказал Тёске.
Мур схватил его за руку и прижался к ней губами.
— О нет!.. Не нужно… Вы — мой спаситель…
Моряки двух голландских кораблей, прибывших в Нагасаки из европейских портов, рассказывали японским правительственным чиновникам об огромных переменах в Европе. Только теперь в Японии стало известно о вступлении наполеоновских войск в Москву, о грозном пожаре, уничтожившем древнюю русскую столицу, и о полном разгроме русскими войсками непобедимого Бонапарта.
При японском дворе сразу же заговорили о дальнейших отношениях с Россией. Великая и могучая соседняя держава, разбившая наголову победителя всех европейских армий, имела все основания оскорбиться за издевательства, которым японцы подвергали русских моряков.
Новый губернатор, прибывший в Мацмай, отлично понимал, какую огромную силу являла теперь собой Россия. Он счёл необходимым немедленно мирно уладить неприятную историю с пленением русских моряков и написал в столицу письмо, предлагая связаться с пограничным русским начальством.
На этот раз японское правительство ответило без промедления. Оно не возражало против мирного урегулирования этого досадного случая, но считало необходимым, чтобы русские пограничные власти объяснили своё отношение к действиям Хвостова и доставили это объяснение в открытый для некоторых европейских держав порт Нагасаки…
Губернатор не особенно считался с установленной исстари подобострастной формой правительственной переписки. Он был зятем генерал-губернатора столицы, человека наиболее приближенного к японскому императору, и знал, что резкость ему будет прощена. Он написал второе письмо, объясняя, что русские неизбежно заподозрят японские власти в коварстве, — ведь все это дело могло быть улажено на Мацмае или даже в одной из курильских гаваней и не имело никакого смысла требовать прихода русских кораблей в далёкий южный порт Нагасаки.
Через некоторое время правительство приняло новое решение: переговоры с русскими поручались мацмайскому губернатору и могли вестись в Хакодате.
Пленные не могли не заметить, что отношение японского начальства к ним и поведение караульных солдат с каждым днём становилось лучше. С них сняли верёвки, выдали хорошие постели, потом перевели из тюрьмы в дом, где уже не было решёток. В этом доме снова появились важные гости с обычными своими просьбами написать что-нибудь на память. Среди гостей оказался купец, прибывший из Нагасаки. Он беседовал с голландскими моряками и теперь очень удивился, что русские здесь, в Японии, не знали о взятии Наполеоном Москвы…
— Этого не может быть, — убеждённо сказал Головнин. — Я думаю, голландцы вас обманули…
— Но они показывали английские и французские газеты! Я сам немного читаю по-английски… Москва сожжена и больше не возродится.
— Вы не знаете, что такое Москва! — горячо воскликнул Хлебников. — Я могу поверить, что она сожжена, но никогда не поверю, чтобы враг торжествовал в ней победу. Нет на свете силы, чтобы народ наш смогла покорить…
Купец переглянулся с другими сановными гостями.
— Странные вы люди, русские! Вы не желаете верить фактам. Вы слишком самоуверенны, слишком! Но веером туман не разгонишь…
Молчаливый Макаров выговорил громко и раздражённо:
— А может, ты нарочно напускаешь туман?
Купец не обиделся. Улыбаясь, он погрозил Макарову пальцем.
— Я вижу, мои новости запоздали. Вы уже знаете, но как вы об этом узнали?
Купец покачал головой и стал прощаться. Сколько ни упрашивал его капитан рассказать подробней о событиях в Европе, он только усмехался и повторял:
— О, вы хитрецы!.. Вы все уже знаете…
Когда он ушёл, капитан долго молча шагал по комнате из угла в угол.
— Расстроил вас купчина, Василий Михайлович? — сочувственно проговорил Хлебников.
— Расстроил? Да нет, нисколько… Купец этот проговорился, но все до конца не договопил… Я, понимаете, воедино факты пытаюсь соединить. Наш плен — это не просто случай. Такие случаи ведут даже к международным осложнениям. Почему в первые месяцы японцы относились к нам с жестокостью? Что если бы ещё тогда мы попытались бежать? Пожалуй, они бы нас казнили… А теперь вот, смотрите, — верёвки и решётки сняли, питание хорошее, их начальники почти заискивают перед нами. Чем же все это объяснить? Я так думаю: Наполеон разбит. Россия стала ещё могущественней, и японцы боятся её. А раньше они считали Россию побеждённой…
— Светлая голова у вас, Михайлович! — радостно проговорил Хлебников.
Капитан остановил его движением руки.
— Не торопись хвалить… И радоваться ещё преждевременно. Это лишь догадка. Но я знаю, что без важных причин в нашем положении ничто не могло бы измениться.
Новый мацмайский губернатор настрого запретил рассказывать пленным о славных победах русских над армиями Наполеона. Если вопрос о возвращении русских моряков на родину будет в конце концов решён, — там, в России, ни в коем случае не должны знать, что японское правительство испугано. Пусть лучше русские думают, будто японцы проявили добрую волю…
У японцев были все основания опасаться недовольства русских властей.
В третий раз Пётр Рикорд приходил к берегам Японии, чтобы выручить своего командира и его спутников. И только теперь в порту Хакодате, запретном для всех европейских кораблей, дело должно было наконец-то решиться.
Два месяца назад в заливе Измены Рикорд имел краткое свидание с матросом Дмитрием Симановым и курилом Алексеем.
Японцы специально доставили этих двух пленных с Мацмая на Кунасири. Рикорд был очень удивлён такой предупредительностью самураев. Но Такатаи-Кахи, проживший год с русскими и ставший ревностным поклонником всего русского, вскоре помог разгадать загадку. Он побывал в крепости, беседовал с офицерами и, возвратившись на шлюп, негромко сказал капитану:
— Я мог бы остаться на берегу. Но есть важные новости. Я ваш друг и должен сказать это вам под большим секретом… Пленные будут возвращены. В Японии взгляд на Россию переменился. Сейчас наше правительство боится России. Оно потрясено русскими победами и пойдёт на любые уступки, лишь бы избежать войны…
Прибыв в порт Хакодате, Рикорд передал мацмайскому губернатору письмо начальника охотской области Миницкого.
Миницкий писал о том, что русский император к японцам хорошо расположен и не желает наносить им ни малейшего вреда, поэтому и японцам следует, не откладывая нимало, показать освобождением несправедливо захваченных русских и своё доброе расположение к России и готовность прекратить дружеским образом неприятности. «Впрочем, — указывалось в письме, — всякая со стороны японцев отсрочка может быть для их торговли и промысловых людей вредна, ибо жители приморских мест должны будут понести великое беспокойство от наших кораблей, буде японцы заставят нас по сему делу посещать их берега».
Не такое письмо рассчитывал получить губернатор Мацмая от русских пограничных властей. Но он понимал, что русские были слишком терпеливы и теперь не ограничатся только угрозой.
— Меня вполне удовлетворяют заверения в дружбе, сделанные самим русским императором, — говорил он.
Письмо стало известно и пленным. И вскоре губернатор сказал пленникам:
— Мне приятно сообщить вам, что в самом ближайшем будущем вы будете переправлены на шлюп «Диану», на котором отбудете в Россию…
Головнин слегка поклонился:
— Благодарю… Мне очень радостно знать, что печальное недоразумение, из-за которого мы, русские моряки, перенесли столько обид и притеснений, закончится мирно…
Мур весь затрепетал, и голос его сорвался:
— Позвольте, мой буньиос… Вы решили отпустить в Россию всех нас? Как это понимать? Всех до одного?..
— Конечно, — сказал губернатор. — Вы все для меня равны, и я не желаю подвергать кого-либо из вас дальнейшему заключению.
— Значит, всех до одного… — прошептал Мур растерянно. — Но я не достоин этой великой милости, мой буньиос! Я чувствую себя виновным перед Японией!.. И я ещё не закончил показаний.
Вечером Федор Мур объявил голодовку. Он голодал двое суток, а на третий день, в то время, когда другие пленные были на прогулке, уничтожил общий обед.
После обеда он сошёл с ума. Размахивая руками, брызгая слюной, он кричал испуганно и визгливо:
— На крыше сидят японские чиновники… Слышите? Они все время упрекают меня. Вот, слушайте, они говорят: «Он ест нашу кашу и пьёт нашу кровь!» Они хотят меня убить и каждую ночь советуются об этом с капитаном… Я не поеду в Россию, нет, не поеду!.. Я просился на службу к губернатору, а Михайло Шкаев оденет на меня за это кандалы!..
Моряки терпели это буйство целые сутки, но потом Хлебников сказал ему резко:
— Федор Фёдорович, стыдитесь малодушия!.. Вашему сумасшествию никто не верит… Не валяйте дурака.
Мичман притих, задумался и долго сидел в уголке, замкнутый и безучастный. Потом он настойчиво стал требовать свидания с губернатором наедине.
6 октября 1813 года к губернатору вызвали всех пленных.
В огромном зале собралась в этот день вся городская знать. Празднично одетый губернатор улыбаясь приветствовал моряков поклоном. В руках он бережно держал какую-то бумагу. Тёске почтительно принял эту бумагу и прочитал вслух по-русски:
— «С третьего года вы находились в пограничном японском месте и в чужом климате, но теперь благополучно возвращаетесь; это мне очень приятно. Вы, г. Головнин, как старший из своих товарищей, имели более заботы, чем и достигли своего радостного предмета, что мне также весьма приятно. Вы законы земли нашей несколько познали, кои запрещают торговлю с иностранцами и повелевают чужие суда удалять от берегов наших пальбою, и потому, по возвращении в ваше отечество, о сём постановлении нашем объявите. В нашей земле мы желали бы сделать все возможные учтивости, но, не зная обыкновений ваших, могли бы сделать совсем противное, ибо в каждой земле есть свои обыкновения, много между собой разнящиеся, но прямо добрые дела везде таковыми считаются; о чем также у себя объявите. Желаю вам благополучного пути».
Головнин сдержанно поблагодарил губернатора, и моряки, сопровождаемые прежней охраной, вышли из замка. У двери Мур пытался задержаться, но офицер приказал строго:
— Идите…
 |
Утром пленные были доставлены на «Диану». Шлюпка шла легко и быстро, но и Головнину, и Хлебникову, и матросам казалось, что японские гребцы слишком уж неторопливо поднимают весла.. Стоя на носу шлюпки, Головнин первый уцепился за спущённый штормтрап. Он опустился на колено и припал губами к влажному, пахнущему смолою борту родного корабля…
Уверенно борясь с противными ветрами и штормами, «Диана» шла на север. В морозный день судно прибыло на Камчатку, и моряки сошли на берег в Петропавловске.
Был вечер, и маняще светили им огоньки бревенчатых изб. У казармы солдаты пели песню, и она радостно тревожила сердца…
Мичман Мур задержался на корабле, собирая свои вещи. Уже ночью он сошёл на берег и отыскал отведённую ему избу. Три раза приглашали его на общее веселье, но Мур отказался, сославшись на недомогание. Потом он приказал хозяйке накрепко закрыть двери и никого не пускать.
Головнин собирался выехать в Петербург в начале декабря. В дом начальника порта, где он остановился, с «Дианы» были принесены все его вещи и среди них — японские «дневники». Рикорд с удивлением рассматривал эти разноцветные пряди ниток, с многочисленными узелками.
— Диковинный дневник, Василий Михайлович! Неужели вы сможете вот эти узелки читать?
— Без малейшей запинки! Даже с закрытыми глазами, только бы знал, какого цвета нить…
Осторожно разглаживая на ладони цветную прядь, Рикорд проговорил в раздумье:
— Но этот дневник рассказывает только вам… Важно, чтобы он стал понятен и мне, и другим… Вы должны всем рассказать о Японии, Василий Михайлович! Это будет открытием загадочной, запретной страны.
Головнин задумался:
— Я — не писатель… А впрочем, подумаю. Действительно, будет жаль, если забудется все виденное нами… Верно, Петя! Попробую. Приеду в Петербург и засяду за работу.
В дверь осторожно постучали, и на пороге появился Мур. Был он, как в прежнее время, до рейса в Японию, выбрит, причесан, припудрен, аккуратен, с заготовленной улыбкой. Только глаза почему-то немного косили, точно не хотели смотреть прямо, открыто.
— Извините, Василий Михайлович и Пётр Иваныч, я… некстати?
— Почему же? Проходите, садитесь, затворник, — пригласил его Головнин.
— Я на минутку, Василий Михайлович. Мне уже значительно лучше…
Головнин рассматривал свой нитяный дневник. Сколько узелков было посвящено в нем Федору Муру! Вот узелок — предательство; второй — клевета, третий — притворство, ложь…
— Ну что же, это очень отрадно, — сказал Головнин, пытаясь угадать причину неожиданного визита. — Климат Камчатки здоровый, и вы, надеюсь, вскоре поправитесь.
— Но мне хотелось бы больше ходить. Просто ходить, без цели, скучно. Я хотел бы охотиться на птиц, здесь неподалёку, на берегу Авачинской губы…
— Вы хотите получить ружьё? — спросил Головнин.
Мур улыбнулся:
— Так точно!..
Капитан помедлил и ответил мягко:
— Нет… Если бы вы были вполне здоровы… А вдруг на вас опять накинется ипохондрия? С оружием шутки коротки.
Мичман казался растерянным и огорчённым.
— Какая там ипохондрия, Василий Михайлович?! То было в плену, а теперь мы дома! Вы можете дать мне в спутники солдата. Я не нарушу слова… Поверьте, я стал совсем другим…
— А здесь и правда чудесная охота, — заметил Рикорд. — Мур только закалится и отдохнёт…
Мичман благодарно улыбнулся:
— Даю слово чести, Василий Михайлович, — в пути, на охоте, я буду послушен солдату, как вам!..
Головнин согласился.
— Я верю вашему слову чести.
Уже через несколько дней Головнин убедился, что его опасения были напрасны. Мур возвращался с охоты с богатой добычей и казался очень довольным. Однако он попрежнему избегал встреч с товарищами по плену и хозяйке приказывал никого к нему не пускать.
Однажды ранним утром, шагая по глубокому свежему снегу вдоль берега Авачинской губы, Мур обернулся и строго спросил солдата:
— А тебе, милейший, не надоело?
Солдат не понял.
— О чем изволите говорить?
— Да вот бродить за мной сторожевой собакой не надоело?
— Наше дело служба. Что начальство приказывает — исполняем…
Лицо мичмана перекосилось.
— Я — офицер и, значит, твоё начальство. Приказываю марш домой… Обедать ступай.
Солдат растерялся: это приказание мичмана было неожиданным; завтракали они вместе какой-нибудь час назад, и дело туг было не в обеде. Видно, он чем-то не услужил сегодня капризному барчуку-офицеру.
Мур ждал, приподняв ружьё. Вена на его лбу набрякла и посинела, пухлые губы дёргались и дрожали.
— Что же ты стоишь! Ступай, говорю! Марш!..
Солдат отдал честь, покорно повернулся и зашагал к ближайшему камчатскому селению, где они останавливались на ночлег.
Ни к обеду, ни к вечеру мичман в селение не возвратился. Встревоженный солдат кликнул охотников-камчадалов; с факелами в руках они бросились на лыжах к берегу Авачинской губы.
Мура не пришлось искать слишком долго. Он лежал под скалой, неподалёку от того места, где расстался со своим спутником, солдатом, уткнувшись щекой в красный от крови снег. Ружьё валялось в сугробе, уже почти занесённое снегом. На краю обломленной ветки ели висело пальто.
В Петропавловске, в доме, где квартировал Мур, нашли записку: «Свет мне несносен, и кажется, будто я самое солнце съел».
Так умер предатель Мур. Его похоронили на окраине Петропавловска, и на каменной плите, положенной на могилу, кто-то из моряков написал:
«Отчаяние ввергло его в заблуждения. Жестокое раскаяние их загладило, а смерть успокоила несчастного. Чувствительные сердца! Почтите память его слезою»…
Весенние дожди вскоре смыли эту надпись, а позже и плиту занесло песком. Память «чёрного сердца» никто не почтил слезой…
В июле 1814 года Головнин прибыл в Петербург. Прошло семь лет, как он покинул этот город, — город его юности, первых мечтаний о странствиях, о славе российского флота. Каков он теперь?
Уже на следующий день Головнин побывал на кораблях. Это были все те же знакомые, старые корабли — ветераны баталий со шведами… Головнин удивился: а где же новые суда? Неужели их перестали строить? Он увидел матросов, маршировавших вдоль набережной Невы под грозные окрики офицеров… Это был неживой, неодухотворенный, механический строй, покорно выполнявший заученные упражнения. Лица матросов были бездушны и безучастны; в них отражалось только великое терпение и тоска…
Что же произошло за эти годы в российском флоте? Прошло немного времени, и Василий Михайлович понял: мрачная тень временщика Аракчеева легла на всю русскую действительность, на армию, на флот.
Немало было во флоте людей, горячо преданных делу, решительных, пытливых, видевших виды моряков. Но именно их опасались Александр I и Аракчеев. Инициативе, мужеству и находчивости царь предпочитал раболепную покорность и беспрекословное подчинение начальству, смелому новаторству — старые закоренелые порядки. Фрунт и жестокая муштра должны были, по расчётам царя и Аракчеева, подавить малейшие проявления вольнодумства, протест против деспотического реакционного режима.
Не особенно обрадованный производством в капитаны 2-го ранга, Головнин сел за отчёты и донесения. Помня совет Петра Рикорда, он часто «перечитывал» свой японский «дневник».
Нет, не забылась ни одна подробность пережитого. Уверенно скользило по бумаге перо, в скромной комнатушке по вечерам долго не гасли свечи…
В 1818 году было опубликовано сочинение Головнина «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах».
Никогда не помышлял Головнин о каком-либо литературном успехе. Свой труд он считал долгом: в России, да и во всей Европе ещё очень мало знали о далёкой восточной стране.
Но книга прогремела на всю Россию, на всю Европу. Она была переведена почти на все европейские языки. У подъезда дома, в котором жил капитан, толпами собиралась морская молодежь, и каждый из этих юношей считал высокой честью знакомство с героем-мореходом…
Через три года после возвращения в Петербург Головнин снова отправился в новое путешествие. На шлюпе «Камчатка» он совершил кругосветное плавание.
Вскоре Василий Михайлович был произведён в генерал-интенданты флота, а затем — в вице-адмиралы. И тогда он принялся перестраивать старый и строить новый флот. Это была непрерывная упорная борьба против бесчестных иноземных пролаз, придворных шаркунов, тупых сановников и казнокрадов.
За время, в течение которого он возглавлял интендантство флота, на Балтике и в Архангельске было построено 26 линейных кораблей, 21 фрегат, 10 пароходов и 147 лёгких судов… Русский флот снова стал могучим и грозным.
Этот флот, которому всю свою жизнь отдал Головнин, назывался императорским. Но никто не знал, что именно Головнин предлагал пожертвовать собой, чтобы потопить или взорвать на воздух государя и его свиту при посещении какого-либо корабля. Об этом рассказал в своих записках, опубликованных только в 1906 году, друг Головнина декабрист Д. И. Завалишин.
Не один и не два плена пережил Василий Михайлович Головнин и не покорился. Из Южной Африки, от англичан, которые «не забывают друзей», ушёл он под жерлами батарей; злобные самураи не смогли удержать его в темнице; и здесь, в России, он ценою жизни готовился уничтожить главного тюремщика родины — царя.
Не для императора — для родного народа строил Василий Головнин флот, уходил в кругосветные плавания, вёл неутомимые исследования, совершал открытия, трудился над своими воспоминаниями и дневниками.
…Был июнь — ясная, тихая, светлая пора северной столицы, когда над каменными её вершинами, над парком, над золотыми куполами, неуловимо подкравшись, зыбиться полная смутных мерцаний белая ночь, когда на величественной Неве, словно звезды, роятся бесчисленные огоньки лодок…
Но в этом году петербургский июнь был печален и глух. Карнавалы и гулянья запрещались, люди с опаской встречались друг с другом, многие избегали знакомых квартир.
Возникшая где-то далеко на юге, прорвавшаяся через все границы и заставы на дорогах, в 1831 году пришла в Петербург страшная гостья — холера.
Головнин строил планы новых путешествий, не зная, что уже болен. В комнате было прохладно, а он задыхался и приказал настежь распахнуть окна.
— Мы пойдём на север, друзья… Справа останутся Командорские… Алеутские острова… Аляска… Мы дальше пойдём, туда, где никто ещё не водил корабли…
Бледное лицо его внезапно скорчилось от судорог, пот заливал глаза. В тяжёлом молчании гости медленно встали и, не пожав на этот раз адмиралу руку, вышли из квартиры.
Его хоронили на следующий день. За гробом на Митрофаньевское кладбище шли только два человека: жена адмирала и какой-то безвестный моряк. Он не назвал своей фамилии.
Он сказал, что служил на «Диане».
А книга Василия Головнина осталась жить. Почти через два десятилетия после её выхода из печати друг Пушкина, Грибоедова и Рылеева — ссыльный декабрист, покушавшийся на брата царя, поэт и литератор В. К. Кюхельбекер записал в дневнике: «Записки В. Головнина без сомнения одни из лучших и умнейших на русском языке и по слогу и по содержанию».
Генрих Гейне в знаменитом своём памфлете «Людвиг Берне» писал: «На заглавном листе „Путешествия в Японию“ Головнина помещены эпиграфом прекрасные слова, которые русский путешественник слышал от одного знаменитого японца: „Нравы народов различны, но хорошие поступки всюду признаются таковыми“…
Именно за эти благородные поступки русского морехода любили и уважали простые люди, с которыми приходилось ему встречаться и в родной стране и далеко за пределами её.
Быть может, уже после смерти адмирала царские прислужники дознались о его связях с декабристами: ничем не отметил сановный Петербург память отважного морехода.
Но русские моряки создали ему памятники на разных широтах земли, и эти памятники не уничтожит время. Именем Головнина назван огромный залив на американском берегу Берингова пролива, мыс на юго-западном берегу Аляски, гора на северном острове Новой Земли, пролив между островами Райкоке и Матау в Курильской гряде, вулкан на острове Кунашир, мыс на полуострове Ямал…
Советские люди свято хранят память о славном мореходе, о его высоких примерах служения родине, ради которой жило и билось это доблестное русское сердце.
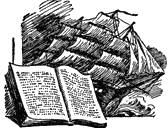 |
(support [a t] reallib.org)