"Элоиза и Абеляр" - читать интересную книгу автора (Режин Перну)
Глава IV. ЭЛОИЗА
«Письмо, друг мой, которое вы написали одному из ваших друзей, дабы его утешить, недавно волей случая дошло до меня… Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь смог бы без слез читать или слушать рассказ о подобных испытаниях. Что до меня, то оно тем паче заставило меня вновь ощутить мою боль, что детали в нем были описаны с чрезвычайной точностью и очень ярко».
Так выражает свои чувства Элоиза. По ее словам, «История моих бедствий» попала ей в руки случайно. Надо сказать, что в то время рукописи ходили по рукам точно так же, как позднее станут передавать друг другу различные печатные произведения; их читали вслух в кругу друзей, их переписывали; скорость их распространения иногда удивляет. «История моих бедствий» получила широкое распространение в кругу людей образованных, в школах и монастырях, и процесс этот шел очень быстро. Кстати, а не преследовал ли Абеляр, создавая это произведение, некоей тайной цели? Не руководствовался ли он желанием немного «оживить» интерес к своей особе? Кое-что подталкивало исследователей к подобным мыслям, и нам эти предположения кажутся вполне обоснованными. В то время Абеляр уже покинул монастырь Святого Гильдазия Рюиского, быть может, найдя приют в лоне своей семьи, где он, вероятно, подготавливался к возвращению в Париж, дабы вновь приступить к преподаванию на холме Святой Женевьевы. Тогда же он добился освобождения от столь нежеланной для него должности аббата в монастыре Святого Гильдазия Рюиского.
Описывая свои злосчастья, Абеляр, сам того не ведая, затронул очень чувствительную струну, которой предстояло еще долго вибрировать от его прикосновения. На «Историю моих бедствий», облаченную в форму письма к другу, последовал ответ настолько неожиданный, что оказался повергнут в смущение тот, кому было адресовано это ответное послание, то есть Абеляр. Написала ответ на «Историю моих бедствий» Элоиза, положив тем самым начало их переписке.
Во второй раз мы слышим голос Элоизы. Впервые, как мы помним, она возвысила свой голос — совершенно неожиданно для Абеляра, — когда решительно воспротивилась заключению брачного союза между Абеляром и ею. На сей раз мы слышим не протест, а крик, преисполненный боли и возмущения; это крик женщины, настаивающей на своем праве быть рядом с супругом, пусть даже и для того, чтобы разделить с ним его страдания; женщины, не желающей быть отстраненной от событий его жизни и от его забот; наконец, в этом послании слышится крик боли страстной любовницы, не смирившейся с тем, что ужасная развязка положила конец ее любви и любовным утехам, воспоминания о которых и сейчас, годы и годы спустя, красной нитью проходят через бесцветность и скуку ее повседневной жизни.
Письмо Абеляра представляет собой хоть и горестное, но все же размеренное, спокойное повествование, письмо Элоизы — это вопль боли, изданный со столь необузданной силой, что он до сих пор волнует читателя, несмотря на разделяющие нас века, на устаревшие обороты речи и на приблизительность переводов. Прежде всего этот крик выражает ту боль, что испытывает Элоиза при мысли о страданиях Абеляра: «Гонения, коим вы подверглись по наущению ваших бывших учителей, гнуснейшие оскорбления и увечья, причиненные вашему телу, ужасная зависть и страстная злоба, с коими подвергли вас преследованиям ваши бывшие соученики Альберик Реймсский и Лотульф Ломбардский…»
Причиняли ей боль и воспоминания о тех унижениях, что вытерпел Абеляр на Суассонском соборе, о преследованиях, которым он подвергался как в Сен-Дени, так и позднее в Параклете, и наконец, мысли как о венце всех бедствий Абеляра, о жестокости и насилии, проявляемых по отношению к нему со стороны «этих скверных, гадких монахов, коих вы именуете своими детьми». Выслушав рассказ о столь ужасных невзгодах, по словам Элоизы, «маленькое стадо» невинных овечек, то есть монахинь, проживавших в Параклете, пришло в волнение и ежедневно с сердечным трепетом ожидало известия о смерти того, кто был их благодетелем и духовным отцом. Но к чувству сострадания, как мы явственно ощущаем, в письме Элоизы примешивается чувство не менее горестного и болезненного изумления: вне зависимости от того, существовал ли в действительности тот «друг», которому в форме письма адресована «История моих бедствий», или был он лицом вымышленным, придуманной фигурой лишь для того, чтобы поведать историю злоключений философа широкой публике, Абеляр сделал для этого человека (или для общества) то, чего с гораздо большим на то правом ожидала от него сама Элоиза: он написал письмо! Она почувствовала себя уязвленной в самом ранимом месте, в самой глубине души при чтении письма Абеляра, предназначенного не для ее глаз, адресованного не ей. И ее собственное первое послание написано с единственной целью: потребовать от Абеляра сделать для нее то, что он сделал для другого или для других; она выражает страстное желание — что бы с ним ни случилось, «разделить с ним его горести и его радости», для того чтобы либо облегчить его тяготы, либо узнать о том, что, по ее выражению, «буря улеглась». В Элоизе вновь просыпается женщина, мыслящая логически и прибегающая к логическим доводам, чтобы убедить Абеляра в своей правоте, ибо ее письмо является в равной мере и воплем страсти влюбленной женщины, и превосходной пылкой защитительной речью опытной дамы-адвоката.
Как и следовало ожидать, Элоиза начинает с того, что обращает свой взор к Античности: «Как приятно получать письма от отсутствующего друга, Сенека нам показывает на собственном примере»; далее она цитирует письмо Сенеки к Луцилию. Элоиза признает, что Абеляр, написав свое письмо, ответил на пожелание некоего друга и тем самым отдал долг дружбе, но следом она утверждает, что у Абеляра есть еще больший долг, повелевающий ему ответить на ее пожелания. И не только на ее личные, но и на пожелания ее подруг: «Еще больший долг лежит на вас перед нами, ибо мы являемся не просто вашими друзьями, не подругами, а скорее дочерьми; да, именно это имя нам подходит более всего, если нельзя придумать более нежное и святое имя для нас».
Вот какие доводы она приводит, сначала с предельной осторожностью, а затем начинает развивать их как истинная последовательница науки логики: она и ее подруги живут в монастыре, являющемся творением рук самого Абеляра, ибо он его основал. Он лично заставил сей монастырь «вырасти из земли» в этой пустыне, «которую прежде посещали лишь свирепые хищные звери да разбойники; в пустыне, никогда прежде не знавшей человеческого жилья, никогда не видевшей домов». По словам Элоизы, немногочисленные монахини, обитавшие в тот момент в этом монастыре, вели жизнь, полную лишений, и всем, буквально всем были обязаны только ему, и никому более. И, по мнению Элоизы, Абеляру следовало самому «возделывать этот виноградник», где он собственноручно насадил виноградные лозы, вместо того чтобы понапрасну тратить время на увещевания невосприимчивых к его проповедям монахов. «Вы затрачиваете так много труда на строптивых, вы отдаете себя врагам, подумайте же о том, что вы должны сделать для своих дочерей».
И наконец — и здесь Элоиза раскрывается полностью, здесь поклонница логики уступает место супруге — она напоминает Абеляру о том, что у него есть долг и перед ней, перед Элоизой. Слог послания здесь делается возвышенным, смешиваются горькие упреки и пылкие излияния чувств — она говорит языком любви. «Ведь вам известно, сколь великий долг лежит на вас, ведь таинство брака связывает нас с вами крепчайшими узами; и узы эти тем более крепки и тесны для вас, что я всегда любила вас пред Небесами и пред землей любовью безграничной… Это вы, вы один — причина моих страданий, и только вы один и можете быть мне в них утешителем. Вы — единственный источник моей печали, и только вы один и можете вернуть мне радость или принести некоторое облегчение моей скорби».
 |
Прощание Абеляра и Элоизы. Ангелика Кауфман.
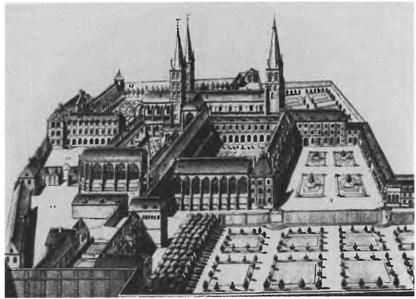 |
Аббатство Сен-Жермен-де-Пре.
 |
Церковь Сен-Жермен-де-Пре, самая старая церковь Парижа.
 |
Фасады церквей Сен-Женевьев и Сент-Этьен-дю-Мон.
 |
Неф церкви Сен-Женевьев.
 |
Приорство Валь-дез-Эколье в Лане (XIII в.). Здесь преподавал Абеляр.
 |
Учитель и ученики.
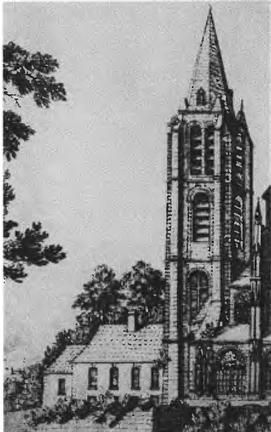 |
Колокольня церкви аббатства Сен-Виктор в XII веке.
 |
Печать аббатства Сен-Виктор, употребляемая в середине XII века.
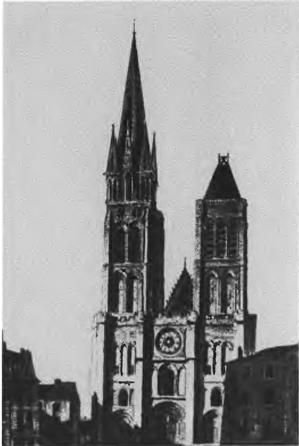 |
Западный фасад церкви аббатства Сен-Дени.
 |
Неф церкви Сен-Дени
 |
Элоиза и Абеляр.
 |
Бернар Клервоский.
 |
Западный фасад собора в Сансе — самого старого готического собора Франции, заложенного при жизни Абеляра.
 |
Король Людовик VII.
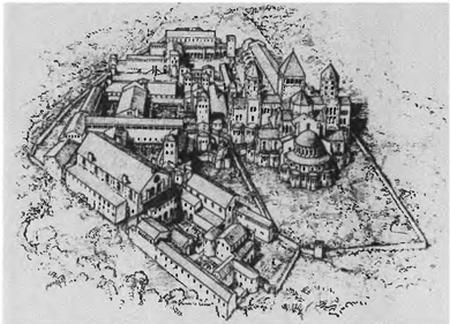 |
Аббатство Клюни в XII в. Общий вид.
 |
Аббатство Клюни.
 |
Фасад аббатства Клюни.
 |
Главный неф церкви аббатства Клюни.
 |
Клюни. «Сырная башня» и колокольня Нотр-Дам.
 |
Клюни. «Римский дом» и часть двора.
 |
Монах.
 |
Молитвенник с гербом аббатства Клюни.
 |
Петр Достопочтенный читает проповеди монахам.
 |
Преображение.
 |
Ангелы, поддерживающие раку Святого Марселя. Скульптура в монастыре Сен-Марсель-ле-Шалон, где Абеляр провел последние месяцы жизни.
 |
Надгробие Абеляра и Элоизы на кладбище Пер-Лашез в Париже.
Далее Элоиза напоминает Абеляру об обстоятельствах заключения их союза, как бы дополняя те сведения, что содержатся в «Истории моих бедствий». Итак, мы имели мужскую версию событий, а теперь видим те же события глазами женщины, и надо признать, что под пером Элоизы они обретают особую напряженность и особую глубину — этого Абеляр не смог достичь. Все дело в том, что в этой любовной истории Абеляр изучал, исследовал самого себя, в то время как Элоиза изначально забыла о себе, преодолела себя и, как она пишет, «безвозвратно отдалась» возлюбленному. Ее язык столь живой и красочный, что нам следовало бы сначала восстановить ход событий по ее письму, а не по рассказу Абеляра. Невозможно описать лучше, чем это сделала Элоиза, что означало появление в ее жизни мэтра Пьера, философа, чья слава вполне могла сравниться со славой короля, человека, чей талант в поэзии и музыке затмевал таланты всех его современников, чья физическая красота, ум и образованность превращали его в настоящего героя, с которым никто не мог сравниться, человека, являющегося для женщин воплощением обольстительнейшего соблазнителя. «Один лишь вы можете судить, какие чувства вы всегда возбуждали во мне, вы, испытавший силу этого чувства». Далее Элоиза с еще большей горячностью повторяет упреки, с которых начинается ее письмо, и тон послания здесь меняется, ибо прежде Элоиза старалась сдерживаться, стремясь прибегнуть к помощи доводов рассудка, а здесь она забывает о сдержанности, и тайная страсть прорывается с неистовой силой: «Скажите мне только, если можете, почему после того, как мы оба одновременно приняли постриг, о чем решение вы приняли единолично, почему я была покинута в одиночестве и предана такому забвению, что не видела вас рядом, не имела от вас никаких известий, чтобы восстановить мои силы и укрепить мое мужество, не имела от вас письма, чтобы я могла утешиться в разлуке с вами. Ответьте же мне, повторяю, если можете, не то я скажу, что думаю по сему поводу я и что на устах у всех. А думают все вот что: вас привело ко мне скорее вожделение, а не нежность, скорее пыл чувственности, а не любовь, вот потому-то после того, как жар ваших желаний охладел, вместе с желаниями исчезли и все проявления нежных чувств, порождавшихся этими желаниями».
И от этого упрека, наиболее жесткого, который можно было адресовать Абеляру как мужчине, как мужу или любовнику, Элоиза вновь возвращается к нежным мольбам: «Обдумайте и уважьте мою просьбу, умоляю вас, ведь она так ничтожна и легко выполнима; если уж я лишена возможности видеть вас, пусть тогда нежность ваших речей по крайней мере передаст мне сладость вашего образа, ведь что вам стоит написать письмо». Разумеется, подобные высказывания можно было бы счесть изощренной ловкостью, плодом великой хитрости, если бы в них не проявлялась женская суть, ведь переход от упреков к мольбам, и от них к упрекам присущ именно женщинам. Разумеется, довольно трудно нам сейчас представить, что последующие строки начертаны рукой монахини, насельницы монастыря, обреченной на вечное целомудрие: «Моя душа не может существовать нигде без вас, но сделайте так, чтобы ей было хорошо с вами, умоляю вас, а ей будет с вами хорошо, если вы будете с ней доброжелательны и благосклонны, если вы отплатите ей любовью за любовь, если малым одарите за многое, словами за дела».
Думается, что, произнося эти слова, Элоиза все же осознавала, какая пропасть лежит между нею и Абеляром, что пропасть эта образовалась в результате их с Абеляром пострижения, ибо в конце письма она взывает к Господу: «Итак, во имя Того, Кому вы себя посвятили, во имя самого Господа заклинаю вас, верните мне возможность любым способом общаться с вами, отправив мне письмо из нескольких строк в качестве утешения; если вы не сделаете этого ради меня, то сделайте это хотя бы ради того, чтобы я, почерпнув в ваших словах новые силы, могла бы с большим рвением и пылом служить Господу».
Вероятно, Абеляр испытал настоящий шок, получив это послание. На протяжении долгих лет он в одиночестве шел своим путем, тем, по которому он следовал до встречи с Элоизой. Он вел жизнь мыслителя-монаха; термин «монашеский образ жизни» обрел для него свой этимологический смысл, ибо как в монастыре Сен-Дени, так и в монастыре Святого Гильдазия Рюиского он оказался очень одинок, неспособен приспособиться к другим, войти в некое сообщество. Письмо Элоизы вновь поставило его в положение человека, вынужденного размышлять над проблемами «диалектики супружеской пары». Он, разумеется, выказал глубину своего неравнодушия к ней, причем выказал самым благородным образом — подарив ей Параклет. Он ведь даже подумывал какое-то время пожить там, исполняя при той, что была его супругой, роль отца и священнослужителя — единственную роль, которая ему была теперь отведена. И отказаться от этой мысли означало для него принести немалую жертву. Но он, того не ведая, спровоцировал всплеск, нет, взрыв чувства, которого сам более не испытывал, не подозревая, что оно возможно по отношению к нему, — взрыв любви страстной, безграничной, ломающей любые рамки. Письмо Элоизы внезапно открыло ему глаза на разверзающуюся пропасть страданий, на все эти годы молчания, проведенные под монашеским покрывалом в облике безупречной монахини, столь безупречной, что ее подруги сочли Элоизу достойной стать сначала приорессой, а затем аббатисой, на все те чувства, которые испытывала она при их встречах в Параклете, когда она хранила молчание о том, что происходило в ее душе, наконец на горечь и обиду, таившиеся в ее сердце с того часа, когда Абеляр, будучи кастрирован, принудил ее первой постричься в монахини, словно усомнившись в ее непоколебимой верности, и сделал он это в момент, когда ей как женщине уже не на что было надеяться… Он осознал, какой всепоглощающей, абсолютной любовью Элоиза его любила, и увидел огромное расстояние, разделяющее их: ведь на пути человеческой любви она намного превзошла его, а он об этом даже не подозревал. Абеляр почувствовал сердцем, насколько эта преданность, хранимая день за днем, насколько это сердце и эта душа, оставшиеся совершенно нетронутыми вопреки тем ранам, что были им нанесены, и той холодности и тем суровым испытаниям, которым они подвергались сейчас, были выше его собственных чувств, — ведь он был озабочен прежде всего своей личной судьбой, сожалениями о своей утраченной славе, о нанесенных ему оскорблениях и о телесных страданиях!
Письмо Элоизы, этот крик страсти, было еще и настоятельным призывом возобновить отношения, обрести вновь — в иной сфере — тесноту супружеских объятий. Подобно тому, как прежде она в пароксизме страсти говорила, что предпочла бы называться его любовницей или наложницей, а не супругой, теперь она, предъявляя свое право супруги, хотела, чтобы Абеляр, не имея возможности доказать ей свою любовь физически, телесно по крайней мере взглянул бы ей в глаза, чтобы их взгляды вновь встретились. Она требовала соблюдения своих прав, прав испытывающей неудовлетворенность супруги, она считала эти права законными и хотела, чтобы их уважали, и ради этого даже готова была проявить непокорность, несмотря на то, что прежде выказывала полнейшее подчинение супругу.
И действительно, отношения возобновились, но в совершенно ином плане, чем предполагала Элоиза, ибо Абеляр, столь часто в сложных ситуациях демонстрировавший свою слабость и неспособность быть провидцем, на сей раз вел себя достойно в положении, которого он не предвидел.
Письмо Элоизы написано столь же искусно, сколь страстно. Ответ Абеляра ни в чем ему не уступает, более того, его послание еще более искусно, и в нем ощущается попытка направить страсть Элоизы, предметом которой является он сам, автор этого послания, на путь, им выбранный, ибо если Элоиза и превзошла его на пути любви человеческой, то сегодня он сам намного обогнал ее на пути любви божественной.
Абеляр позднее признавал, что оказался повергнут в изумление письмом Элоизы. Он не был готов к такому взрыву страсти, ибо ничто в поведении Элоизы не указывало ни в малейшей степени на подобное развитие событий, и как бы ни был он чувствителен к почестям, как бы ни был озабочен вниманием людей к своей персоне, как бы ни был, наконец, привязан к Элоизе, не таких почестей и не такого внимания и не таких свидетельств привязанности он мог себе пожелать. Читая его ответ, мы понимаем очень ясно, кем был Пьер Абеляр в тот период своей жизни, каким он был и насколько полным и всеобъемлющим были его смирение и его готовность принять страдание и унижения, ибо нам на страницах его письма предстает не просто человек, которому отныне и впредь недоступны и запрещены все удовольствия, нет, а именно человек, принявший окончательное решение посвятить себя служению Богу.
К тому же в ответном письме философа нет и тени упрека. Абеляр — и в этом заключается его величие — не снисходит до уровня обычной, обыденной морали. Он не разыгрывает из себя оскорбленную добродетель, он понял, что в человеческом плане любовь, выказанная Элоизой, настолько огромна и драгоценна, что способна однажды, в один прекрасный день, обратиться, то есть устремиться к Нему, к Тому, Другому, как именуют Господа, дабы не упоминать Его имени всуе. Причем Абеляр полагал, что обращение это уже произошло.
«Если с той поры, как мы с вами покинули все мирское ради Господа, я еще не обратился к вам ни с одним словом утешения, то причину сего надобно искать не в моем к вам небрежении, а в вашей мудрости, к коей я всегда питал полнейшее доверие и на которую всегда абсолютно полагался. Я никак не думал, что какая-либо помощь необходима той, кого Господь облагодетельствовал всеми дарами Своей милости, той, что своими речами, своим примером способна сама просветить помраченные умы, укрепить слабые души, обогреть тех, чьи сердца охладевают». Этих нескольких вступительных строк из письма Абеляра достаточно, чтобы понять: вся переписка пойдет на совсем ином, более высоком уровне, чем тот, что задан письмом Элоизы; вероятно, можно было бы предположить какое-то недоразумение, если бы каждое выражение не было тщательно выверено, а предполагаемый эффект этого послания не был бы столь же тщательно рассчитан. Именно такие приемы обеспечивали Абеляру успех как преподавателю, и здесь явно использованы приемы талантливого педагога; итак, преподаватель обращается с наставлением к хорошему ученику, и, зная, чего от него можно ожидать, он обращается к тому, что есть в этом ученике лучшего, — это не выговор, не нагоняй, не суровое предупреждение, нет, это призыв, это поучение, это проповедь, рожденная самыми благими намерениями. Что сделала бы Элоиза с письмами или наставлениями Абеляра, она, демонстрировавшая столь великое усердие и столь великую осторожность при управлении монахинями, которых ей вверили? И Абеляр в одной фразе напоминает Элоизе и о своем сане настоятеля, в котором пребывал недавно, и о ее сане аббатисы, в котором она продолжает пребывать. Вот таким образом он перемещает их обоих из прежнего состояния любовника и любовницы в состояние реальное, в состояние текущего момента, из чего следует вывод, что она — аббатиса недавно созданного монастыря, а он — аббат и потому не может ничего иного, кроме как обратиться к ней с чисто духовными увещеваниями. Но Абеляр живо ощутил, какое отчаяние скрывалось за строками послания Элоизы, и потому он произносит слова, которые, на наш взгляд, не представляют собой «категорический отказ»: «Однако если вы в вашем смирении и покорности судите об этом иначе и если вы испытываете нужду в нашем наставлении и в наших письменных советах, даже в вопросах, относящихся к Небесам, то напишите нам, насчет чего вы желаете, чтобы я вас просветил, и я отвечу вам тогда тем способом, что дарует мне Господь».
Тем самым он изменяет ситуацию на прямо противоположную: по толкованию Абеляра, если Элоиза и требует от него писем, то делает она это якобы из смирения и покорности; в этих посланиях предметом обсуждения могут быть только «вопросы, относящиеся к Небесам», и в ответах — Абеляр вовсе не отказывается отвечать — могут обсуждаться только вопросы, способные заинтересовать их обоих в равной мере, то есть те, что касаются их внутренней жизни. Отныне и впредь невозможно никакое недоразумение, невозможна никакая ошибка, ибо точно и четко определены два уровня переписки, подобно тому, как в музыке регистры на нотном стане обозначают нотными ключами, скрипичными и басовыми, и надлежит придерживаться указанного.
После такой преамбулы послание можно бы и не продолжать, если бы Абеляр далее не стал развивать в том же тоне и на том же уровне темы, особенно дорогие сердцу
Элоизы, темы, касавшиеся их взаимоотношений и опасностей, что могли грозить тогда его особе; он просит ее молиться за него, ибо ему ежедневно и ежечасно грозят опасности, а «Господь благосклонен к тем молитвам, что возносят женщины за тех, кто им дорог, и к молитвам супругов о супругах». Далее Абеляр приводит примеры из Библии, свидетельствующие о том, какой великой силой может обладать молитва, — иногда молитва способна изменить ход событий. Один из приведенных им примеров особенно важен: это история дочери Иеффая. Надо сказать, что эта библейская история вдохновила Абеляра на создание одного из самых его прекрасных стихотворений, так называемого плача, жанра, получившего широкое распространение в поэзии трубадуров. Известно, что Иеффай, персонаж из Ветхого Завета, «после произнесения неразумного обета еще более неразумным образом исполнил сей обет, принеся в жертву собственную дочь». Напомним, что этот человек, собираясь на битву с врагами, дал обет в случае победы принести в жертву первого, кто выйдет из его дома ему навстречу. Как сказано в Книге Судей Израилевых, одержал Иеффай победу, «и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами». Этот намек на принесение в жертву человека очень дорогого и любимого, существа невиновного, для Элоизы, как, впрочем, и для самого Абеляра, был весьма прозрачен. Тема эта получит дальнейшее развитие в стихотворении Абеляра, в котором раскрылись таланты, прославившие Абеляра при жизни.
Абеляр на этом не останавливается, а продолжает рассуждать о силе молитвы и приводит доказательства того, что молитвам женщины Господь внимает: «Вам надобно лишь просмотреть Новый и Ветхий Завет, и вы найдете там свидетельства того, что самые великие чудеса воскрешения из мертвых были совершены исключительно или преимущественно перед взорами женщин, были совершены ради них или над ними». Далее в качестве примера Абеляр упоминает о вдове из Наина и о двух сестрах Лазаря — Марфе и Марии.
Наконец после пространных общих рассуждений Абеляр обращается лично к Элоизе: «Обращаюсь к тебе одной, к тебе, чья святая непорочность, совершенно очевидно, обладает великой силой перед Господом, к тебе, которая первой должна оказать мне помощь в испытаниях и бедствиях, преследующих меня». Итак, вся любовь Элоизы должна быть сосредоточена и высказана в молитве за него, которую Абеляр просит возносить Богу, молитве, которая представляется ему единственно возможной формой взаимоотношений. На этом он завершает свое послание, напомнив о том, что в Параклете она и другие монахини в те дни, когда он бывал там, ежедневно в положенные часы завершали молитвы особой молитвой за того, кто был основателем их монастыря, то есть за него, за Абеляра. Далее он советует им читать молитву, еще более уместную в данных обстоятельствах: «Не оставь меня, Господи, Отец и Владыка жизни моей, чтобы не пасть мне перед моими противниками и чтобы не радовался враг мой моей погибели. Охрани, Господи, Твоего раба, возлагающего на Тебя надежды…» И наконец, Абеляр сообщает Элоизе о своей последней воле, о своем последнем желании, которое надлежит исполнить после его смерти: «Тело мое, где бы оно ни было погребено или брошено, пусть будет вашими заботами, умоляю вас, перенесено на ваше кладбище, чтобы вид моей могилы побуждал наших дочерей, наших супруг во Христе, чаще возносить за меня молитвы к Господу». Призыв возвыситься над чисто человеческой земною любовью не мог быть выражен ясней и полней. «О чем еще я прошу вас более всего и прежде всего, так это о том, чтобы вы пеклись о спасении моей души столь же рьяно, как вы сейчас заботитесь о моем теле, терзаясь от того, что ему грозят опасности».
«Такова по сему поводу жалоба нашей Элоизы, которую она произнесла передо мной и которую она часто повторяла себе самой: „Если не может быть спасения без раскаяния в грехе, совершенном прежде, то нет для меня никакой надежды. Ибо радости, что мы вкушали вместе, были мне столь сладки, что при воспоминании о них я испытываю лишь удовольствие“».
Несомненно, по мысли Абеляра, диалог был закончен навсегда. Чего же еще желать? Письмо в ответ на письмо, просьба в ответ на просьбу… Он сумел с бесконечным тактом сгладить все, что в исполненном отчаянии послании Элоизы говорило о страданиях и страсти; крик души под его воздействием превращался в молитву; Абеляр полагал, что он обладает достаточной властью над душой Элоизы, чтобы убедить ее в необходимости верно следовать тем путем, который он для нее начертал и который он ей указал. Разве не объяснил он ей, как ненадежна и подвержена случайностям жизнь того, кого она любила, разве не направил он ее внимание, сосредоточенное на его персоне, на путь, более соответствовавший реальностям земным и небесным?
Но Абеляр не подумал о том, что тем самым он дал повод для других тревог, которые могли стать — и стали — источниками новых излияний чувств. Невозможно читать письмо Элоизы, не учитывая, какой ответ ей предстояло получить от Абеляра, и наоборот, — ведь если в первых письмах два уровня общения были еще различны и разницу эту легко заметить, то совершенно ясно, что впоследствии, при продолжении переписки Абеляр волей-неволей был вынужден «снизойти» до уровня Элоизы и согласиться на ее условия и на ее уровень.
Второе свое письмо Элоиза начинает с того, что еще раз демонстрирует свое искусство, чисто женское, которое может повергнуть «партнера» в замешательство; здесь она проявляет себя почти как светская женщина, мирянка, — владея ситуацией, в которой многие представительницы ее пола почувствовали бы себя весьма затруднительно, она вдруг принимается умело разбирать эпистолярный стиль того, кто написал ей письмо: «Удивляюсь я, о мой единственный, что вы, пренебрегая правилами эпистолярного стиля и пренебрегая естественным порядком вещей, взяли на себя смелость в самом начале письма, в приветствии, поставить мое имя прежде вашего, то есть поставить женщину впереди мужчины, жену — впереди мужа, служанку — впереди хозяина, монахиню — впереди монаха и священника, диаконису — впереди аббата». Правда, эта искусственная уловка как бы маскирует еще один ловкий ход Элоизы: ведь она, приводя целый ряд антитез, незаметно, но упорно противопоставляет себя Абеляру. И надо заметить, ее униженная поза смиренной просительницы (это она подчеркивает постоянно) представляет собой не что иное, как еще один способ требовать своего; ведь что бы ни случилось, перед Богом и людьми они — муж и жена, и что бы ни случилось, тот уровень, на который Абеляр отказался спуститься, все же их общий уровень. Кстати, у Абеляра не было никаких иллюзий по поводу истинного значения сего «протеста»: «Относительно той формулы приветствия, прибегнув к коей, я, по вашим словам, нарушил установленный порядок, то я всего лишь, поймите это, сделал все так, чтобы это было сообразно вашей мысли. Разве не существует общественного правила и разве не сказали вы сами, что при написании некоему лицу, занимающему по отношению к нему вышестоящее положение, человек указывает имя этого лица первым? Итак, знайте же, вы для меня — лицо вышестоящее, вы стали моей повелительницей, став супругой моего Владыки».
По поводу этого первого вопроса, вроде бы незначительного и не таившего в себе никакой опасности, Абеляр пустился в долгие рассуждения и привел пространное описание Христовой супруги из Священного Писания. «Правда, — пишет он, — слова эти употребляют обычно при описании души созерцательной, проводящей жизнь в молитвах и самосозерцании, которую и именуют особо супругой Христа. Однако же само монашеское одеяние, которое вы носите, свидетельствует о том, что они совершенно точно приложимы и к вам». Еще и еще раз возвращаясь к образу, довольно часто фигурировавшему в письмах и высокодуховных беседах того времени, Абеляр восклицает: «Сколь счастливые изменения претерпели супружеские узы! Вы, когда-то жена несчастнейшего из людей, оказались вознесены и удостоились чести разделить ложе с Царем царей, и эта беспримерная, не знающая себе равных честь поставила вас не только выше вашего первого супруга, но и выше всех служителей этого Царя царей». Под пером Абеляра теснятся образы из Песни песней — на протяжении всего XII века эта замечательная библейская поэма как бы лежала в основе всех сочинений, посвященных проблеме милосердия и божественной любви.
«Еще одно, — пишет далее Элоиза, — удивило и взволновало нас. Ваше письмо, которое должно было принести нам некоторое утешение, только усилило нашу боль, рука, которая должна была бы осушить мои слезы, только поспособствовала тому, чтобы этот источник забил с новой силой. Кто из нас смог бы без слез, в самом деле, выслушать то, о чем вы пишете в конце письма: „Если случится так, что Господь предаст меня в руки моих врагов и если мои торжествующие победу враги предадут меня смерти…“ Избавьте нас от слов, которые делают несчастнейшими тех, уже и так столь несчастных женщин, не отнимайте у нас до смерти то, чем мы только и живем». На что Абеляр ответил так: «Почему вы обвиняете меня в том, что я позволил вам разделить мои тревоги, если это вы сами своими настоятельными просьбами заставили меня это сделать!»
Его ответное письмо на второе послание Элоизы отмечено некоторой жесткостью, вероятно, преследовавшей цель как-то исправить, «выровнять» при свете доводов рассудка те излияния и всплески эмоций, что остались как раз на уровне чувственности.
Элоиза продолжает: «Ты пишешь о своей смерти так, словно мы сможем пережить тебя! Пусть Господь не забудет своих покорных служанок и не допустит, чтобы они пережили такую потерю! Да не оставит Он нам жизнь, которая окажется для нас более непереносима, чем любая смерть! Одна мысль о вашей смерти для нас уже смертельна!»
Абеляр же на эти слова отвечает так: «Если вы не можете найти для меня места в вашем счастье, то я не понимаю, почему вы желаете, чтобы моя столь несчастливая жизнь продолжалась, и не желаете мне смерти, которая для меня скорее высшее счастье, блаженство… Какие муки ожидают меня за пределами этого мира, мне неведомо, но мне ведомо, от каких мук я буду избавлен… Если вы меня действительно любите, то вы не найдете ничего дурного в моих постоянных мыслях о смерти. Более того, если вы питаете какие-либо надежды на то, что по отношению ко мне будет проявлено божественное милосердие, то вы пожелаете увидеть меня избавленным от испытаний этой жизни с тем большим пылом, чем очевиднее для вас их нестерпимость».
Перед нами диалог мужчины и женщины, диалог логики и чувства. Абеляр выказывает твердость, готовность встретиться с ситуацией лицом к лицу и противостоять ей, а все излияния чувств возмущают его и приводят если не в гнев, то в раздражение.
«Избавь нас от слов, что пронзают наши сердца подобно смертоносным мечам и делают нашу агонию еще более тяжкой, чем сама смерть», — восклицает Элоиза. «Избавь меня, умоляю, от этих упреков, окажи милость, избавь меня от этих жалоб, что столь далеки от того, чтобы исходить из лона милосердия», — отвечает ей Абеляр.
Элоиза пожелала получить от него известия, но ей предстояло смириться с тем, что известия эти могут быть и дурными, ей надлежало смириться с тем, что придется разделить с ним как его радости, так и его горести, однако она не может и не должна желать продления жизни, обреченной на непереносимые страдания. Здесь устами Абеляра говорит стоик.
Стоик не замедлит уступить слово богослову. Действительно, в своем письме Элоиза в весьма патетических выражениях описала горести и невзгоды своего существования: «Если бы то не было грехом и богохульством, разве не имела бы я права воскликнуть: „Великий Боже, как Ты жесток ко мне во всем!“» Вероятно, Элоиза не осмелилась уж слишком упрекать Господа за свои несчастья и винить Его в них, а потому она, подобно женщинам Античности, начинает поминать свою злосчастную судьбу: «Какую великую славу принесла мне судьба в виде вас! И какой же силы удары нанесла она мне вами! Какое неистовство проявила она по отношению ко мне, бросая из одной крайности в другую! Как в добре, так и в зле не ведала она никакой меры… пока наконец упоение наивысшего блаженства не сменилось унынием величайшего отчаяния».
Люди своего времени, Элоиза и Абеляр, несмотря на перенесенные страдания, все же не переступили последнюю черту, не дошли до отрицания Бога. Они могли бы сердиться на Него, могли бы пенять Ему за свои несчастья, и таковой, собственно, и является позиция Элоизы. Да, Бог к ним был жесток, хуже того — Он был нелогичен по отношению к ним, приверженцам законов логики: «Все основания справедливости по отношению к нам были разрушены, обращены против нас. Действительно, в то время, когда мы вкушали радости страстной любви, или — если использовать выражение менее стыдливое, но более выразительное, — пока мы предавались блуду, гнев Владыки Небесного не обрушивался на нас. Когда же мы узаконили эту незаконную любовную связь, когда мы покрыли покровом брака постыдное наше распутство, вот тогда-то гнев Господень и простер над нами свою тяжелую длань». Вот этого-то Элоиза и не могла принять, с этим она не могла смириться. Кара небесная обрушилась на них как на преступников в тот момент, когда они перестали грешить «по части блуда». «Для мужчин, застигнутых на месте преступления и уличенных в самом преступном прелюбодеянии, наказание, понесенное вами, было бы достаточно суровой карой, но то наказание, коего другие были бы достойны в качестве наказания за прелюбодеяние, вы навлекли на себя, вступив в брак». Итак, по мысли Элоизы, Бог оказался к ним несправедлив. Элоиза сохранила в неприкосновенности свою веру в Бога, но не веру в Бога, который есть Любовь. Она сердится и сетует на Него за проявленное к ним недоброжелательство — они, по ее мнению, не заслужили этого всей своей прожитой жизнью. Во времена Элоизы и Абеляра протест и непокорность могли привести к богохульству и святотатству, к кощунству, но не к отрицанию Бога. Господь остается с человеком даже в ту минуту, когда человек сердится на Него, обижается и упрекает. Даже проклиная Господа, человек осознает, что это Абсолют, в какие бы крайности ни впадал человек, доведенный до этих крайностей; выходом для него может быть ненависть или богохульство, но не небытие, не ничто. Человек может попытаться перехитрить Господа и даже сопротивляться Ему, но Бог остается с ним, остается в нем. Вот, вероятно, почему, заметим мимоходом, самоубийства были столь редки в ту эпоху: среди всех мерзостей и гнусностей жизни, среди всех гадких поступков, вопреки всем невзгодам в человеке жила неискоренимая вера в Бога, то есть в жизнь.
Но Абеляр не мог вынести того, что Элоиза вздумала сердиться на Господа и сетовать на Него: «Мне остается еще сказать об этих старых, вечно повторяющихся жалобах по поводу обстоятельств нашего пострига, нашего обращения в веру. Вы осыпаете Господа за это упреками, хотя должны были бы благодарить Его». Здесь Абеляр предстает перед нами во всем своем величии. Он, понесший наказание за совершенный им грех, поплатившийся своим телом, он, который мог бы сказать про себя, что его «наказали более сурово, чем саму Элоизу», он изменяет ситуацию одним-единственным словом, называя «обращением» то, что она упорно именует «карой, наказанием». Он прибегает здесь не к языку логики, а к языку божественной благодати. Одного этого отрывка достаточно для того, чтобы убедиться в невероятном богатстве внутренней эволюции Абеляра, происшедшей в результате того, что он в самом начале сказал «да», то есть беспрекословно смирился с ударом, нанесенным ему… Показавшийся нам человеком довольно жестким и суровым тогда, когда он порицал немного сентиментальные и чувственные жалобы Элоизы, Абеляр сумел воззвать к чувствам возвышенным, сделав это самым тонким, самым деликатным и самым благородным образом: «Вы прежде всего думаете о том, чтобы мне угодить, мне понравиться, как вы говорите; если вы хотите прекратить подвергать меня пытке, — я не говорю о том, хотите ли вы мне угодить и мне понравиться, — изгоните эти чувства из вашей души. Поддерживая и питая их, вы не сможете ни угодить мне, ни мне понравиться, ни достичь вместе со мною вечного блаженства. Позволите ли вы мне пойти туда одному, вы, которая объявляет о своей готовности последовать за мной куда угодно, хоть в огнедышащую адскую бездну? Возжелайте же изо всех сил, чтобы истинная набожность и истинная любовь снизошли в вашу душу, пусть хотя бы ради того, чтобы не разлучаться со мной в тот момент, когда я, как вы говорите, отправлюсь к Господу».
Далее Абеляр с большой нежностью обращается ко всему лучшему, что есть в Элоизе: «Вспомните то, что вы говорили, вспомните то, что вы писали по поводу обстоятельств нашего обращения в веру и пострига: что Господь выказал по отношению ко мне далеко не враждебность, а был ко мне явно милостив. По крайней мере, смиритесь с вынесенным мне столь мягким приговором, столь счастливым для меня, который и для вас станет столь же мягким и счастливым, как и для меня, в тот день, когда ваша боль утихнет и откроет для вас доступ к пути разума. Не жалуйтесь, не сетуйте на то, что вы стали причиной столь великого блага, того блага, ради осуществления коего, как это теперь совершенно очевидно, Господь вас и создал специально».
А кстати, был ли Бог несправедлив? Абеляр без особого труда доказывает, что если на них и обрушилась кара Господня, то оказалась она вполне заслуженной и соразмерной совершенному преступлению. Продолжая приводить все новые и новые доводы в защиту своей теории, он безжалостно указывает перстом на обстоятельства, которые в его глазах усугубляли преступность их деяний. Абеляр напоминает Элоизе о святотатстве, совершенном ими в Аржантейле: «Наше бесстыдство не было остановлено даже тем почтением, что следовало бы питать к месту, посвященному Пресвятой Деве. Если мы даже не были бы повинны в иных преступлениях, то за одно это разве не были бы достойны самой ужасной кары? Надо ли мне сейчас напоминать о наших давних позорных деяниях и о постыдном распутстве, коему мы предавались до вступления в брак? Наконец, должен ли я вспомнить о гнусном предательстве, в коем я был повинен по отношению к вашему дяде, я, бывший его гостем и сотрапезником, когда я столь бесстыдным образом соблазнил вас? И разве предательство, совершенное по отношению ко мне, не было справедливым мне воздаянием? Кто мог бы судить иначе? В особенности с позиции того, кого я сам первым предал столь оскорбительным образом?» Затем Абеляр «берется» за Элоизу: «Вам известно, что, когда вы были беременны и когда я направил вас к себе на родину, вы надели на себя священные одежды и этим дерзким переодеванием оскорбили род занятий, коему вы сейчас принадлежите. А теперь рассудите, была ли права справедливость, нет, да что я говорю, не справедливость, а Божественная милость и благодать, когда она подтолкнула вас на путь монашеской жизни, в которую вы не побоялись поиграть? Она пожелала, чтобы одеяние, которое вы осквернили, послужило вам для того, чтобы вы искупили свой грех, чтобы истина стала лекарством, исцеляющим от переодевания и искажения, и таким образом зло, причиненное обманом и святотатством, было бы исправлено».
Элоиза в своем послании горько сетовала по поводу участи женщин: «Женщины всегда будут бедствием для великих людей». Она ведь сама сыграла роль Евы, роль соблазнительницы; из-за нее Абеляр утратил возможность попасть в рай, из-за нее он был изгнан из школ собора Нотр-Дам, из-за нее его осудили на публичное унижение, из-за нее прервалась его блестящая карьера. Элоиза перечитывает страницы Библии, где содержатся рассказы о женщинах, ставших причиной смут и несчастий: начинает она с Адама и Евы, упоминает о женах Соломона, склонивших его к идолопоклонству, а также вспоминает и жену Иова, подстрекавшую супруга к богохульству; Элоиза считает, что и она сама из той же породы женщин… Можно легко себе представить, каким мрачным размышлениям предавалась она в келье монастыря в Аржантейле или в Параклете.
В ответном послании Абеляр продолжает заниматься самообвинениями и самобичеванием, а также развивает рассуждения Элоизы, основанные на примерах из Ветхого Завета, обратившись к Новому Завету, то есть переходя от царства закона к царству милости и благодати. Итак, что означает в их случае так называемое «проклятие» женщины? Далее Абеляр без обиняков вспоминает, какую роль сыграл он сам в их «излишествах» и их распущенности: «Вам известно, на какие гнусные мерзости осудили наши тела вспышки моей страсти. Ни почтение к благопристойности, ни почтение к Господу даже на Страстной неделе и в дни самых великих торжеств не могли вырвать меня из той трясины, в коей я погряз». Слова Абеляра можно понять так, что они с Элоизой нарушали обычаи того времени, требовавшие, чтобы даже супруги не вступали в интимные отношения в дни постов, в особенности в дни Великого поста, на Страстной неделе, накануне религиозных праздников, подобно тому, как в те же дни люди были под запретом радости чревоугодия; короче говоря, Абеляр с Элоизой, видимо, не соблюдали правил воздержания. «Правда, вы этого не хотели, вы сопротивлялись изо всех сил, вы делали мне внушения и осыпали меня упреками, но даже при том, что слабость вашего пола должна была бы защитить вас, я прибегал к угрозам и насилию, чтобы принудить вас к согласию. Я пылал к вам такой страстью, что ради этих гнусных, мерзких удовольствий сладострастия, одно воспоминание о коих вгоняет меня в краску, я забывал обо всем, о Боге, о себе самом. Так могла ли Божественная милость спасти меня иным способом, кроме как сделать для меня эти удовольствия запретными навечно? Итак, Господь явил полнейшую справедливость и милость, дозволив вашему дяде совершить свое предательство по отношению ко мне… В соответствии с законами справедливости тот орган тела, который согрешил, и был поражен и болью искупил совершенное им преступление… Такое лишение разве не сделало меня тем более предрасположенным ко всяческим честным, порядочным и приличным деяниям, что оно освободило меня от тяжкого гнета похоти?» Абеляр говорит, что они не должны пребывать в печали по поводу своей роковой участи, не должны чувствовать себя удрученными, напротив, им следует радоваться — ведь то, что может показаться слабостью в глазах мирян, для них есть повод для радости и для обретения богатства иного рода: «Какая бы то была прискорбная потеря, какое бы то было достойное сожаления горе, если бы вы, предавшись нечистоте и непотребству телесных радостей, произвели бы в болях и муках небольшое число детей для этого мира, вместо того, чтобы в радости производить и растить бессчетное семейство для Небес, которое вы породили и растите сейчас; если вы были всего лишь женщиной, вы, сегодня превосходящая мужчин, вы, совершившая превращение проклятия Евы в благословение Марии…» В данном случае Абеляр выражает мысль, получившую широкое распространение в тот период, а именно мысль о произведенном в Евангелии «преобразовании» имени Ева в имя Мария, — это в высшей степени «облагородило» ту, что в Ветхом Завете рассматривалась как прародительница страданий и несчастий, повинная в вовлечении мужчины во грех и тем самым толкнувшая его к падению. Эти два «полюса» в осмыслении роли женщины ощутимы во взглядах всех теологов того времени, а если говорить в более общем смысле, то они характеризуют эпоху, когда женщина занимала привилегированное место, о чем свидетельствовали все способы выражения чувств: поэзия, живопись, скульптура, — и находило оно воплощение в образе Прекрасной Дамы трубадуров и труверов, а также в образе Пресвятой Девы.
Абеляр сумел проявить себя истинным духовным наставником, поскольку ему удалось избавить Элоизу от чувства вины, весьма тяготившего ее. Ибо она не только считала себя виноватой («Да будет угодно Небу, чтобы я понесла за свой грех достойное наказание, чтобы могла принести достойное покаяние… чтобы те страдания, что претерпели вы в вашем теле, я, как было бы справедливо, претерпевала в уничижении души моей на протяжении всей жизни»), но она еще почти впадает в отчаяние, а это грех с точки зрения христианства. «Если действительно надобно показать во всей наготе слабость моего несчастнейшего и ничтожнейшего сердца, то я должна сказать, что не нахожу в себе такого раскаяния, которым могла бы умилостивить Господа, я не в силах удержаться от того, чтобы постоянно не обвинять Его в неумолимой и немилосердной жестокости из-за того оскорбления, коему вы подвергались, и я все более и более оскорбляю Его своим непокорным ропотом, ибо ропщу я против Его повелений — вместо того, чтобы пытаться своим раскаянием смягчить Его гнев. Разве можно сказать, что человек кается в грехах, как бы он ни умерщвлял свою плоть, если в душе его все еще сохраняются помыслы о грехе и если душа его еще пылает прежними страстями? Легко и приятно признаваться на исповеди в своих грехах и преступлениях, легко обвинять себя в них, легко даже подвергать свою плоть внешним истязаниям, но очень трудно вырвать свою душу из плена самых сладостных наслаждений».
Вот то зло, что живет в Элоизе, зло, которое она выставляет напоказ в следующем отрывке: «Любовные наслаждения, которым мы предавались вместе, были для меня столь сладостны, что я не могу заставить себя ни изгнать из моей памяти воспоминания о них, ни запретить себе любить вспоминать о них. Куда бы я ни обратила свой взор, они тотчас же являются перед моими очами и будят во мне желания. От этих призрачных видений меня не избавляет даже сон. Даже во время обедни, когда молитва должна быть особенно чистой, эти непристойные видения завладевают моим несчастным сердцем с такой силой, что я бываю более поглощена этими мерзкими гнусностями, чем молитвой. Я должна была бы сокрушаться и стенать по поводу содеянных мной ошибок и преступлений, я же вздыхаю о тех, что я не совершила и не могу уже совершить». А далее следует заключение: «Люди превозносят мое целомудрие, мою нравственную чистоту, а все потому, что не ведают о моем лицемерии». Страдания Абеляра прекратились, но Элоиза всем телом, и всем сердцем, и всей душой ощущает нестерпимую боль утраты, боль, причиняемую ей осознанием того, чего она лишилась.
И вновь здесь Абеляр выступает как замечательный духовный наставник, как руководитель человеческих душ. Неумолимо суровый тогда, когда жалобы Элоизы «истекали» через край чувственностью, столь же он выказывает доброту и понимание теперь, когда читает признания женщины, терзаемой угрызениями совести. В его ответе мы не найдем ни следа упреков или возмущения, а встретим лишь слова утешения: «Что касается вашего отказа принимать похвалы, расточаемые вам, то я его одобряю, вы тем самым показываете, что вы тем более достойны сих похвал». Он возвращается к теме понесенного им наказания и к теме Божественной милости и долго рассуждает о благотворности той внутренней борьбы, что происходит в душе Элоизы: «Господь одним ударом охладил во мне весь пыл сладострастия, сжигавший меня, ибо таков был эффект наказания, коему подверглось мое тело. Тем самым Господь уберег меня от грехопадения. Для вас же Господь, предоставив самой себе вашу молодость, оставив вашу душу во власти вечных искушений телесных страстей, для вас Господь уготовил терновый венец мученичества. Хоть вы и отказываетесь это слушать и хоть вы и запрещаете мне это говорить, однако же истина совершенно очевидна, и состоит она в следующем: тому, кто ведет борьбу неустанную, венец и принадлежит». И он предлагает Элоизе вступить в тот мистический брак, в котором соединяются достоинства, заслуги и страдания: «Я не сетую на то, что мои заслуги умаляются, в то время как ваши возрастают, ибо мы составляем единое целое во Христе; по закону о браке мы есть единое тело». Итак, видениям плотских утех, которые терзали Элоизу, как следовало из ее жалоб, Абеляр противопоставляет иную картину: картину добровольного мученичества, принятого ради блага двух супругов.
Выводы Абеляра полностью противоречат выводам Элоизы. Она заканчивала свое послание признанием совершенно откровенным: «Господу ведомо, что я на протяжении всей моей жизни до сего дня более всего опасалась оскорбить вас, нежели Его, и больше желаю угодить вам, чем Ему», — на что Абеляр отвечает: «Господь уже предуготовил условия, при коих мы должны вместе вернуться к Нему; действительно, если ранее нас бы не соединили узы брака в единое целое, то вы, после моего удаления от мира, под влиянием советов ваших родных и под воздействием притягательной силы телесных наслаждений, остались бы в миру. Удостоверьтесь же в том, как Господь позаботился о нас».
Неважно, чего они желали оба, — Господь привел их туда, куда они сами бы не попали…
Абеляр не ограничивается увещеваниями. Он был слишком типичным представителем своей эпохи, чтобы не призвать Элоизу последовать чьему-либо примеру; себя он охотно сравнивал с Оригеном и в данном письме возвращается к этому сравнению. Ориген был евнухом; как гласит легенда, он сам изуродовал свое тело, восприняв буквально фразу из Евангелия, где говорится о тех, кто сделался евнухом «для Царства Божия». Что касается Элоизы, то ей Абеляр напоминает о том, что ее имя есть одно из Божественных имен: «Неким священным предзнаменованием, связанным с вашим именем, Господь отметил вас особым для Небес знаком, назвав вас Элоизой, то есть именем, созвучным с одним из Его имен, Элои».
Письмо свое Абеляр завершает настоятельным требованием, чтобы Элоиза обращалась к Небесам с молитвой о нем, Абеляре, хотя она и не считает себя достойной столь почетного поручения; далее он приводит текст молитвы.
Молитва эта слишком характерна, чтобы мы могли пренебречь ею.
«Господи, Ты, который с самого начала сотворения мира создал женщину из ребра мужчины и установил великое таинство брака, Ты, оказавший женщине честь и вознесший ее на такую высоту, Ты, снизошедший к просьбе женщины и творивший чудеса во время свадьбы в Кане Галилейской, Ты, Своей волей даровавший мне исцеление от моей невоздержанности и слабости, не отвергай молитв Твоей служанки. Я униженно изливаю их у ног Твоих, о Божественный Владыка, чтобы Ты простил грехи мне и моему возлюбленному. Прости, о Господь Доброты… нет, что я говорю?! Прости, о Ты, кто есть сама Доброта, прости нам наши столь великие преступления, и пусть Твое бесконечное несказанное милосердие будет равно множественности наших грехов. Ты соединил нас, Господи, и Ты разлучил нас, когда на то была Твоя воля. Так заверши же сегодня милосердно и с состраданием то, что Ты милосердно и с состраданием начал. Соедини тех, кого Ты разлучил на один день в этом мире, соедини их в Себе навечно на Небесах, о Ты — наша надежда, Ты — наш удел, Ты — наше упование, Ты — наше утешение, да будешь Ты благословен во веки веков. Аминь».
Именно этой молитвой завершается этот взрыв любви, так как любовная переписка закончилась вторым ответным посланием Абеляра. Вообще-то это было вполне в духе времени… Разве самые известные, самые прославленные трубадуры не заканчивали свои дни в аббатствах? Бернар де Вентадорн — в аббатстве Далон, где в конце своей бурной жизни нашел себе убежище и покой Бертран де Борн; Пейр Овернский — в аббатстве Гранмон, Фульхерий Марсельский — в Тороне, откуда он отправился в Тулузу, чтобы занять кресло епископа; и здесь мы упомянули только самых известных…
Духу того времени соответствуют и обращения, которыми начинаются эти послания; по ним одним, даже если бы оказались утрачены тексты самих посланий, можно было бы судить об их содержании. В тот период существовало совершенно особое искусство речи. В качестве терминов выбирали тогда слова, выразительные сами по себе, а это требовало определенного постижения искусства слова, что проявлялось даже в повседневной жизни, например в форме прозвищ: так, одного короля Англии в народе называли Бо-Клерком (красивым клириком), другого — Кур-Мантелем (коротким плащом), а третьего — Плантагенетом (от латинского названия дрока — Planta genista — так как основатель династии Плантагенетов Готфрид Красивый любил украшать свой шлем веточкой дрока). Прозвище служило характеристикой того или иного человека в разговорной речи, подобно тому, как в письме личность бывала засвидетельствована печатью, а на турнире рыцаря характеризовали его доспехи, украшенные родовым гербом. Привычка давать прозвища, сегодня практически исчезнувшая, изжитая, до недавнего времени еще существовала во Франции в сельской местности; можно смело утверждать, что эта черта средневековой жизни все же сохранилась и в наши дни, потому что прежние прозвища превратились в наши фамилии.
Развитию искусства языка в том, что касается сочинений XII века, способствовали лаконичность и поэтичность распространенного тогда латинского языка (так называемой народной латыни), который очень сильно отличался от латыни классической. Вот откуда Элоиза черпает свои столь многозначительные, столь красноречивые, очень краткие выражения, которые даже Октав Греар, несмотря на всю свою искушенность и свой талант в искусстве перевода, сумел в точности передать только при помощи очень длинных и развернутых описаний.
Обращение в первом письме — своеобразный маленький шедевр, ибо каждое слово заключает в себе как бы эхо, отзвук одного из эпизодов очень печальной жизненной истории:
Невозможно более точно определить и описать положение Абеляра и Элоизы по отношению друг к другу, как в плане духовном, так и в плане житейском.
Но обращение Абеляра не менее многозначительно:
На страстный призыв Абеляр отвечал четко сформулированной «программой дальнейших действий»: речь шла не о том, чтобы пристально смотреть друг на друга, не отводя глаз, но чтобы смотреть обоим в одном направлении, ибо таково было предопределение относительно этой супружеской пары, которую они теперь составляли и должны были составлять впредь. Но так как Элоиза еще не могла смириться с таким предопределением, она начинает второе письмо так: «Unico suo post Christum unica sua in Christo» — «Своему единственному после Христа, его единственная во Христе». Чтобы понять истинное значение этой фразы, надо несколько расширить значение каждого термина, и тогда получится вот что: «Тому, кто является для нее всем после Иисуса Христа, та, кто целиком принадлежит ему во Христе», но вторую половину этой фразы можно трактовать и так: «Та, что есть все для него во Христе». По сути это означает одно: полное принятие Христа. Да, Элоиза и Абеляр верили в Бога, верили оба; они были представителями эпохи, в которой нормальное существование подчиняется требованиям веры в Христа.
Письма эти представляют для нас такой интерес именно потому, что они очень близки нам, потому что они в своей совокупности настолько человечны, что их авторы стали в нашем представлении образами типичных Возлюбленного и Возлюбленной, Любовника и Любовницы. Но вернемся к Элоизе… Элоиза хочет напомнить Абеляру, что она должна быть для него всем, точно так, как он — все для нее. На что Абеляр отвечает: «Sponse Christi servus ejusdem», что значит: «Супруге Христа — служитель Христа».
Такой ответ на притязание женщины делает для нас явственным и ощутимым всю драматичность конфликта, лежащего в основе существования супружеской пары, в основе существования двоих. Здесь мы можем вспомнить целый сонм образов и картин, широко известных в XII веке, которые служили иллюстрацией для развития темы числа «два», числа «гнусного», «гадкого» «мерзкого», то есть пользовавшегося дурной славой, числа, предполагавшего и требовавшего противостояния, борьбы, непокорности. Если мы возьмем Библию, а именно Книгу Бытия, то обнаружим, что уже на второй день сотворения мира возникает «раздвоение», разделение: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». И во второй день творения Бог не сказал, что «это хорошо». Абеляр это подчеркивает (как, впрочем, это делают все современные комментаторы Первой книги Моисеевой) в своем «Гексамероне», представляющем собой комментарий к Книге Бытия и написанном по просьбе Элоизы: «Надобно отметить, что про тот день не сказано: „И увидел Бог, что это хорошо“, как сказано про другие дни». Вместе с разделением воды на два вида, на ту, что под твердью, и на ту, что над твердью, как бы появляются все будущие расколы, все раздоры, все противоречия и противопоставления… все «двойственности», все «дуэли», что будут иметь место в будущем. И внутри каждой супружеской пары, вообще каждой пары, будет вновь и вновь вспыхивать «первородный» конфликт, будет происходить извечная «дуэль», и конфликт этот на то короткое время, когда супруги (или мужчина и женщина, составляющие пару) оказываются «единым целым во плоти», а затем конфликт этот будет преодолен, когда появится ребенок, тот, кто притянет к себе взгляды этих двоих, прежде устремленные друг на друга; вот таким образом в супружеской паре устанавливается гармония. Для Элоизы и Абеляра гармония могла возникнуть и установиться (и Абеляр это понял сразу же) только тогда, когда их взгляды оторвутся от них самих и устремятся в другом направлении, то есть к Богу.
Патетический дуэт вполне мог бы и должен бы на этом завершиться. Элоиза пожелала его продолжить, но в третьем письме она выказывает свое смирение и как бы готовность следовать той «программе», что предначертал ей супруг, ставший ее духовным наставником. Итак, она пишет «Domino specialiter, tua singualiter», что можно перевести как «Принадлежащая Господу по роду, и тебе как личности». Здесь она вспоминает о диалектике и без особого труда находит нужные категории, мыслить которыми научил ее наставник и ее повелитель; чтобы ему угодить, она вновь становится аббатисой, и раз уж он того требует, отныне с ним будет говорить аббатиса Параклета.
«Чтобы ты не мог в чем бы то ни было обвинять меня в неповиновении и непокорности, я накинула на мое желание выразить мои чувства, всегда готовые выплеснуться наружу, узду твоей защиты. Изливая слова при помощи пера, я по крайней мере смогу остановить то, что в наших отношениях при личных встречах было бы трудно, да нет, что я говорю, было бы невозможно предвидеть и предотвратить. Действительно, нет ничего, что было бы менее нам подвластно, чем наше сердце, и мы вынуждены в большей степени ему подчиняться, чем можем им управлять и ему приказывать. Когда сердечные привязанности терзают нас, нет никого, кто мог бы сдержать их столь внезапные всплески и взрывы, которые тем легче воплощаются в движения и претворяются в слова, чем быстрее совершаются эти приводящие в восторг и эти доводящие до исступления порывы чувств… Итак, я буду силой удерживать мою руку и не позволю ей ничего, кроме того, что мои уста не смогут не сказать. Да будет угодно Господу, чтобы мое страждущее и скорбящее сердце было столь же расположено подчиниться мне, как и мое перо». Это нечто совсем иное, чем холодное молчание или непокорность, это желание преодолеть самое себя, доводящее до героизма в самопожертвовании. Сознательно и решительно Элоиза будет впредь принуждать к молчанию свои чувства, которые она не может искоренить, а так как она опасается самой себя и не доверяет себе, ей придется приложить немалые усилия, чтобы себя контролировать.
Но дело не обойдется без последней просьбы. И в этом Элоиза не испытывает угрызений совести, у нее нет чувства, будто она требует чего-то большего, на что имеет право, и она уверена — Абеляр должен осознавать, что имеет некие обязательства перед ней, и потому должен ответить на ее послание. Кстати, разберемся, не получила ли Элоиза в конце концов то, что она желала? Ведь после чтения «Истории моих бедствий» она пожелала, как она сейчас пишет, вступить в контакт душа с душой, сердце с сердцем с тем, кого она продолжала любить и обмениваться с ним письмами и чувствами, и хотя сей «обмен» и не совершился в том виде, в каком ей бы хотелось, но все же он происходил. Абеляр ей ответил, он был вынужден ради нее забыть о своей немоте и нарушить свое молчание, именно за молчание она его с такой горячностью упрекала. Она заставила его вспомнить о прошлом, столь дорогом ее сердцу. На последнее письмо Элоизы Абеляр также должен был ответить, ибо Элоиза обращалась к нему с вопросами о том, что составляло суть ее настоящего и будущего. «Мы все, служительницы Иисуса Христа и дочери Иисуса Христа, — пишет она от имени сообщества, которым руководит, — обращаемся с мольбой сегодня к твоей отеческой доброте, дабы ты согласился даровать нам две вещи, в коих мы ощущаем совершенную необходимость: первое, о чем мы просим, так это о том, чтобы ты поведал нам, откуда происходит наш монашеский орден и каков наш символ веры; второе, о чем мы просим, чтобы ты даровал нам устав и направил нам его текст; пусть свод сих правил будет специально предназначен для женщин и определяет окончательно состояние нашего общества и вид одеяния, которое мы должны носить, о чем ни один из святых отцов Церкви, насколько нам известно, не позаботился. Именно из-за отсутствия подобного устава сегодня мужчины и женщины в монастырях подчиняются одним и тем же правилам, так что тяжесть одинакового гнета принужден нести слабый пол наравне с сильным полом. Вплоть до сего дня мужчины и женщины в равной мере подчиняются уставу Святого Бенедикта, хотя совершенно очевидно, что правила эти были составлены только для мужчин и могут соблюдаться лишь мужчинами…»
Молчание, которое Элоиза хранила после завершения любовной переписки, — это всего лишь «литературный факт». Кроме этого письма, чей тон разительно отличается от тона предыдущих, мы располагаем иными свидетельствами того, что между аббатисой Параклета и Абеляром, игравшим роль духовного наставника, долгое время поддерживались определенные отношения и осуществлялся обмен посланиями: после двух писем, в которых был изложен монастырский устав, последовали еще и гимны, которые Элоиза попросила сочинить Абеляра, дабы исполнять их на различных «этапах» литургии; были сочинены еще и проповеди — их потребовала от Абеляра Элоиза по случаю возведения зданий монастыря; еще более глубокие взаимоотношения установились между ними во времена бурь и потрясений, которыми будут отмечены последние годы жизни Абеляра, и связующая нить не оборвалась даже после его смерти. Таким образом, можно сказать, что вся жизнь Элоизы была озарена светом Абеляра, на протяжении всей жизни он руководил ею и наставлял ее, вел ее за собой. Отныне и впредь объединены были эти двое общим желанием, общей волей; Элоиза успокоилась, получив от него то внимание и ту заботу, которые, как она считала, он обязан был выказать по отношению к ней, а Абеляр добился, чтобы все это внимание и вся эта забота укрепляли и ее и его в служении Господу.
Кое-какие дошедшие до нас свидетельства (гимны, сочиненные Абеляром, устав монастыря, им написанный) приоткрывают завесу тайны над жизнью Элоизы в Параклете. Те жалкие руины, что «дожили» до наших дней, не позволяют нам воссоздать фон ее существования. Там, где располагался монастырь, сейчас находится мрачное толстостенное здание с башенками, но возведено оно гораздо позднее, и только один сводчатый зал мог, пожалуй, быть построен во времена Элоизы; однако кое-что все же осталось неизменным: пейзаж и атмосфера этого довольно сурового уголка сельской местности, где чередуются поля и леса, по которым текут небольшие речушки и теряются в зарослях крошечные озерца; по осени и озер, и просто больших луж там становится больше и больше, в них отражается чудесное, ясное небо Шампани, а закаты там прекрасны и прозрачны, и горизонт залит нежным розовым светом.
На этом фоне «романтической гравюры» легко представить себе, как льются звуки монашеских песнопений; эти песнопения определяют весь ход, весь режим жизни монахинь, день начинается и завершается этими песнопениями, меняющимися в зависимости от времени суток и времени года. Огромные усилия, необходимые для сочинения гимнов, свидетельствуют о том, какое большое внимание Абеляр уделял молитве, которую надо было петь, а не просто проговаривать; и забыть об этой части его творчества означало бы его в каком-то смысле предать; наследие его очень велико: более 140 гимнов, созданных для того, чтобы подчеркнуть значение каждой фазы церковной службы. Все они наполнены реминисценциями, отсылающими к Священному Писанию, все они созданы на основе Библии и богатств церковной доктрины, многие из них отличаются совершенством размера и ритма и большой поэтической силой, как, например, знаменитый гимн «О, quanta qualia», предназначавшийся для исполнения во время субботней вечери, или гимн для первой всенощной службы в Рождество. Венцом поэтического творчества Абеляра с полным на то основанием можно назвать шесть его знаменитых «плачей», в которых слышатся отзвуки его собственной печальной истории, его и Элоизы; создавая их, автор вдохновлялся сюжетами из Библии, они были очень широко известны, и, как отмечено недавно исследователями, мелодия одного из этих «плачей», а именно «Плача подруг дочери Иеффая» (о ней речь шла выше), послужила основой для создания песнопения на старофранцузском языке — «песнопения девственниц», чрезвычайно популярного в XIII–XIV веках; таким образом, мелодия, сочиненная Абеляром, была у всех на устах и сто лет спустя после его смерти.
В уставе, написанном Абеляром для Параклета, той из монахинь, которой было доверено руководство хором, поручалось и обучение более юных сестер и послушниц; сочетание подобных обязанностей вполне отвечало духу времени, когда вообще всякое обучение начиналось с пения.
«Она научит других петь, читать, писать и записывать музыку, она также будет хранительницей библиотеки, она будет выдавать и принимать книги, станет заботиться о рукописях и о миниатюрах, украшающих эти рукописи». Устав Параклета, составленный Абеляром для этого монастыря, как о том и просила Элоиза, представляет собой устав Святого Бенедикта, но только специально «приспособленный» для женского монастыря, то есть с учетом нужд и особенностей женщин, с учетом их духовных запросов. Элоиза не раз высказывала пожелания относительно устава: надо учитывать особенности женского организма, и монахиням не следует выполнять непосильные работы (к примеру, обрабатывать землю, к чему обязывал монахов святой Бенедикт), излишним является и чтение чересчур длинных молитв, — это приводит к изнурению; так, Элоиза считала, что достаточно было бы «разделить» Псалтирь по дням недели таким образом, чтобы ни один псалом не читался дважды; она также выражала пожелание, чтобы устав предусматривал некоторое смягчение строгости «режима» повседневной жизни обители: чтобы было дозволено есть мясо и понемногу пить вино и т. д. Ее просьбы свидетельствуют об определенной умеренности — это составляет разительный контраст с тем, что нам известно о ее характере, чрезвычайно страстном; свидетельствует это и
о ее способности и склонности выполнять те обязательства, которые она взяла на себя, став аббатисой Параклета. «Да будет угодно Господу, чтобы наша вера вознесла нас на высоту Евангелия, но не позволила нам испытывать желание превзойти эту высоту; да не будем мы иметь честолюбивых помыслов быть более чем христианками».
Отвечая на это пожелание, Абеляр в свой черед проявляет великую мудрость: в его уставе не содержится никаких чрезвычайных требований относительно аскетического образа жизни. В уставе предусмотрено, что монахиням положено носить во все времена года черные шерстяные платья, а также полотняную рубашку, панталоны и мягкие туфли; еще они смогут носить «шкуру ягненка» и черный плащ; в дортуаре монахинь будут стоять постели с матрасами, с обычными подушками и подушками в виде валиков, с одеялами шерстяными и стегаными. Монахиням по уставу полагалось вставать довольно рано, чтобы присутствовать на заутрене и петь псалмы, но бодрствование и сон чередовались через равные промежутки времени, чтобы периоды бодрствования не были обременительны для организма. Что же касается пищи, то предписания Абеляра исполнены здравого смысла: «Если мы отказываемся от мяса, то будет ли это большой заслугой, если наши столы в то же время ломятся от других блюд? Мы за большие деньги покупаем разнообразную рыбу… словно качество, а не излишнее количество продуктов составляет суть грехопадения… Что нужно для этой быстротечной преходящей жизни? Не желать и не добиваться изысканности и высокого качества продуктов, а довольствоваться тем, что имеешь под рукой». Кстати, устав Абеляра ничем особым не отличается от уставов многих монастырей; самое необычное, что можно в нем найти, это особенности, свидетельствующие о приверженности его автора законам разума и логики, например следующее положение: «Мы категорически запрещаем отдавать предпочтение обычаю, а не разуму, а также запрещаем отстаивать какое-либо мнение или сохранять что-то в неизменном виде по той причине, что таков обычай, а не по той причине, что это разумно. Нужно сообразовываться с тем, что представляется нам хорошим, а не с тем, что принято и освящено обычаем».
Следует отметить, что, создавая устав Параклета, Абеляр не проявил отчаянной новаторской храбрости и дерзости подобно своему соотечественнику Роберту д’Арбрисселю, ведь тот при создании монашеского ордена Фонтевро предусмотрел существование «двойных» монастырей, то есть монастырей, где проживали — в строгой изоляции друг от друга, само собой разумеется, — монахи и монахини; управляли такими монастырями аббатисы; правда, в то время орден Фонтевро был далеко не единственным, где существовали, по сути, смешанные монастыри; такие обители были весьма многочисленны в краях, населенных по преимуществу кельтами, то есть в Англии и Ирландии.
В оправдание Абеляру скажем, что он в своем уставе предусмотрел существование неподалеку от Параклета мужского монастыря, его монахи и послушники должны будут оказывать некоторые услуги и помощь женскому монастырю при отправлении церковных служб и при проведении работ, требующих мужской силы. Он добавляет: «Мы желаем, чтобы женские монастыри всегда оставались в подчинении у мужских монастырей — чтобы братья заботились о сестрах, чтобы один аббат возглавлял как отец духовный обе обители, чтобы он пекся об их нуждах, чтобы во Христе у двух стад была одна овчарня и единый пастух, то бишь пастырь». Правда, далее он поправляет сам себя: «Мы желаем, чтобы аббат осуществлял руководство сестрами, но таким образом, чтобы он признавал супруг Христовых выше себя, то есть своими повелительницами, а себя — их слугой, и чтобы он находил радость не в управлении ими и не в отдаче им приказаний, а в служении им».
Можно было ожидать, что Абеляр — преподаватель по призванию, привыкший наставлять и обучать в школах, уделит особое внимание обучению и порекомендует монахиням проявлять истинное рвение в учении. По сему поводу он обращается к авторитету святого Иеронима, требовавшего от женщин, объединившихся вокруг Паулы в Вифлееме для ведения монашеской жизни, чтобы они изучали Священное Писание. «Учитывая то, что один из отцов Церкви, сей великий ученый муж, и эти святые женщины проявляли столь великое рвение в изучении Священного Писания, я призываю вас без промедления приступить к тому же, так как вы сейчас имеете возможность этим заниматься, и так как ваша матушка-настоятельница обладает познаниями в трех языках (греческий, латинский и еврейский), я выражаю пожелание, чтобы вы изучили Священное Писание наилучшим образом, дабы все, что могло бы породить какие бы то ни было сомнения из-за несовершенства различных переводов, вы смогли бы разъяснить и растолковать. Сама надпись на кресте Господа нашего, сделанная на еврейском, греческом и латинском языках, как мне кажется, словно бы предвосхищает подобные пожелания, вполне уместные, ибо знания этих языков в лоне Церкви должны быть распространены повсюду, поскольку текст Ветхого и Нового Заветов написан на этих языках. Вы можете, не совершая длительного путешествия и не делая больших затрат, обучаться им… как я уже сказал, у вашей матушки достаточно познаний в этих дисциплинах».
Первые шаги Параклета были очень неуверенными, и можно смело утверждать, что в самом начале жизнь монастыря была бедна и полна лишений, чему свидетелем стал сам Абеляр. Монахини нашли там, вероятно, только лишь хижины из тростника, сооруженные учениками Абеляра, а также возведенную ими часовенку; возможно, эта часовенка стояла на том же самом месте, где сегодня находится часовня, отмечающая предположительное захоронение останков Абеляра и Элоизы. Картулярий Параклета, сохранившийся до нашего времени, свидетельствует о том, что имущество монастыря постепенно неуклонно увеличивалось. В 1134 году епископ Меленский Манассес выделил несколько десятин в его диоцезе, на «облегчение, хотя бы частичное, крайней нищеты бедных служительниц Христа, благочестиво служащих ему в Параклете». Позднее, в 1140 году, как явствует из картулярия, монастырь был в больших долгах; однако уже 1 ноября 1147 года, когда папский легат в Шалоне от имени папы Евгения III подтвердил права Параклета на его имущество, он зачитал весьма внушительный список; как свойственно той эпохе, речь шла о множестве разнообразных привилегий монастыря: это право пользования лесами Куживо, Пуи, Марсильи и Шармуа, состоявшее не только в возможности пасти там стада, но и в возможности брать лес, необходимый для строительства; право получать пять су в качестве уплаты за пользование мостом в Бодемане; два сетье (то есть площадь, которую можно засеять двумя сетье зерна) во владениях Готье де Курсемена; двенадцать денье из чинша (поземельного оброка), выплачиваемого за пастбища Тьерри Гоэреля; один мюи овса и двадцать куриц, что жертвует Маргарита, виконтесса де Мароль и прочее. Имелись и более существенные пожертвования: мельница, дом, виноградники и луга, обрабатываемые поля, составлявшие довольно обширные владения.
Покровители монахинь из Параклета были люди очень и очень влиятельные, например сам граф Шампани Тибо даровал им ежегодно по одному мюи пшеницы, рыбу со своих рыбных промыслов около мельниц у Пон-сюр-Сен, а также шестнадцать сетье, засевавшихся злаками, около Мулен-де-л’Этан. Множество мелких владетельных сеньоров-рыцарей поспособствовали обогащению и процветанию монастыря своими пожертвованиями подобно некоему Арпену из Мери-сюр-Сен и неким Феликсу или Эмэ, а также тем безымянным, которых просто обозначили под понятием «множество» без дальнейших пояснений; многие простолюдины подобно жене Пайена-седельщика пожертвовали монастырю свое имущество: дом в Провене и три су поземельного оброка в Лизине. Похоже, что монахиням из Параклета благоволили, так сказать, и церковники: среди даров, ими полученных, есть, к примеру, дар архиепископа Сансского Генриха (у которого было весьма примечательное прозвище «Sanglier», каковое можно перевести, как «кабан», «нелюдим», «бирюк»), так вот, он даровал Параклету свою десятину в Лизине и часть десятины в Кюшармуа; архиепископ Труаский Аттон даровал сестрам во Христе половину своей десятины в Сент-Обене, а также половину свечей в день Сретения Господня (2 февраля); следуя примеру этих иерархов Церкви, многие священнослужители делали пожертвования монастырю, их имена значатся в списке донаторов: среди них Гондри из Тренеля, пожертвовавший участок, унаследованный от отца, а также священник из Периньи-ла-Роз по имени Пьер, пожертвовавший дом и виноградник.
Некоторыми приобретениями или пожертвованиями Параклет был обязан женщинам, принявшим в нем постриг. Так, некий Талон и его жена Аделаида подарили Параклету половину мельницы в Кревкере и виноградники, а также поземельный налог в размере сорока су, собранный то ли в Провене, то ли в Лизине; произошло это в 1133 году, когда Гермелина, сестра Аделаиды, дала в Параклете монашеский обет; очевидно, что монастырь начал пополняться монахинями за счет местных женщин; еще одну десятину даровали Параклету рыцарь Рауль Жельяк и его жена Элизабет, когда монашеское покрывало надела на себя одна из их племянниц.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что Элоиза управляла монастырем превосходно; она была аббатисой бдительной, предусмотрительной и прозорливой, неустанно заботилась о благе и доброй славе своего монастыря, и вскоре этот монастырь, основанный в столь неблагоприятных условиях (ведь монахинями в нем стали те, кто был изгнан из своей прежней обители), стал пользоваться всеобщим уважением и милостями высокопоставленных особ. Сам король Людовик VI облагодетельствовал Параклет своими дарами. Не следует упрекать Абеляра в преувеличении, когда он описывает быстрый подъем Параклета.
«Господь соблаговолил даровать нашей дорогой сестре, возглавлявшей сообщество сестер, свою милость, способствовавшую тому, что она обрела благорасположение всех. Епископы любили ее как дочь, аббаты — как сестру, миряне — как свою мать; все равно восхищались ее благочестием, ее мудростью, ее несравненным терпением и ее мягкостью. Чем реже она показывалась на люди, уединившись в своей келье, чтобы погрузиться в размышления и молитвы, с тем большим пылом все жаждали видеть ее и выслушивать ее наставления».
Упоминание о том, что «все жаждали видеть ее и выслушивать ее наставления» означает, что в Параклете в ту эпоху, как и во всяком монастыре, принимали посетителей; это могли быть бедняки-просители, паломники или бродяги, — встречать их должна была монахиня-привратница, она же распределяла среди них милостыню, однако ноги мыть им приходили аббатиса или другие сестры; посещали монастырь и местные жители, а также время от времени наезжали туда священнослужители и иерархи Церкви.
Однажды весь монастырь пришел в большое волнение: сам Бернар Клервоский известил аббатису о своем скором приезде. Он был там принят не как простой смертный, а как «ангел небесный»; он, несомненно, провел в монастыре целый день, к великой радости монахинь, жаждавших услышать его поучения. Вероятно, одна деталь сильно поразила Бернара: не без удивления он услышал, как монахини Параклета читали «Отче наш»: вместо того, чтобы говорить «хлеб наш насущный дай нам на сей день», в Параклете произносили: «хлеб наш сверхсущий дай нам сегодня». Изумленный таким выражением Бернар расспросил аббатису, почему они говорят не так, как принято, и Элоиза, несомненно, должна была сказать ему в ответ, что подобная формулировка усвоена ими от Абеляра. Бернар, казалось, удовольствовался таким ответом и дальнейших последствий этот вопрос вроде бы не повлек.
Но некоторое время спустя Абеляр сам посетил монастырь, и Элоиза ему конфиденциально сообщила, что аббат Клерво, как ей показалось, был удивлен тем, что монахини Параклета нарушают общепринятую традицию. Абеляр тотчас же взялся за перо. Тон письма, адресованного Абеляром Бернару Клервоскому, был, как это ни странно, довольно резок. Впрочем, начиналось письмо достаточно почтительно: «Подумав, что сей обычай происходит от меня, вы могли счесть меня зачинщиком некоего новшества; и я решил написать вам и разъяснить мои доводы на сей счет, будучи крайне раздосадован на себя за то, что вопреки своей воле хоть чем-то задел и обидел вас, и пенял бы себе из-за вас более, чем из-за кого бы то ни было», но далее тон послания меняется. Абеляр указывает на источник, откуда он почерпнул это выражение, а также приводит и аргумент в пользу этого новшества. Он указывает на то, что святой Григорий Великий, Григорий VII, подчеркивал, что Господь сказал: «Я есмь истина», а не: «Я есмь обычай». Затем, все более распаляясь, Абеляр не без горячности принялся упрекать аббата Клерво в том, что тот и сам в каком-то смысле является новатором: «Вы тоже вопреки обычаю, бытующему как среди клириков, так и среди монахов, издавна и по сей день стали проводить богослужения у вас в монастыре по-новому, в соответствии с новыми положениями, и вы из-за этого не считаете себя виновным, преступником… Если говорить о том, какие обычаи вы нарушили, то позвольте напомнить вам, что вы пренебрегли теми гимнами, что принято исполнять при богослужениях, и ввели такие, коих мы прежде никогда не слышали и каковые были неведомы почти во всех церквях… Поразительная вещь: тогда как вы посвятили все ваши молельни памяти Богоматери, вы, однако же, не отмечаете в них торжественными службами ни один из ее праздников и ни один из дней иных святых. Вы почти исключили из вашей практики столь почитаемый обычай проводить торжественные процессии. Вы не только продолжаете петь „аллилуйя“ во время службы в первое из трех воскресений до Великого поста вопреки обычаю, бытующему в лоне Церкви, но в вашем монастыре „аллилуйя“ поют и в дни Великого поста!»
Затем Абеляр принимается требовать и для себя права вводить всяческие новшества: «Действительно, Тот, Кто хотел, чтобы Его прославляли на всех языках, Тот желал и почитал необходимым, чтобы Ему служили различными способами и путем различных богослужений поклонялись Ему… Я не пытаюсь никого уверить в том, что надобно следовать в этом моему примеру… Что касается меня, то я буду сохранять эти слова в неизменном виде, а также их смысл столько, сколько будет в моих силах».
Мы не располагаем никакими сведениями о том, что Бернар ответил на это письмо, в котором, кстати, не содержится ни одного намека на полемику, завязавшуюся между этими двумя выдающимися деятелями Церкви; вероятно, письмо это было написано некоторое время спустя после их первой встречи, когда Бернар и Абеляр — аббаты двух монастырей — присутствовали 20 января 1131 года на освящении папой Иннокентием II главного алтаря в соборе в Мориньи.
Но если рассматривать это письмо на фоне всей истории жизни Абеляра, письмо, так и оставшееся без ответа, письмо, в котором он сам первый открыл огонь по возможному противнику и в котором он явно кое-что преувеличил, хотя, по сути, повод для столь яростной атаки был в общем-то ничтожный, то можно сказать, что это послание выглядит своеобразной прелюдией к более острой и гораздо более серьезной полемике.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |