"Назым Хикмет" - читать интересную книгу автора (Радий Геннадиевич Фиш)
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум
 |
Желтое, налитое соками близкой осени утро предвещало томительно-душный, тягучий день. Он стоял у окна.
На далеком-далеком склоне ползли два вола, впряженные в арбу. Как, должно быть, скрипят эти сплошные деревянные колеса! Не скрипят, а плачут навзрыд…
Всю ночь в голос рыдали арбы под окнами дома терпимости в Кастамону, первом городе внутренней Анатолии, который они увидели с Валей Нуреддином в конце января 1921 года.
Трое суток они шли пешком вместе с группой отставных офицеров, бежавших из Стамбула к Мустафе Кемалю. Их вещи, весьма немногочисленные, были погружены на мула, погонщик родом из Кастамону взял за это с каждого по две лиры.
Первый день шли все в гору да в гору по рыхлому талому снегу. Когда ведущий уставал, менялись — протаптывать тропу было нелегко. Особенно им, стамбульским мальчикам.
Ночевали в деревнях. В каждой деревне комнаты для гостей содержали всем мусульманским миром. Денег с постояльцев не брали, гость — божий человек.
Газеты сюда не приходили, а о радио не имели понятия. Путники были единственными источниками новостей. Узнав, что прибыли беженцы из Стамбула, крестьяне набивались в странноприимный дом, усаживались, поджав под себя ноги, на земляном полу.
Каждый входящий здоровался со всеми низким поклоном. Протягивал свой кисет: «Закуривайте моего!» Потом задавал те же самые вопросы: «Где гяурские войска? Что в Стамбуле? Когда конец войне?»
Угощение, тоже бесплатное, состояло из серых лепешек и мучной баланды на воде.
С 1911 года непрерывно отдавала деревня свою кровь на триполитанскую, две балканские, первую мировую и теперь национально-освободительную войну. Народ истощал, обмельчал. Мужчин в деревне можно было по пальцам пересчитать.
Дома в этих горных краях, как у озерных людей, стояли на сваях. Но не над водой, над землей. За годы войн без мужчин сваи подгнили, дома осели, крыши прохудились… Горечь, такая горечь, черт побери!..
На четвертый день пришли в Кастамону, остановились в гостинице. Прежде чем отправиться дальше, нужно было передохнуть.
Кастамону славится красивыми женщинами. И сифилисом.
Молодежь, узнав о прибытии двух стамбульских поэтов, решила после шумного обеда «угостить» их знаменитым домом терпимости. Чтобы не обижать хозяев, пошли.
Дом помещался под скалой, на окраине. Полуразвалившийся, деревянный, двухэтажный. Но дверь дубовая, крепкая. Открыли им не сразу — сначала через глазок убедились кто.
Поднялись на второй этаж. Пол из струганых досок. По стенам, как башни, — горы матрацев, одеял, подушек. Связки лука, чеснока, корзины с овощами и фруктами подвешены прямо к потолку на крюках.
Вдоль и поперек всей залы под потолком — проволока, как в бурсской тюрьме в коридоре для свиданий, только на проволоках растягивались не черные, а белые занавеси. Из занавесок образовывались кабины — десять, двенадцать. В каждой расстилалась постель.
А женщины, бог мой, что за женщины! Назыму было восемнадцать, Вале — девятнадцать. И потому раскрашенные, размалеванные женщины казались им все до одной старухами. Ведьмами. Тогда были модны густые, сходящиеся на переносице брови.
Все они нарисовали себе именно такие. На щеках, на руках фальшивые родинки. Руки крашены хной, словно залиты йодом.
Грубые шутки хозяйка пресекала, — как-никак в заведение пожаловали благовоспитанные господа.
Им принесли по чашке ячменного кофе. Женщины своими руками свернули по толстой самокрутке. До половины заклеили ее своей слюной и протянули им, чтоб край скрепили языком сами.
Они сидели молча, подавленные. А за окном по дороге скрипели и скрипели арбы.
Переглянувшись, они поднялись. Сославшись на усталость, обещали зайти как-нибудь в другой раз.
По дороге при свете яркой луны, игравшей на потных спинах тощих быков, арбы под охраной солдат везли из голодных, нищих деревень продовольствие для повстанческой армии. За арбами шли женщины. Босые, с младенцами за спиной. Одна положила спеленатого ребенка на арбу рядом с отливающими синевой снарядами. Горечь, черт побери, такая горечь…
До утра скрипели под окнами их комнаты в гостинице крестьянские арбы на сплошных деревянных колесах…
С далекого, освещенного солнцем склона, по которому ползла арба, скрип не долетал. Или ветер относил его в сторону, или гул тюрьмы заглушал все звуки. А может, просто до той арбы очень далеко, — утренний воздух, чистый и прозрачный, приближал далекие предметы, как увеличительное стекло.
По дороге, теряющейся среди садов, шла девушка с дорожной сумой — наверное, несла гостинцы в деревню. Завтра праздник. Самый большой мусульманский праздник — курбан-байрам. Жертвенные бараны, уже окрашенные синей, рыжей, красной краской, доживают последние часы. Во всех домах чистота, благолепие. Женщины с тряпкой в руках, словно художники, оглядывающие в последний раз свое творение, наносят последние мазки. Завтра праздник — их последний праздник вместе с Рашидом: осенью он выходит. В Адане, на самом юге, ждет жена. Три с половиной года. А ему, Назыму, сидеть еще двадцать три…
Самые веселые, радостные дни в тюрьме — дни свиданий и праздник. Пожалуй, праздник даже веселей: на свиданья приходят не ко всем, а праздник для всех праздник.
— Пошли!
Они выходят вместе с Рашидом в коридор. Из коридора по лестнице на майдан. Надзиратели отпирают и запирают за ними Железные двери.
Они входят в парикмахерскую. Надо привести себя в порядок. Завтра праздник. Все наряжаются как могут. Даже в камере голых стараются нацепить какую-нибудь обновку или по крайней мере выстирать черный от грязи мешок, который служит одновременно и костюмом, и рубашкой, и одеялом, и пальто. Хорошо, что курбан-байрам в этом году пришелся на лето — можно ночью несколько часов, пока высохнет мешок, просидеть в чем мать родила…
— С наступающим вас, ребята! Да будет острым ваш глаз и ваша бритва!
— С праздником!
— Счастья тебе, отец!
— Спаси аллах! Дай силы!
Кроме них с Рашидом, в парикмахерской четверо. Старый седой мастер, его подмастерье — длинный крестьянский парень с птичьим лицом. И два клиента на табуретках.
Тот, что сидит перед подмастерьем, кажется, из камеры голых. Так и сияет в предвкушении праздника: сигареты положат по обычаю в общий котел — накурится за весь год досыта, и наестся — из камеры в камеру пойдут с поздравлениями да угощениями, накормят голых до отвала.
Еще и тем праздники хороши, что в эти дни никого не надо бояться. Картежники, торговцы опиумом, паханы, их люди, готовые в обычное время утопить друг друга в ложке воды, в праздники замиряются. Или по крайней мере не подымают друг на друга руку. «Как-никак все мы братья по вере».
Триста шестьдесят два дня враги, а три дня в году — братья! — усмехнулся про себя Назым, садясь рядом с Рашидом на скамью в ожидании своей очереди. — И все-таки огромная сила — идея. Даже изжившая себя, такая, как вера в бога, если она становится народной… Пусть три дня в году, но люди чувствуют себя равными. Жалеют друг друга, или, вернее, себя в других — «все мы смертны»…
Равенство перед смертью? Ложь… «Умрем мы, как и рождаемся, одинокими и голыми»… Нет, умрем, кто как жил… Жизнь — пространство для выявления человеческих возможностей и способностей… «Я все думал, что учусь жить, а оказывается, учился достойно умереть». Достойно умереть — не значит ли исчерпать до конца свои возможности и способности человека?..
Три дня будут жить по-человечески. Что-то вроде коммуны… Если раскопать кучу религиозного навоза, в каждой вере у каждого народа одно и то же рациональное зерно. Утопический социализм — христианский, мусульманский, буддийский… Мечта о братстве людей… Через века, сквозь все наслоения донесена эта мечта… Вот вам и праздник!..
Как странно глядит на него в зеркале этот подмастерье! Без улыбки. Строго. Кажется, не ответил даже на приветствие…
Они медленно двигались в колонне к Красной площади. В его руке рука Лели Юрченко. Вокруг люди, флаги, портреты, песни. Турки поют «Первомайский марш». Мелодия русская, а слова его, Назыма, и он счастлив. Леля поет с ним по-турецки. Выучила слова…
Где-то чуть пониже Моссовета колонна КУТВа останавливается. Танцуют «Шамиля». Странный это танец: изображает намаз — молитву Шамиля перед боем. По преданию, шейх Шамиль, выходя на бой с царскими войсками, каждый раз обращался к аллаху за помощью. Парень в кругу изображает бой: становится на носки, вертится, как молния, в руках кинжал.
При всем уважении к героизму Шамиля Назым не любил этот танец. Он напоминал о делении людей на «неверных» и «верных» богу. Не братство в боге, а братство в революции, которая должна уничтожить все, что разделяет людей, — веры, нации, расы, классы, — для этого они приехали в Москву, все его друзья, товарищи по КУТВу. И Первое мая было праздником их нового всечеловеческого братства.
— Гляди, наши пекари! — толкнул его в бок Шевкёт Сурейя.
На одной из боковых улиц в колонне демонстрантов, ожидающих, когда настанет их черед влиться в главный поток, в башлыках и шароварах-зыпка, обвислых на заду и стянутых у голени, под красными знаменами стояли турецкие мастеровые с Черноморского побережья. Пекари и кондитеры, они славились по всей Европе. Ценили их и в Москве в бывших пекарнях Филиппова.
На их красных флагах — звезда с полумесяцем. Лозунги на транспарантах написаны по-турецки арабскими буквами.
Китайские студенты тоже увидели своих соотечественников: множество их работало в прачечных Москвы. Назым заметил неподалеку Эми Сяо. Пристально, не отрываясь смотрел он на колонну своих земляков.
На нем была косоворотка. А когда Назым познакомился с ним, он был одет, как буржуа на плакатах, висевших по всему городу, — котелок, тройка в полоску, крахмальная рубашка со стоячим воротничком. Эми Сяо только что приехал из Парижа. Рассказывал, что часами мог стоять в Лувре перед «Джиокондой» Леонардо да Винчи — «влюбился».
Пришлось этому утонченному поэту, совместившему в себе древнюю китайскую культуру с западной, сменить одежку — мальчишки на улицах не давали ему прохода. Впрочем, у Эми Сяо был слишком хороший вкус, чтобы выделяться своей одеждой.
Рядом с ним Назым заметил Аннушку. Она крепко держала его за руку, словно боялась потерять. Через несколько месяцев Эми Сяо должен был вернуться в Китай. Назыма так и подмывало спросить, забыл ли он свою любовь к Джиоконде?
Эми Сяо перехватил его взгляд, помахал рукой. Колонна тронулась…
…И хорошо, что не спросил. В двадцать восьмом году в Стамбуле он узнал, что Эми Сяо погиб. Чанкайшисты отрубили ему голову. Топором. На площади. Он вспомнил этот день Первого мая на Тверской и много других дней. И написал свою первую поэму — «Джиоконда и Си-яу».
Вместе с флорентийкой Джиокондой, «чья улыбка знаменитей Флоренции самой», Назым на крыльях воображения прилетел в Китай, чтобы спасти своего друга, помочь китайской революции. Что он мог еще сделать?..
Они опоздали. Но
Истинное искусство — всегда революция. Во имя человека. Оно опасно для того, кто думает превратить человека в орудие, для того, кто видит в человеке не цель, а средство… В поэме палачи сжигают Джиоконду. Но не могут сжечь ее улыбки…
Еще через десять лет в стамбульской тюрьме узнал он, что известие о казни Эми Сяо было ложным. Может быть, они еще и встретятся? Если только стены эти раздвинутся раньше, чем лопнет прессформа его грудной клетки…
…В колонне демонстрантов на подходе к гостинице «Националь» вдруг возникло какое-то замешательство. Впереди турок шли японские студенты. Крик, вопли по-японски, короткая схватка, и порядок снова восстановлен. Они ничего не успели понять — только видели, как трое милиционеров что-то уносят.
Оказалось, японские студенты заметили, что их снимают из-за угла. И узнали в «фотографе» агента своей политической полиции.
Большинство японцев приехало в Москву нелегально. Недолго думая, они разнесли на куски фотоаппарат и заодно, быть может, его владельца… Назым спросил у товарищей. «Так, потрепали немножко!»
Нет, это происшествие не омрачило им праздник…
Подмастерье побрил клиента из камеры голых. Помыл бритву в тазике. Принялся за стрижку. Голова была косматая, как у медведя. И вшивая.
Время от времени дирекция издавала приказы — всех постричь наголо. Но волосы росли у заключенных постоянно, а рвение начальства зависело от приближения инспекции.
Подмастерье и в самом деле глядел на Назыма как-то странно. Отворачивался, когда встречался с ним в зеркале глазами, словно был зол или обижен на него. Потом исподтишка наблюдал за ним… Может быть, какой-нибудь Хамди-ага тоже нанял его для мокрого дела? Парень, кажется, действительно сидел за убийство. И лицо знакомое… Нет, на наемного убийцу он не похож… Впрочем, кто их знает!.. В первые годы заключения нелегко было ему понимать арестантов-крестьян: когда они обижаются, когда сердятся, не сразу угадывал. Загадочные созданья — как рыбы, живущие в море, ничего не зная о море, закрытые, словно устрицы. И вдруг — величие. Теперь-то он знал их вот так!..
В двадцать первом году в Кастамону он впервые увидел, как вешают человека. Это был крестьянин. Молодой парень, чем-то похожий на этого подмастерья. Он дезертировал из армии Мустафы Кемаля.
Словно мало было бесконечных войн, рекрутских наборов — объявили еще одну мобилизацию. Что мог знать тот крестьянский парень о войне за независимость? Опасность его родному селу не грозила, а за чужие села да за какую-то неведомую власть идти воевать, когда горы полны дезертиров, убежавших от власти самого падишаха? Ищите дураков!.. Кто мог, кто хотел ему растолковать, что на сей раз война другая? Издавна было известно единственное средство — страх. Наказать одного, чтоб другим неповадно было.
Этим занялись «суды независимости» — судейские тройки, Учрежденные Мустафой Кемалем по всей Анатолии. Работала такая тройка и в Кастамону.
Они с Валей вошли в здание школы, За учительским столом — господин в высокой папахе. На стене надпись: «Суд независимости не страшится никого, кроме аллаха». По бокам от папахи — два члена тройки. Класс полон народу — стоят и рядом с судьями и позади, так что кто там судьи, кто зрители, не сразу разберешь. Жандармы, расталкивая толпу, привели высокого худого парня в феске. На ногах у него были яркие красные туфли с загнутым носком и без задника. Тихий, скромный, благовоспитанный крестьянский сын. Судья в папахе спросил:
— Бежал?
— Бежал.
Папаха склонилась вправо, пошепталась. Склонилась влево, пошепталась и объявила:
— Смерть!
Приговор «судов независимости» обжалованию не подлежал. Парня вывели и тут же повесили на площади…
Назым был потрясен. Да, он писал стихи о любви к родине. О том, что всем ее врагам не сносить головы. Но этот парень, был ли он ее врагом? И потом, так запросто повесить человека в назидание другим? Все-таки человеческая голова не репка в огороде, чтоб ее взять и оборвать… Темный, неграмотный крестьянский парень — это одно, шпик тайной полиции с фотоаппаратом — совсем другое…
Быть может, именно с того дня, еще не до конца сознавая это, он решил научиться разговаривать с крестьянином и в поэзии и в жизни. Не только понимать его, но и убеждать…
Все-таки взгляд подмастерья беспокоил его. Что-то в нем было необычное, непонятное…
Парикмахерский подмастерье Ибрагим действительно был зол на Назыма. Впервые он встретился с ним в том самом 1940 году, что и Рашид, в этой же самой бурсской тюрьме.
Ибрагим в семнадцать лет вместе с четырьмя односельчанами отправился продавать табак. По закону весь урожай надо было сдавать государственной монополии. Но сколько она платит?.. Ночью в горах их окружили жандармы. И за контрабанду посадили в тюрьму. Ибрагиму, как несовершеннолетнему, дали меньше всех. В тюрьме Назым написал его портрет. Среди многих других…
Осенью сорок второго года Ибрагим снова оказался в бурсской тюрьме. Вернувшись в родную деревню, убил своего односельчанина, с которым вместе сидел за контрабанду. Когда Ибрагиму выбрали невесту, тот решил силой ее отнять. Пришел к дому Ибрагима с пистолетом в руке: «Выходи, коли ты мужчина». Два выстрела прогремели в темноте одновременно…
На сей раз Ибрагиму из деревни Сеч предстояло провести в тюрьме целых десять лет. Многих арестантов, с которыми Ибрагим сидел в первый раз, уже давно освободили. Одни успели щениться, стать отцами, другие отошли в мир иной. А Назым все сидел в той же камере. И еще четырнадцать лет должен был сидеть после того, как выйдет на волю Ибрагим во второй раз.
В ночь под новый, сорок третий год узнал Ибрагим, что родственники убитого убили его отца Хасана-чавуша. Дома остались одни женщины. Мог ли он просить у них передачи?.. Надо было как-то зарабатывать на приварок.
Ибрагим рисовал портреты заключенных. Рисовал точно так же, как полтора года назад делал это, рисуя его собственный портрет, Назым. Ибрагим тогда следил за каждым его движением. Но Назыму ничего не сказал: знал обычаи мастеров. Тайно перенять их мастерство — хуже воровства. Другое дело, если б он поступил в подмастерья, платил за ученье почтением, деньгами, трудом. А так, подглядеть, как мастер работает, и потом повторять его приемы… Главное, что у Ибрагима получалось неплохо. По крайней мере в камере все считали, что его портреты похожи на оригиналы… Надо было бы сразу попроситься к Назыму в ученики. Но тогда он не решился: кто он такой, чтобы стать учеником великого поэта, он, Ибрагим, полуграмотный парень из деревни? Назым просто прогнал бы его прочь…
Ибрагим уверовал в это еще крепче после недавней встречи с ним у дверей начальника тюрьмы.
Это случилось после того, как он узнал о смерти своего отца Хасана-чавуша. На воле Ибрагим заработал бы себе на кусок хлеба — он умел пахать и сеять, жать, молотить, пасти скот. А в этих четырех стенах, без передач с воли?.. Он хотел жить.
Как раз в эти дни освободилось место подмастерья у одного из парикмахеров. Вот бы научиться брить да стричь: верный хлеб. Но не каждому в тюрьме разрешают эту работу. Тем более тем, кто сидит за убийство: у парикмахера в руке бритва. Нужно специальное позволение начальника.
Ибрагим отправился за позволением. Но никак не мог набраться смелости постучать в кабинет. Шутка ли, откажет начальник — и смерть Ибрагиму… Ходил взад-вперед у двери. Туда и обратно вдоль коридора. Все никак рука не поднималась. Подойдет, остановится и снова отходит.
И тут он увидел Назыма.
— Отец Назым, уста!
— Что тебе, сынок?
— Я Ибрагим, из деревни Сеч… Помнишь, рисовал меня?..
— Помню, помню.
— Признал, значит?
— Узнал, узнал.
— Хочу стать парикмахером…
— Прекрасно, стань, сынок!
— Но я слов не знаю, говорить не умею.
— Разве парикмахеру нужно уметь говорить?
— Хотел попросить разрешения у начальника… То есть я не умею просить. Попроси за меня, ладно? Ты говорить умеешь… Попроси за меня, тебе начальник не откажет…
— Карандаш у тебя есть? Дай, пожалуйста!
Назым взял карандаш, прошелся взад-вперед по коридору. Встал лицом к стене, что-то написал. Ибрагим решил — его прошение.
— Почему не на бумаге пишешь, отец? Как же будешь говорить?
— Что?.. Кому говорить?
— Ты же собирался сказать начальнику, чтоб мне разрешили стать парикмахером?
— А ты сам отчего не попросишь?
— Не умею…
— И уметь нечего… Прямо так скажешь все, что сказал мне…
Ибрагим остолбенел. Как он любил этого человека! И именно он не захотел за него вступиться. Ведь каждому встречному-поперечному пишет прошения. А еще великий поэт, добрый человек!..
Обида была страшная. Ибрагиму все сделалось безразлично. Он постучал в дверь.
Не знал он, что когда Назым слагает стихи, то ничего вокруг не слышит, не видит. Отвечает машинально, ничего не понимая, и говорить с ним бесполезно…
Сидя на скамейке в парикмахерской, Назым вспомнил имя подмастерья. Встал за его спиной. Подмастерье не обернулся.
— Послушай, Ибрагим, я хочу тебя нарисовать. Вот таким, как ты в зеркале.
— Больше тебе рисовать не дамся!
— Отчего, сынок? Отчего, дитя мое? Ведь я уже рисовал тебя…
Сказать «я на тебя обижен» у парня не повернулся язык.
— Я сам рисую, вот почему!
Назым успокоился.
— Значит, эти рисунки вокруг зеркала ты сделал?
— Я.
— А меня нарисуешь?
— Нарисую, конечно. Садись напротив.
— Прекрасно, сынок, вот я сижу… Только бумага у тебя не белая и карандаш твердый.
— Пусть, ты только сиди.
И крестьянин Ибрагим Балабан из деревни Сеч под Бурсой принялся за портрет Назыма Хикмета…
Через много лет Ибрагим Балабан вспоминал этот день так: «Зерно, прикоснувшись к земле, оплодотворяет ее. Лопается зерно, лопается милое. Так и цвет для моих глаз… Сегодня у меня гость, ни на кого не похож. Кисти довольны, краски празднуют. Алая — невеста невестой. Желтая — солнечный свет. Голубая — море. Сегодня у меня гость. Красная поцеловала его щеки. Желтая погладила волосы. Голубая — морем разлилась в глазах. Я рисую портрет — в моих глазах краски… Рост — невысокий. Лицо — улыбчивое. Глаза — голубое море. Волосы — солнечный свет. Удивился гость».
— Работает, ну точно как я, и карандаш так же держит. И насвистывает… — Назым не выдержал, вскочил со скамейки. — Не верю своим глазам, ну-ка посмотрим на портрет!
— Еще не готов.
— Неважно, неважно. Дай-ка сюда…
— Хорошо, держи…
— Похоже! Да, это я.
— Похоже, значит?
— И как еще. Ну точно Назым Хикмет… Есть у тебя еще рисунки?
— Принести? Хочешь посмотреть?
— Ступай принеси!
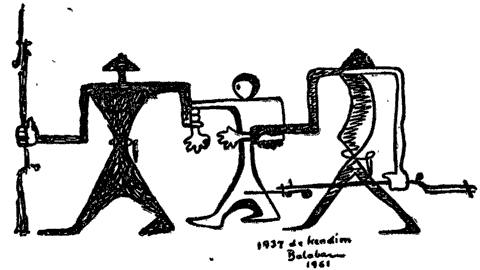 |
Рисунок Ибрагима Балабана «Я сам в 1937 году».
Не чуя под собой ног, Ибрагим помчался в свою камеру. Схватил толстую книгу по истории — на пустых страницах делал он в ней свои рисунки.
Запыхавшись, примчался в парикмахерскую. Назыма там уже не было. Ибрагим прибежал к нему в камеру:
— Вот, принес.
— Где же рисунки?
— В книге.
Назым, перелистывая книгу, стал смотреть.
— Ты учился живописи?
— Нет.
— Кончал лицей?
— Нет.
— Среднюю школу?
— Нет.
— Начальную?
— Три класса.
— Отчего дальше не учился?
— У нас в деревне только трехклассная школа.
Назым вскочил, заходил по камере.
— А эта книга по истории чья?
— Моя.
— Прочел?
— Прочел.
— Понял?
— Да.
Назым умолк. Продолжая ходить по камере, поглядел через решетки на волю. На небе показалось огромное белое облако — как горы слоеного творога. Ибрагим проследил за его взглядом… Потом перевел глаза на гвоздику в горшке. Потом на книги. Сколько их было в этой камере! Ибрагим никогда не видел столько книг сразу — штук двадцать, не меньше!
Назым зашагал быстрее, словно не было перед ним стен. Но стены были, и, наталкиваясь на них, он поворачивал обратно…
Вот крестьянский парень. Нищий. Убийца. Три класса — не школа. А хочет учиться. Выучился рисовать.
— Где же ты научился рисовать?
— У тебя научился.
— У меня? Как так, я ведь тебя не учил!
— Но мой портрет рисовал?..
— Ну и что?
— Взял кисть и вот так держал ее напротив полотна, напротив меня. Вот так…
— Да, так…
— А потом вот так… И свистел…
Назым обнял Ибрагима, расцеловал его. Ибрагим и сам не понял, отчего на глазах у него выступили слезы. И вдруг стало легко, словно вырвали ноющий больной зуб…
Назым ходил по камере. Ибрагим следил за его шагами… Перед ним был поэт, как Ферхад, прорубивший гору, как легендарный герой Кёроглу, великий человек, и он занимается им, его рисунками… Если б только позвал к себе в подмастерья… Но кто он такой — нищий, темный парень из деревни…
Назым ходил по камере… Чертовски талантливы бывают эти дикие крестьянские дети! Вот один из них, из гениев, заживо погребенных в невежестве и нищете. Помочь ему, но как?.. Легко любить народ, писать о нем оды. Куда трудней любить Ибрагима из деревни Сеч, вот этого самого парикмахерского подмастерья, контрабандиста и убийцу своего земляка… А он ли виноват в том, что он дик, что убил?..
Назым остановился. Ибрагим глядел на него, не спуская глаз. Как глядят на отца, на любимую.
Назым снова обнял его:
— Сын мой!
Они сели друг против друга… Мать Ибрагима была лучшей в деревне мастерицей. Целыми днями, бывало, мог он мальчишкой смотреть, как она вышивает. Долго упрашивал мать, прежде чем она дала ему пяльцы. Его первый орнамент удивил ее: «Тебе бы девкой родиться, сынок!..» Потом в деревенской школе задали нарисовать ишака. Учитель всем показывал его рисунок: «Вот как надо рисовать ишака!..» В одиннадцать лет, как все деревенские дети, Ибрагим пошел работать в поле. Но стоило попасться в руки клочку бумаги, рисовал, что видел, — птицу, волка, тучу, дерево, соху… Если б этот великий человек взял его к себе в подмастерья, если бы только взял…
— Когда выйдешь на волю, что будешь делать?
— Рисовать. Хочу рисовать. Скажи, что для этого нужно?
— А в деревню вернешься?
— Вернусь.
— А убийцу отца убьешь?.. Один из твоих земляков мне сказал: как только вернется в деревню Ибрагим, сразу прикончит убийцу отца… Тебя снова посадят. И ничего из тебя не выйдет. А станешь художником, отец будет жить. В каждой твоей картине. Скажут: это сын Хасана-чавуша нарисовал. Дай слово, что не станешь убивать…
…Дверь шестьдесят девятой камеры распахнулась с грохотом.
— Что такое? Напугал нас, Ибрагим! Кто так входит в камеру, болван!
— Ура, я стал подмастерьем! Ура!..
…Три раза в неделю стриг и брил Ибрагим заключенных. А три дня работал теперь как подмастерье у мастера — мыл кисти, готовил холсты, смешивал краски. Чем еще он мог отплатить за ученье? И каждый день рисовал портрет одного из соседей по камере. Карандашом.
Прошёл месяц. Стояла жаркая, душная тюремная осень. Под вечер Ибрагим, как открывают дверь класса, открыл дверь назымовской камеры. И остановился на пороге.
— Заходи, заходи, показывай, что у тебя?
— Пожалуйста, посмотри новый рисунок. Назым взял рисунок.
— С графикой у тебя неплохо.
— А что такое графика?
— Рисунок линиями, карандашом или пером… Кажется, я знаю этого парня… Лихой. Как зовут его?
— Осман Халач из деревни Богаз.
— Верно, глаза у Османа точно такие… Я ему протест в прокуратуру написал… Помню его дело… И нос точно такой у него. Совсем не драчливый. А рот, погляди, какой рот! Как нож без рукояти!
— Как нож без рукояти?
— Ну да. Кулацкий сынок застал сестру Османа в поле и изнасиловал. Как, по-твоему, что оставалось Осману?
— Прикончить мерзавца.
— Он его и прикончил. А иначе что бы ему делать в тюрьме? Дали Осману восемнадцать лет. Я написал протест. В высшей инстанции отменили приговор. Суд снизил наказание до двенадцати…
— Верно, так оно и было. Осман мне говорил… Он так тебя любит…
— Вернемся, однако, к портрету. Зачем ты рисуешь?
— Чтоб рисовать еще лучше.
— Будешь рисовать еще лучше, а что из того?
— Прекрасный рисунок будет,
— А еще?
— А что еще? Не знаю.
— Удивительное дело, милый мой!..
Дверь камеры отворилась. Вошел Рашид. Усталый, запыленный, потный. Только что вернулся с работы — дробил камни на дороге. Поглядел на рисунок.
— Ибрагим рисовал?
— Да, он. Прекрасно стал рисовать, а зачем — не знает. Что ты на это скажешь, Рашид?
— Откуда ему знать? Разве я знал, зачем пишу? Погоди, придет время, узнает и он.
— Конечно, узнает. Если так дальше пойдет, из парня толк будет. Станет примером для всей деревни…
Ибрагим вернулся в камеру задумчивый. Его соседи по камере то же самое говорили: «Что рисуй, что не рисуй — все одно, толк-то какой?»
«Тьфу, да разве они понимают, что я не могу не рисовать?! Темный народ…»
Но и отец тоже спросил: «Для чего ты рисуешь?» Ответил: «Чтоб еще лучше рисовать». — «Ну и что из этого?»
«Тьфу ты, выходит, он то же самое спрашивал. Ну, хорошо, прекрасный рисунок можно повесить на стену. А что еще? Почем я знаю, что еще! Что-то в этом должно быть, наверное! Буду работать — найду. Я ведь только-только поступил в подмастерья — зеленый еще. А все-таки?»
Вот сидит Осман. Вот его портрет.
— А ну, Осман, сядь-ка напротив меня. Нос у тебя совсем не драчливый, не бедовый. Что это значит?
Осман расхохотался.
— Ничего у меня на носу не написано.
Не написано, это верно. Отчего же мастер так сказал?.. Вот что надо узнать, найти. «Рот — нож без рукояти». Это что значит? Нож, что значит нож?..
— Острый! Тонкий! Злой! — вдруг завопил Ибрагим во весь голос.
— Ты что, рехнулся?!
— Нет, пытаюсь найти…
— Что?
— Готово. Рехнулся!
— Готово, нашел! Нож, значит, что-то острое, тонкое. Рот у Османа как нож без рукояти — нате, глядите, — так и нарисован!
Камера хохотала до слез…
Все чаще ловил себя на мысли Назым, что видит в этом деревенском парне себя девятнадцатилетнего. Что, казалось, могло быть общего между внуком паши, учившимся в аристократическом лицее, и крестьянином из-под Бурсы, попавшим в тюрьму за убийство? А вот поди ж ты, оба они, кажется, начинали с одной и той же отправной точки, если только сердце можно назвать точкой…
«В любви нашел я исцеленье для сердец…» — писал Назым в четырнадцать лет. Пожалуй, это было не только данью литературной традиции…
…Он увидел себя пятилетним ребенком в дервишском плаще-хырка, в крошечных бабушах — туфельках без каблука, с загнутым кверху носком — входящим в мечеть впереди деда. То была знаменитая обитель ордена дервишей Мевлеви, основанная в Конье Джелялэддином. А дед его, Назым-паша, был губернатором Коньи… Впрочем, видел он себя пятилетним не по памяти, скорей, по рассказам домашних. В его памяти остался только цвет изразцов, покрывающих шатровый купол мечети, где погребен прах Мевляны. Удивительный цвет! Не то опрокинутое в море небо, не то отражение неба в морской воде. Да еще музыка и пенье до сих пор звучат в его ушах… Еретик был Джелялэддин, еретик — флейту, бубен, пенье и танец ввести в мечеть в XIII веке! Веке аллаха жестокого и сурового…
До самозабвения кружились под музыку дервиши. И миг забвения себя был мигом слияния с богом, что разлит в мире, как сок в ветвях дерева. «Халь» — так звался этот миг. Без памяти падали дервиши на пол мечети, и в сердце мира билось их сердце в этот миг. А пение — странные признанья в любви к истине, воплощенной в камне, в соловье, в человеке, признанья в мистической любви к аллаху, растворенному во вселенной, — пенье продолжалось: «Зашей глаза, пусть сердце станет глазом, и мир представится тебе совсем иным…»
Джелялэддин не первый на земле, но, пожалуй, сильнее многих других ощутил разрыв между должным и сущим, казенным, божеским и человеческим, личным, между головой и сердцем. И почуял запах разложенья: человек, превращенный в инструмент, перестает быть человеком.
Джелялэддин Руми отказывался принимать этот, как сказали бы мы ныне, феодальный мир, принимать и понимать его. В жизни тогдашней Анатолии, в империи сельджуков не было почвы, на которую мог бы он опереться в своем протесте. И, отказавшись от разума в пользу сердца, Джелялэддин создал утопию — нравственно-этическую утопию единения человека с миром, с другими людьми в мистической любви. Вот о чем говорили метафоры его стихов, метафора его культа сердца.
Всякая утопия, в сущности, есть метафора. И часто в утопии, рожденной на почве одной общественной формации, когда следующая формация снимает противоречия предыдущей, обнаруживается зерно истины, а научная общественная теория обнаруживает утопические черты. Чудаки утописты и мистики оказываются подчас мудрецами будущего, а мудрецы и ученые прошлого — утопистами.
«Или кажись тем, что ты есть, или будь тем, чем ты кажешься», — возглашал Джелялэддин Руми.
Не только сердце должно быть право, но и голова.
Последовавший за феодальным общественный строй, европейская буржуазная трезвость в качестве антитезы мистическому культу сердца: «Зашей глаза», противопоставили гипертрофию разума. Даже великий Робеспьер был рационалистом, нечеловечески сухим педантом. Мещанский убогий практицизм. В своем завершенном виде принял формы фашизма: все дозволено ради пользы и нет никакой нравственности, совесть и сердце — химеры.
Только эра социализма предвещает возможность полного, неразрывного слияния сердца и головы.
И в этом синтезе, наверное, равно важны и Восток и Запад. Восток, знающий все о человеке — от медицины до психологии — куда глубже Запада. И Запад, стремящийся познать все о мире, который его окружает, направивший свой взгляд не внутрь, а вовне. И если путь людей Востока к этому синтезу лежит через овладение научным аналитическим подходом к действительности — от себя к миру, то путь людей Запада — от мира внешнего к миру внутреннему. Нет, не случайно попытку превратить социализм из теории в живую реальность первой сделала страна, географически и духовно лежащая между Азией и Европой, страна, где он провел лучшие годы своей молодости, страна, куда привело его в поисках разума его сердце…
Выйдя из редакции «Сервети Фюнун», они шагали по горбатой мостовой. Позади осталось здание Высокой Порты — султанского правительства. На этой горбатой и кривой улочке Бабыали издавна помещались редакции и типографии — султан любил держать прессу у себя под рукой. Громко разговаривая, они миновали гробницу султана Махмуда и направились к колонне Константина, или, как ее называют стамбульцы, Закованной колонне. Установленная еще византийским императором Константином I, колонна во время грандиозных стамбульских пожаров обгорела, почернела и растрескалась. И султан Абдул Хамид I, опасаясь, что она рухнет, велел заковать ее в железные обручи. На площади, у подножья этой колонны, собиралась в многочисленных кофейнях литературная молодежь.
Стоял жаркий летний день 1920 года. Но они не замечали ни жары, ни безоблачно синего неба, ни древних камней, ни сверкающего меж домами Мраморного моря — все это окружало их с детства, изо дня в день. Они были взволнованы до чрезвычайности.
Оккупанты превратили султана в куклу, повиновавшуюся каждому мановению их пальца. Чтобы усидеть на престоле, он ставил свою печатку под любым их распоряжением. Антанта поручила греческой королевской армии навести порядок в непокорной Анатолии, и султан объявил вне закона повстанцев во главе с Мустафой Кемалем. Греческие армии продвигались в глубь страны, занимая один город за другим. Турции грозило окончательное порабощение.
И тут, как два призыва к молитве, раздались два смелых голоса. Поэт Сюлейман Назиф выступил на богословском факультете с лекцией-призывом к восстанию мусульман всего мира в защиту сердца ислама — Османской империи. И как бы в ответ ему прозвучал на митинге перед мечетью Султана Ахмеда непривычно тонкий, высокий голос другого оратора — женщины, голос писательницы Халиде Эдиб. На ней было черное головное покрывало, лицо закрыто. И среди толпы, колыхавшейся на площади, было много таких же покрывал — черное траурное море с кровавыми волнами красных фесок и белой пеной чалм и тюрбанов. Халиде Эдиб взывала к милости и благоразумию держав: уничтожение турецкой государственности, утверждала она, противоречит принципам президента Вильсона. Женщина подавала пример мужчинам. Это ли не национальный позор!
Вот о чем говорили они, юные литераторы, по дороге к Закованной колонне. В соответствии с тогдашней модой кисточки их отутюженных конусообразных фесок были откинуты назад, из-под сюртуков блистали белизной крахмальные манишки.
Лишь у одного, самого высокого, стройного, юноши феска была без кисточки и едва держалась на огненно-рыжей курчавой шевелюре, костюм — в пятнах и пепле. Ноги он ставил косолапо, носками внутрь и, самое странное, брил усы, что было чрезвычайной редкостью в тогдашнем Стамбуле, а вместо них носил пышные курчавые баки.
Он шел на шаг впереди остальных. Размахивал руками, то и дело оборачивался, говорил во весь голос, глядя собеседнику прямо в лицо, и при этом рубил ладонью воздух.
В свои семнадцать лет он был самым модным поэтом в тогдашних литературных салонах Стамбула.
Несмотря на небрежную внешность, а может быть, именно благодаря ей молодой поэт пользовался постоянным и благосклонным вниманием нежного пола: женщины тоньше и острей чувствовали скрытую в нем силу, казавшуюся сверстникам всего лишь неуравновешенностью. Не отказывая во взаимности, молодой поэт, однако, часто бывал с ними весьма нелюбезен. И с девушками и со старшими. Он держался независимо до грубости, говорил, что придет в голову, не обращая внимания, задевает ли это кого-либо из присутствующих. И только тем, кого уважал и любил, оказывал и внешние знаки почтения.
С легкой руки Яхьи Кемаля в литературной среде началось повальное увлечение «эпохой тюльпанов», придворным поэтом Недимом, жившим в начале восемнадцатого века и прославлявшим плотские радости и наслаждения в то время, как рушилась Империя и все вокруг шло прахом. История как будто повторялась, и литературная молодежь вслед за Яхьей Кемалем пыталась использовать традиции Недима, чтобы забыться на пиру во время чумы.
Газета «Алемдар», поддавшись моде, объявила конкурс на тему Недима «Сердце».
В годы мировой войны возникло в турецкой поэзии течение, получившее наименование хеджеистского, — к нему принадлежали поэты, пишущие силлабическим народным стихом хедже. Во время войны хеджеисты слагали ура-патриотические оды, а теперь, после разгрома, постигшего страну, их напыщенная Декламация, растоптанная, как дымный гриб, обернулась томными облачками грустных воздыханий и лирических безделиц.
Один из хеджеистов прислал на конкурс следующие строчки:
Рыжеволосый поэт в феске без кисточки, шагавший по мостовой впереди товарищей, прислал в газету свой ответ:
Говоря по правде, тон был взят чересчур высокий. Но вместо того чтобы закончить стихотворение шуткой или иронией, поэт выдержал его до конца — слишком уж раздражало бессильное мотыльковое бормотание. Стихотворение произвело эффект и даже получило премию.
В салоне известного поэта Джеляля Сахира — там собирались и молодые поэты и хеджеисты старшего поколения Юсуф Зия, Орхан Сейфи, Фарук Нафыз — только и было разговоров, что об «орлином сердце». На очередном вечере, где обсуждался новый сборник стихов, которые регулярно выпускал Джеляль Сахир, хозяин дома подошел к герою дня и, осторожно взяв его под локоть, обратился к собравшимся:
— Господа, мне думается, я не ошибусь, если от вашего имени скажу нашему юному другу: мы давно ждали, когда в турецкой поэзии появится настоящий мужской голос, который избавит ее от расслабленной сентиментальности. И вот он, наконец, прозвучал…
Поэт, хотя и был явно польщен, тем не менее воспринял похвалы как должное. А как же могло быть иначе!..
Вскоре он перестал ходить к Джелялю Сахиру. «Старики» — этим старикам было тогда лет по тридцать — так и не удосужились сменить свое бормотанье на что-нибудь более полезное для страны. Мало того, они сотрудничали в печати, существовавшей на английские деньги.
Правда, они не выступали против движения в Анатолии и писали стихи не арузом, а хедже, как договорились в самом начале, когда Джеляль Сахир задумал выпускать свои сборники. Но теперь этого было уже недостаточно.
Назым Хикмет — это был он — увел из салона Джеляля Сахира и своих молодых друзей Валю Нуреддина, Неджаметтина Халила, Эмина Реджеба и молодую поэтессу Халиде Нусрет. Они решили выпустить свой сборник «Черная роза», но на это не хватило ни денег, ни времени.
Назым и Валя не бывали дома. Родители Назыма разошлись, семья распалась. А у Вали еще раньше умер отец.
Стамбул кипел. В кофейнях на площади у Закованной колонны, в квартале Шехзадебаши, за столиками, стоявшими прямо на улице у мечети Баязида, на площади Султана Ахмеда — в самом центре мусульманской части города — говорили только о Мустафе Кемале и его нуждах, о султанском фирмане, объявившем вождей повстанческого движения подлежащими смертной казни. Подпольные организации националистов собирали в оккупированном Стамбуле деньги и оружие, переправляли верных людей в Анатолию. Назым Хикмет, Валя Нуреддин и их друзья проводили в кофейнях, в редакциях газет на Бабыали целые дни. Ночевали то у друзей, то у возлюбленных. А чаще всего в особняке Селима-паши, в квартале Шехзадебаши. Этот паша владел особняком и на азиатском берегу Босфора, по соседству с домом Назыма-паши, и слыл большим любителем поэзии и литературной молодежи. Двери его городского дома были всегда открыты. Завсегдатаи знали секрет — стоило приподнять створки, и двери распахивались сами собой. Ночью, освещая дорогу спичками, поднимались по деревянным ступеням на второй этаж — электричества в доме не было. На площадке предусмотрительные хозяева оставляли огарки свечей. С этими огарками в руках разбредались по многочисленным, постоянно пустовавшим комнатам, доставали тюфяки и постели из вращающихся стенных шкафов.
Особняк был оборудован по старому турецкому образцу. Стенные шкафы выходили одной стороной на мужскую половину, другой — на женскую. На день постели убирались в шкаф, и женщины, повернув их, сменяли белье, не входя в запретный контакт с посторонними мужчинами.
Утром мальчишка из кофейни напротив, зная, что за гости ночуют в особняке, таким же способом, как они, проникал в дом и, заглядывая в комнаты, предлагал чай, кофе, бублики. Позавтракав в постели, молодежь складывала тюфяки, простыни и, никому не сказавшись, уходила по своим делам, как пришла. Иногда по утрам к ним заглядывал зять Селима-паши, Он любил раздавать советы. Набив рот пловом или жуя бублик, ораторствовал, а молодежь волей-неволей была вынуждена слушать — как-никак хозяин дома.
— Дети мои! Вот вам мой братский совет! Будьте пьяницами, картежниками, развратниками. Не беда! Покаетесь — и простится… Скажу больше, будьте ворами или даже убийцами! Покаетесь — и простится. Но только, дети мои, не вздумайте…
Тут он для вящего впечатления делал паузу и внимательно глядел на лица слушателей. Те недоумевали: что еще остается, если можно воровать и убивать?
— Не вздумайте только, — продолжал зять Селима-паши, — утерять в сердце своем страх божий. Ибо тогда вам не будет прощенья…
Страх — вот на чем зиждилась патриархальная религиозная мораль. Это было не похоже на веру Назыма-паши: тот вслед за еретиком Джелялэддином проповедовал «любовь».
После военно-морского училища — там молитвы и пост были обязательны — Назым перестал ходить в мечеть и творить намазы. Но он верил в бога. Вернее, ему и в голову не приходило, что тот может не существовать. И вот в особняке Селима-паши, слушая наставления его зятя, он вдруг подумал, нет, не о том, есть ли бог, а о том, что верующие творят добрые дела в надежде на награду — рай или бессмертие. А не грешат лишь из страха, боясь угодить в ад. Рабство, неволя такой веры поразили его. Возмутившись, он раз и навсегда решил делать то, что должен делать, не заботясь о награде и не страшась наказания…
Споры о литературе и политике в отелях, кофейнях и редакциях газет, салонах и поэтических кружках были его первым университетом. Кого только не встречал он в эти летние месяцы в оккупированном Стамбуле, — профессоров, актеров, журналистов, полицейских комиссаров! Впервые в жизни Назым был сам себе хозяином, сам выбирал свой путь.
Джеляль Сахир стал потом депутатом, Хасан Сака — с ним они часто встречались в то время — премьер-министром. Назым стал поэтом революции…
Подойдя к кофейне у Закованной колонны, где они с Валей Нуреддином назначили в тот день важное свидание, Назым вдруг сорвал с головы феску и что есть силы швырнул ее на землю:
— Ах, если б только я был на месте этого смертника!
Товарищи не удивились его горячности. Сегодня он где-то вычитал о подвиге французского офицера. Корабль, на котором тот служил, был торпедирован в правый борт. Чтобы уравновесить крен, нужно было открыть отсек на левом борту. Увидев, что дверь повреждена и может быть заперта только изнутри, офицер вошел в отсек, запер за собой дверь и пустил воду. Он погиб, но корабль был спасен.
Вот о чем рассказывал Назым своим приятелям по дороге к Закованной колонне. Глаза его сверкали, он то и дело поглядывал на корабли вражеской эскадры, стоявшие на бочках в Босфоре. Если бы только ему представился случай, нет, не спасти эти корабли, а подорвать их, чтобы избавить страну от унижения и позора, он, не задумываясь, пожертвовал бы собой…
Откуда было знать ему в семнадцать лет, что у него иная миссия? Жить, чтобы жизнью своей утвердить справедливость своей идеи.
Подняв с земли феску, он отряхнул ее о колено. Прижал рукой курчавые волосы, насадил феску на голову и вслед за товарищами вошел в кофейню. Там их уже ждали…
— Да, входите! Добро пожаловать! В камеру вместе с Ибрагимом вошел Вели по прозвищу Сазджи, то есть игрок на сазе, большой любитель музыки.
— Здравствуй, отец!
— Давай, Ибрагим, давай посмотрим на твою работу.
Ибрагим протянул портрет.
— Пусть постоит, потом поговорим.
Назым обернулся к Вели.
— Что у тебя там, Вели? С чем пожаловал?
— Напиши мне прошение, отец.
— Что за прошение? Ты ведь на днях должен был выходить?
— И вышел. Только вот снова попал.
— Как же так? Ну и ну! Теперь за что?
— Девку умыкали, ну и между делом пришлось стукнуть человека.
— Убили?
— Этого не знаю, только знаю, что я погиб.
— Что значит — погиб? Не выйдешь больше из тюрьмы, что ли?
— Нет, отец, я погиб.
— А, понял! Погиб — по-вашему значит влюбился… Так, что ли?
— Да.
— Ну, рассказывай, как дело было. Выкладывай все как есть. Подумаем, что можно сделать.
Вели растерянно оглянулся на Ибрагима, точно ища подмоги. Потом устремил взгляд через решетки на волю и, словно беря аккорд на сазе, повторил:
— Я погиб… Только вышел из кутузки, сижу перед кофейней в деревне. Девушки пошли за водой к источнику. Такую я среди них увидел — помилуй бог! Попросил у нее воды. Не дала. Я погиб.
— А если б дала воды, не погиб бы?
— Если б дала воды, значит пошла бы за меня. Но что поделать, девка с другим сговорена.
— А не была бы сговорена, пошла бы за тебя?
— Может, и пошла,
— А ты с ней не говорил?
— Нет. Ни разу.
— Слыхал, подмастерье? И ты тоже так влюбился?
— Да, мы так любим, точно так.
— Удивительное дело! С первого взгляда. Даже до руки не дотронувшись…
— Так.
— А ты был влюблен, Ибрагим?
— Был. Как-то раз на лугу увидел девку в одной рубахе и панталонах. Шла вброд через ручей. И погиб. Я из-за нее, она из-за меня. Вошла в дом с серебряными нитями в волосах, стала моей женой…
— Отчего же она не приходит к тебе? Я ни разу ее не видел?
— Ты непременно должен был ее увидеть. Ведь ты мой мастер. Но теперь и я больше не увижу ее.
— Отчего? Что стряслось?
— Рожала в поле… Мне сказали родные… Умерла.
— Ах, сын мой! В поле, значит?..
Молчание, тяжкое молчание заполнило камеру. Назым взволнованно заходил из угла в угол. Что горожане знают об их любви? И что они знают о нашей? Мы называем одним и тем же словом разные вещи. И удивительно, что еще понимаем друг друга. Впрочем, и слова разные: мы говорим — полюбил, они — погиб. Мы — признался в любви, они — бросил яблоко, мы — отказала, они — не дала воды. Их язык точней и образней… Но любовь, что за странная это любовь…
В семнадцать лет он назначил первое в своей жизни свидание. Кадыкёй на азиатской стороне был тогда еще мало застроен. Они с Мариной, греческой девушкой, прислуживавшей в доме Назыма-паши, встретились на склоне холма. Он назывался Нарциссным полем. Там и правда было много нарциссов. Его сердце стучало, как колокол. Губы Марики пахли миндалем. Она принесла его с собой в кулечке, жареный соленый миндаль… А Ибрагим, Вели и тысячи, десятки тысяч крестьянских парней, как их отцы, деды, влюбляются, даже не коснувшись девичьей руки… Быть может, в отношении между мужчиной и женщиной — это ведь одновременно и отношение людей друг к другу и отношение их к природе — и выясняется, насколько человек стал человеком… Что можно было понять в его собственной жизни, в его поэзии и даже его борьбе, не зная о его любви? Для иных, может, и не обязательно знать об их любви — важнее знать об их отношении к деньгам, к власти, жратве и питью. Но для него это так — нужно знать его отношение к женщинам, чтобы понять его самого — каждая любовь, не меньше, чем убеждения, сказывалась и на его жизни и на его поэзии.
Любовь — это целый мир. Он рано постиг его премудрости. Торопился. Но всю жизнь чувствовал себя новичком. Точь-в-точь как в поэзии. В юности в оккупированном бурлящем Стамбуле, проводя свои дни в кофейнях, на поэтических сборищах, в редакциях газет, он влюблялся часто и каждый раз на всю жизнь. Может, здесь тоже сказалась традиция. Но, верней, потребность в самоутверждении, самопознании. Достоин ли ты любви, можешь ли быть любимым и любить, — только убедившись в этом, юноша становится мужчиной.
Да, целый мир, с враждой и самоотверженностью, подвигами и предательством, своими законами — строгими и беспощадными, как в природе. Кто в юности не мечтает о любви, которой можно отдать себя всего целиком, оставаясь самим собой, любви, которой унизительны ничтожные хитрости самолюбия. Но почему-то большинство со временем смиряется, с годами приходит к убеждению, что любовь, как и все в жизни, это, в сущности, компромисс. А он?
Тогда же, в семнадцать лет, его постигли и первые разочарования. Он был влюблен без памяти, и она отвечала ему, казалось, тем же. Как-то они разломали куриную косточку. Есть такая игра «Помни — помню!». По-гречески ее называют «Ладос». Разломав косточку, ты не имеешь права ничего брать из рук партнера, не сказав «Помню! Помню!». Не скажешь — проиграл. Они разломали косточку. И она стала при нем расчесывать длинные великолепные черные волосы. Он смотрел на нее, как на картину, — нельзя выказать большее доверие, чем позволить мужчине присутствовать при туалете. И вдруг, усевшись к нему на колени, она протянула черепаховый гребешок: «Расчеши мне волосы, милый!»
Забыв обо всем на свете, он провел рукой по ее волосам, взял расческу.
Она вскочила с колен и, захлопав в ладоши, закричала: «Ладос! Ладос!» Расческа выпала из его рук и разбилась на мелкие кусочки… Казалось бы, наивная игра. Но было обмануто доверие. Он был так открыт в ту минуту, что любой толчок локтем, даже самый легкий, приходился прямо в сердце. Впрочем, он написал об этом стихи…
Если бы это было самым большим из ожидавших его разочарований! И все-таки он не смирился. Нет, любовь не компромисс — если она им стала, то перестала быть любовью. По крайней мере так это было для него. Но что он мог объяснить вот этим крестьянам? Что поняли бы они из его юношеских стихов о черепаховом гребешке? Да и вообще из его стихов о любви…
Назым обернулся. Посмотрел на застывших в почтительном молчании крестьянских парней.
— Да, так на чем мы остановились, Вели?
И Вели рассказал.
С тех пор как увидел ее у источника, глаз не мог сомкнуть. Решил, единственный выход — украсть. Сговорился с приятелем, позвал на помощь брата, и ночью вошли в ее дом. На ощупь нашли постель девушки, подняли и вынесли на улицу.
— Ах, черт, прямо так, спящую, и украли? — ужаснулся Назым.
— Прямо так, спящую, и украли. Бабушка ее проснулась. Но вместо того чтобы звать на помощь, стала творить молитву — верно, решила спросонья, что внучку утащили джинны…
Заткнули невесте рот платком и понесли в сады у деревни. Здесь, однако, все сложилось не так, как задумали. Приятель вдруг объявил, что девка — его. Началась драка. Пока они дрались, девица возьми и убеги. Приятель стал его душить, Вели схватился за нож…
Когда он ушел, Назым долго ходил по камере, пощипывал усы и бормотал: «Вот так рассказ… Нет, не понимаем мы крестьян. Мы — интеллигенты… Вот вам любовь!..»
Наконец увидел рисунок Ибрагима. Остановился.
— Молодец, подмастерье! Какое выражение лица! Рот искривлен печалью, а глаза сияют надеждой. По-моему, никто еще не сумел это так совместить. Как ты сумел?
— Не знаю.
— Вот те раз! Как же это не знаешь? Станешь мастером только тогда, когда будешь знать! Ты слышал, что рассказал Вели?
— Не только слышал, сам видел не раз, сам пережил!
— Ага! Сам пережил! Надо работать, не забывая себя, не отрицая… Пойдешь против себя — пропал. Ты ведь не каштановый орех. Тот, чтобы стать деревом, должен исчезнуть, изжить себя. А ты, наоборот, чтобы вырасти, должен себя найти, утвердить. Впрочем, хватит, ты вряд ли еще можешь меня понять!.. Хватит на сегодня.
Ибрагим приложил руку ко лбу. Попрощался. Вышел из камеры…
…Легко сказать — найти себя. Большинство людей живут на белом свете, даже не сознавая себя. Жизнь устроена так, что постоянно требует отказаться от себя — в пользу бога, государства, родины, идеи, родной деревни, общественного мнения. Потерять себя куда проще, чем, не утратив ни веры, ни родины, ни идеи, обрести себя, утвердить. И еще — нельзя обрести себя как личность раз и навсегда. Это как любовь — постоянный пожизненный труд. Сколько живешь, столько утверждаешь или теряешь себя — каждым своим поступком, в каждый миг…
Для него первым шагом к себе был, пожалуй, тот последний день двадцатого года, когда они встретились с Валей Нуреддином у Галатского моста в пивной «Дженьо».
Над городом стояла зимняя дымка. Воды Золотого Рога и Босфора были серы. Прохожие, шагавшие по мосту, зябко кутались в свои одежки. На Вале было старенькое коротенькое пальтишко коричневого цвета. Ботинки в заплатах. В одной руке — коричневый кожаный чемодан, в другой — портфель, доставшийся по наследству от покойного отца. Тощий, голодный юноша. Все имущество Назыма помещалось у него под мышкой — пара чистого белья, завернутая в газету, на голове — феска без кисточки, а на ногах — потертые полуботинки. Серое пальто с бархатным воротником. Зато в кармане позванивали денежки — он только что продал бинокль, подаренный дядей, единственную свою драгоценность.
Выпив по кружке пива, приятели поднялись в гору, миновали закованную в обручи колонну и зашли в отель «Махмудие», рядом с гробницей султана Махмуда. Здесь они провели свою последнюю ночь в Стамбуле…
…Перебраться в Анатолию к повстанцам, увидеть все своими собственными глазами они задумали с Валей еще летом. Жить в оккупированном Стамбуле стало невыносимо.
В тот день, когда Назым рассказывал своим товарищам о подвиге французского морского офицера и в бессильной ярости швырнул оземь феску, они встретились в кофейне у Закованной колонны с полицейским комиссаром. Этот комиссар был связан с кемалистским подпольем в Стамбуле. Он и приготовил теперь для них фальшивые документы. По ним Валя числился торговцем яйцами, а Назым — торговцем шерстью, оба отправлялись в Анатолию по торговым делам.
Деньги на дорогу они получили у некоего Шевки, который занимался зубоврачебной практикой неподалеку от вокзала Сиркеджи. Ни до, ни после никогда больше не встречали они этого человека.
Ранним утром 1 января 1921 года они подошли к пристани Сиркеджи. Утро было холодное, промозглое. У пристани стоял старенький пароходик под названием «Новый мир». Откуда им было знать, что этот крохотный пароход завезет их действительно в совсем иной мир. А может, если б знали, какой им предстоит путь, у них и недостало бы храбрости…
Вместе с ними бежали в Анатолию еще два поэта — Юсуф Зия и Фарук Нафыз. Оба были прославленными хеджеистами из салона Джеляля Сахира, оба старше их с Валей на несколько лет. У обоих, кроме желания участвовать в национально-освободительной борьбе, были свои личные причины, побуждавшие их торопиться с отъездом.
Все четверо поднялись на палубу. Провожала небольшая группа знакомых, среди них — полицейский комиссар. Прежде чем распрощаться с беглецами, он отозвал их в сторонку:
— Я должен вас огорчить. Есть опасность, что патруль, оккупантов, проверяющий суда на траверсе Девичьей башни, вас задержит. Хоть вы и значитесь торговцами, у вас слишком интеллигентный вид. Если выяснится, что вы едете к повстанцам, вы подведете полицейских, работающих на национальное движение, и сами окажетесь в «Арапьянхане». Прошу вас поэтому, как только пароход подойдет к Девичьей башне, хорошенько спрячьтесь среди груза на носовой палубе…
«Арапьянхан» — о нем ходили страшные слухи — был политической тюрьмой.
Тоскливый гудок возвестил об отплытии. Дома, стоявшие у самой воды, Галатский мост, султанский дворец Топкапы на мысу стали медленно отступать назад, уменьшаясь, как в перевернутом бинокле. А справа на скале, торчащей из воды ближе к азиатскому берегу, все вырастая, приближалась Девичья башня. В древности на этой скале помещалась стража, собиравшая подать со всех судов, проходивших Босфор. Отсюда византийцы натягивали через пролив цепи, преграждавшие путь вражеским судам. А теперь здесь стояла застава интервентов, досматривавшая суда, идущие через Босфор в Черное море и обратно.
От башни отделился катер с солдатами. Четыре турецких поэта, стараясь не привлекать внимания и в то же время сохранить достоинство, вышли на носовую палубу, нашли укрытие среди тюков с шерстью и кип хлопка.
Лежа лицом вниз среди кип, Назым вспоминал события последних месяцев, приведшие его сюда, на эту сырую трясущуюся палубу.
Он снова влюбился. В дочь одного из издателей «младотурецкой» газеты «Танин», но она вместе с семьей перебралась в Анатолию. Это была одна из причин, заставившая его поторопиться, иначе легко было потерять ее след. Но главной причиной были стихи. Юсуф Зия, знакомый ему по салону Джеляля Сахира, заведовал литературным отделом в газете «Алемдар». Газетка была холуйская. Каждый номер ее открывался славословиями падишаху, предавшему национально-освободительное движение, и проклятиями повстанцам. Проклятий Юсуф Зия не писал, но за оду в честь падишаха получил орден. Теперь он волновался, не осудят ли его националисты, сторонники Мустафы Кемаля за этот орден, хоть он немало сделал, чтоб обелить себя в их глазах. Взять, к примеру, последние стихи Назыма. Ни одна газета их бы не напечатала, а он напечатал.
В последние месяцы Назым стал ярым националистом. Писал стихи, в которых уверял, что «под копытами каждого нашего коня, поднятого на дыбы, собачьей смертью околеют тысячи взбунтовавшихся рабов». Под взбунтовавшимися рабами имелись в виду греки, которые были некогда рабами Османской империи, а теперь по приказу англичан вели наступление на Анкару. В другом стихотворении, «Путник, если ты идешь на Восток», Назым писал о «сердцах, пылающих сочувствием», «о солнце победы, что непременно взойдет в седых подпирающих небо горах». Для него были священными «внезапно рухнувшие развалины» Империи и огонь национально-освободительной войны виделся «стрельбой из-за розовых кустов».
Национально-освободительная война представлялась Назыму в образах народных сказок и легенд. Тут, понятно, сыграла свою роль и необходимость скрыть мысль от цензуры, но попроси его написать иначе, достоверней, в те дни он все равно не сумел бы иначе.
Наибольшее впечатление на патриотически настроенную публику произвело его стихотворение «Пленник сорока разбойников», которое Юсуф Зия тоже напечатал в «Алемдаре». «Пленник сорока разбойников» — так аллегорически изобразил поэт Турцию в плену империалистических держав. Разбойники отрубили одну руку пленнику, то есть европейскую часть Империи. Теперь они кричали палачу:
Это уже звучало как призыв к восстанию. Оккупационные власти всполошились. Как случилось, спрашивали они султанское правительство, что подобные стихи могли появиться в проправительственной газете?..
На палубе совсем рядом послышались шаги. Кованые сапоги гулко стучали по железу. Назым затаился…
Юсуф Зия оправдывался тем, что не увидел, дескать, никакой политической аллегории. Но вряд ли ему удалось бы убедить в своей наивности английскую контрразведку, если бы она решила им заняться. Самое время было исчезнуть вместе с молодым автором стихов из Стамбула…
Шаги на палубе медленно удалились. Под бортом затарахтел мотор. Очевидно, патруль ничего не обнаружил и благополучно отвалил от судна…
После опубликования «Пленника» Назым, вообще мало бывавший дома, совсем перестал там появляться. Не скоро, теперь узнают родные, что он бежал в Анатолию: почта ходила долго и нерегулярно. Впрочем, Валя сообщил обо всем своим. И через несколько дней они, быть может, уведомят Хикмета-бея, где его непокорный сын… Пока же он сам еще не знал, куда едет и что с ним будет. Доберутся до Анкары, а там будет видно. В Анатолии, о которой они только и слышали как о прекрасной обетованной земле, они по крайней мере будут свободны…
Палуба уже давно тряслась крупной дрожью. Судовая машина крутилась на полных оборотах.
Выждав еще какое-то время, Назым вылез из укрытия. Поправил феску, отряхнул пальто. И поднялся в салон. Остальные поэты уже были там.
В тесном четырехугольном салоне, пропахшем плесенью и гнилыми досками, были еще пассажиры. Они не знали друг друга, но было видно, что едут, как и поэты, отнюдь не по тем делам, которые значились в документах, а может быть, и под вымышленными фамилиями. Здесь были и молодые люди, только что окончившие лицей. И, судя по тому, как неловко сидела на них гражданская одежда, бывшие офицеры и военные чиновники, оставшиеся в Стамбуле не у дел, — армия демобилизовалась. В общем молчаливая и странная публика.
Пароходик на ходу напоминал утюг, плоский, широкий, разжигаемый углем утюг.
Со слезами смотрели они на удаляющийся город, игольчатые минареты, свинцовые купола мечетей, весь город целиком. Увидят ли его когда-нибудь еще?..
Первая стоянка была на следующий день в Зонгулдаке. Как только пароход бросил якорь, с берега к нему поплыли разукрашенные как невесты, лодки. Что это значило? Быть может, с ними вместе ехала инкогнито какая-нибудь влиятельная персона?
С лодок на борт поднялись молодые люди и осведомились, где тут четыре поэта-хеджеиста. Значит, об их прибытии здесь были оповещены. С превеликими почестями поэтов доставили на берег. В открытом кафе закатили в их честь банкет, заставили читать патриотические стихи. И таким же порядком снова вернули на борт.
Поэтам встреча пришлась по душе. Они решили, что теперь их будут так встречать на каждой стоянке.
Ночью поднялась буря. И не утихала больше суток.
Они прибыли в Инеболу через семьдесят часов. Отсюда шел прямой путь на Анкару. Лодки на рейде то подскакивали до самой палубы, то проваливались глубоко в пропасть.
Их никто не встречал. Четверо поэтов решили, что встречающим помешал выйти в море шторм.
По неписаной традиции каждый приезжавший из плененного Стамбула опускался на Колени и целовал землю Анатолии, как руку матери. Юсуф Зия напомнил об этом еще в Зонгулдаке. И они уже там поцеловали свободную землю родины. Но в Инеболу все остальные спутники распростерлись на земле, и поэты последовали их примеру.
Назым и Валя, обнявшись с огромным куском скалы, облобызали холодный камень. Они готовы были целовать здесь, в Анатолии, любую пядь земли. Благословенный край, райская обитель, колыбель турецкой нации — вот какой представлялась им Анатолия из Стамбула.
Не успели они подняться на ноги, как перед ними возникли фигуры в штатском.
— Пожалуйте в участок!
Полицейский комиссар приказал раскрыть чемоданы. На четверых у них был один портфель и два чемодана. Один — У Вали, другой — у Юсуфа. У Назыма — сверток с бельем, У Фарука — старое одеяло.
Комиссар с помощником дотошно осмотрели каждую тряпку. Приказали вывернуть карманы. Юсуф, рассердившись, спросил:
— Может, и ботинки снять?!
— Снимай ботинки. И носки тоже! — приказал комиссар. Странная встреча. Их продержали в участке четыре часа…
В быстро наступившей вечерней тьме, заполнившей тюрьму, раздался крик. Назым прислушался, застыв на месте. Крик прозвучал снова.
Он подбежал к решеткам. Здесь, у лазаретного окна, крик был слышен отчетливей. Невыносимый крик боли.
Избивают Пытыра! Неделю назад Пытыр вместе с двумя соседями по камере, перепилив решетки, бежал из тюрьмы. Один был пойман на пятый день. Прыгая с тюремной стены, он сломал ногу и четверо суток пролежал у самой тюрьмы на бахче, пока его там не нашел садовник. Второго поймали в соседней деревне. А Пытыра искали целую неделю. Жандармы окружили его родную деревню и никого из нее не выпускали: «Пока не выдадите беглеца, будете сидеть по домам!» Но у крестьян были поля, посевы — еще неделя, и урожай погиб.
Жена Пытыра вышла на холм.
— Пытыр! Сдавайся! Я буду носить тебе передачи! Сдавайся, Пытыр! — прокричала она на все четыре стороны.
Слышал ее Пытыр или нет, но на следующее утро он явился в бурсскую прокуратуру. Не в жандармерию, а в прокуратуру. В присутствии прокурора и юристов жандармы не осмелятся вымещать на нем злобу.
Днем закованного в кандалы Пытыра доставили в тюрьму. И вот теперь этот крик!
Назым, сотрясая решетки, закричал:
— Чего вы ждете! Бьют вашего брата! Вы что, не слышите!.. Спасайте его!
Сотни заключенных, смотревших на майдан через решетки, угрожающе зашумели. Тюрьма загудела, как потревоженный улей. В первом отделении надзиратель не удержал двери, и арестанты выбежали из коридора на майдан, раскрыли двери других отделений. Толпа заполнила внутренний дворик.
Явился начальник.
— Разойтись! Разойтись по камерам, вам говорят! Арестанты не шелохнулись.
Начальник скрылся и вскоре вернулся вместе с прокурором. За их спинами при свете фонаря поблескивал двойной ряд жандармских штыков.
— Разойтись!.. Кто вас взбунтовал! Ясно, это не ваша вина! Виноваты подстрекатели. Немедленно разойтись по камерам, иначе худо будет!
Арестанты стали медленно расходиться. Лишь Ибрагим по-прежнему стоял не шелохнувшись и глядел в лицо прокурору.
— Чего встали?! — обернулся прокурор к жандармам. — Взять его!
Ибрагима схватили и бросили в карцер. За подстрекательство к бунту. Прокурор приказал неделю держать его в темном шкафу на одной воде.
Назым — он лежал в лазарете — узнал об этом лишь на третий день. И тут же побежал к начальнику тюрьмы.
— Войдите!
Увидев Назыма Хикмета, взволнованного до чрезвычайности, Тахсин-бей встал с кресла.
— Заходи, маэстро! Заходи! Что тебе угодно?
— В чем провинился Ибрагим? За что вы его бросили в карцер?!
— Известно, эфенди, приказ прокуратуры. Дисциплинарное взыскание.
— За что взыскание? Что он сделал?
— Подстрекал к бунту, эфенди. Три дня назад…
— Господин начальник, это я крикнул: «Бьют вашего товарища!» Посадите и меня в карцер! И меня тоже!
Назым говорил так, словно не он был заключенный, а Тахсин-бей. Но Тахсин-бей не рассердился. Напротив.
— Тебя? Нет, не посажу! — проговорил он. — Ты в чем виноват?! Лучше уж я себя посажу! Себя!
Вместе с Назымом спустился во двор. Приказал надзирателям открыть карцер.
Сначала отперли одну дверь. За ней — вторую. В темноте блеснули два пылающих, как у кошки, глаза.
— Выходи!
В карцере нельзя было ни встать, ни сесть. Он был узкий, как ящик, как гроб. Ибрагим наклонил голову. С трудом сделал шаг вперед.
Назым с болью смотрел, как подмастерье напрягал последние силы, чтобы не упасть на бетонный пол.
— Ты не виноват! — сказал он. — Вина моя! Начальник тюрьмы с уважением поглядел на Назыма.
— Нет, эфенди, это не твоя, а моя вина!.. Ибрагим не предал ни товарищей, ни себя. Не изменил себе той ночью…
А у Назыма тогда, в Инеболу, было странное чувство, будто он не сдержал данного им слова, не помог друзьям, бросил их в беде. Он считал себя подлецом.
Прислонившись спиной к перевернутому рыбацкому баркасу, Назым и Валя с тяжелым сердцем глядели на пароход, поднимавший якорь. На этом пароходе обратно в Стамбул отправляли Юсуфа и Фарука, знаменитых поэтов-хаджеистов. Как им сказал полицейский комиссар, анкарские власти сочли их не заслуживающими доверия. Но почему? Почему?
Собственно, если б не Юсуф, стихи Назыма не увидели бы света в Стамбуле. Да и связал их с кемалистским подпольем тоже он. Положим, он получил орден от падишаха… Ну, а Фарук? Тот никаких орденов не получал и бежал скорей всего от долгов, в которых завяз по уши. Интересно, если бы Назыма с Валей отправили обратно, заступились бы за них Юсуф и Фарук? Да что они могли бы сделать?..
Вернувшись в отель, они услыхали, что всех отправляемых в Стамбул утопят в Черном море. И бросились обратно к комиссару.
— Успокойтесь, господа! Ваши друзья благополучно доберутся до семи стамбульских холмов, — промолвил тот с брезгливой ухмылкой.
Он оказался прав. Юсуф и Фарук благополучно вернулись в Стамбул. После победы республики вместе выпускали юмористический журнал. Писали стихи. Стали состоятельными людьми, депутатами меджлиса.
— Вы явились весьма кстати, — продолжал комиссар после паузы. — Вот вам по сто лир харчевых на дорогу.
Откуда взялись эти сто лир, они узнали лишь после прибытия в Анкару. Министром внутренних дел в правительстве Мустафы Кемаля был тогда Аднан-бей. Он и его жена Халиде Эдиб (та самая писательница, речь которой они слышали несколько месяцев назад на площади Султана Ахмеда) знали молодых поэтов по стихам. По их ходатайству управление печати в Анкаре и выслало молодым националистам по сто лир. Всем остальным, прибывшим в Инеболу, выдали по десять. Но об этом они тоже узнали гораздо позднее.
Полицейский комиссар не спускал с них внимательных, настороженных глаз, словно старался что-то поймать на их лицах. И оба они почувствовали стыд, смешанный с отвращением, — то ли потому, что не привыкли ни от кого получать деньги за здорово живешь, то ли потому, что полицейский их в чем-то подозревал. Они еще не знали тогда, что подозревать каждого встречного может быть особой профессией.
Комиссар был не простым полицейским, а резидентом контрразведки Айн-Пэ.
Смущенные, подавленные, они отправились к пристани. Отошли в сторонку, прислонились спиной к перевернутому рыбацкому баркасу и долго с тяжелым сердцем глядели вслед удалявшемуся пароходу.
Они прожили вчетвером в Инеболу дней десять. Обычно проводили время в кофейне, где собирались местные интеллигенты и такие же, как они сами, беглецы из Стамбула. Изучали газеты, обсуждали новости. Их часто просили читать стихи.
Назым пользовался самым большим успехом. Его стихи отвечали националистическим настроениям, овладевшим умами образованных людей.
Но в тот день, когда Юсуфа и Зию отправили обратно, им не хотелось сюда являться: было стыдно смотреть людям в глаза. Что они скажут, если их спросят: «А где ваши товарищи?»
К вечеру поднялся ветер. Мокрый снег пополам с дождем бил в окна. Стены гостиницы, где они вчетвером занимали комнатку, дрожали под напором штормовых зарядов. Здесь было пусто, тоскливо и холодно.
Они снова вышли на улицу. Не зная, куда деваться, вернулись к пристани, заглянули еще в одну кофейню, где тоже собирались беглецы, но другие.
Сегодня, когда их осталось двое, они испытывали потребность в каком-то ином обществе. Кофейня у пристани была местом сбора мастеровых и бывших унтер-офицеров, служивших и работавших во время войны в Германии. Верховодил ими мастер Садык, небольшого роста, с пышными усами и неизменным красным шарфом на шее. По словам Садыка, его род восходил к средневековой секте мастеровых «ахи». Эта секта основала в Анатолии свое государство, где были обобществлены земли, имущество — «все — кроме женщин». Поэтому Мастер взял себе прозвище Ахи.
— А, молодые поэты, добро пожаловать! Заходите, заходите! — приветствовала их честная компания.
После первой чашечки кофе Садык Ахи завел речь о призвании поэта. По его мнению, истинный поэт должен говорить от имени угнетенных масс. Для юноши с темпераментом Назыма нет большего счастья, чем участвовать в борьбе с притеснителями. Так делали ахи, а ныне — коммунисты.
— Отлично, Садык, но что общего между ахи и коммунистами? — спросил Назым.
Садык усмехнулся в усы и, наклонившись к товарищам, пересказал им вопрос Назыма. Те захохотали:
— Ах, невежды, невежды!
— Об этом поговорим потом, не здесь! — отсмеявшись, сказал Садык.
Его тактика оказалась верной. Таинственность, с которой Садык излагал свои взгляды, словно и впрямь то были тайны секты, заинтриговала молодых поэтов. Их любопытство было естественным. В Стамбуле они стучались во все двери, познакомились со всеми идеями, имевшими хождение среди тогдашней столичной интеллигенции, стали националистами. Отправка товарищей в Стамбул поколебала их веру в национальное единство. Может, Садык Ахи знает то, что им необходимо знать?
Садык Ахи и его товарищи знали, конечно, больше Назыма. Они были свидетелями и участниками германской революции. И стали первыми учителями Назыма, открывшими ему путь к пониманию движущих сил истории. В группе Садыка Ахи были и будущие основатели Турецкой компартии, и социалисты, и просто люди, которых классовое чутье влекло к коммунизму.
С этого дня молодые поэты проводили в этой компании все свои дни. Садык и его приятели жили не в гостинице, а в частном доме, одиноко возвышавшемся на окраине за каменным мостом через реку. В комнате турецких «спартаковцев», вся меблировка которой состояла из стола и расставленных вокруг него складных кроватей, они впервые услышали о Карле Либкнехте и Розе Люксембург.
Садык Ахи упоминал имена Маркса, Энгельса, Каутского. Поэты слышали их первый раз в жизни. «Ах, невежды, невежды!» — смеялись над ними товарищи Садыка. «Невежды» стало чуть ли не их прозвищем, сменив обычное до сих пор обращение «господа молодые поэты».
Здесь, в Инеболу, Назым узнал, что в конце мировой войны в турецком земляческом клубе на Кантштрассе в Берлине произошел раскол между турецкими националистами и социалистами. Этот раскол разделил на два враждебных лагеря и: пароход, на котором после войны турецкие подданные возвращались из Гамбурга.
Как величайшую тайну Садык сообщил им, что не личности делают историю и определяет ее не борьба народов, а борьба классов.
Каких таких классов? Эксплуататоров и эксплуатируемых, рабов и рабовладельцев, а в Турции — помещиков, деревенских и городских богатеев и бедноты — рабочих и крестьян.
В самом деле? А они до сих пор и не замечали. Если это верно, то и весь их пламенный национализм оказывался иллюзией. Быть не могло!
Чтобы мысли, зароненные Садыком Ахи, стали для них убедительными, нужно было увидеть Анатолию. Впрочем, и этого оказалось недостаточно — марксизм не отмычка, а ключ. И притом открывающий дверь изнутри, а не снаружи…
Зима перекрыла все дороги, в горах снег лег по колено. Но оставаться в Инеболу больше не было терпения. «Спартаковцы» успели нанять повозку и уехать в Анкару до снега. К тому же в Анкаре Назыма и Валю ждали в управлении печати. Что им там поручат, они не знали, но были уверены, что для поэтов дело найдется. У Назыма был семейный опыт по этой части — его отец Хикмет-бей служил после «младотурецкой» революции начальником управления печати.
Наконец отыскался проводник — погонщик мулов из Кастамону, взявшийся проводить их через перевал. Они снарядились в один день: купили на базаре чувяки, которые должны были заменить рваные городские ботинки. Чувяки эти застегивались у голени на ремешок, чтоб не сползали; а чтоб они не протерлись, на них надевали галоши. Приобрели галифе армейского образца вместо штатских брюк. и теплые шерстяные носки.
Валя еще в Стамбуле сменил феску на черную папаху, как у Мустафы Кемаля, — она была знаком националистов. А Назым все еще ходил в своей знаменитой феске без кисточки, выглядевшей здесь двусмысленно — и от старого-де отстал, и к новому не прибился. В одной из лавок они увидели высокую папаху — не черную, а серую, напоминавшую клобуки дервишей Мевлеви. Папаху украшала красная суконная Полоска, как у сибирских красных партизан, и золоченая Тесьма. Назым стукнул по ней кулаком, вмял красную полоску, Чтоб едва виднелась, и насадил на голову. Вид у него был теперь вполне импозантный…
За год до смерти Валя Нуреддин показал мне фотографию: На ней были запечатлены два молодых человека в папахах. Их улыбающиеся ясные глаза глядели на мир, еще не ведая а том, что ждет их впереди. Один — тощий, изможденный, другой — высокий, круглолицый, с лихим чубом, выбившимся на лоб, курчавыми баками, но без усов. Перед выходом из Инеболу они зашли к фотографу.
В двадцатых числах января 1921 года тронулись в путь — впереди погонщик и мул, на которого было погружено все их имущество. За ними Назым и Валя, а позади еще человек десять — бывшие учителя, а затем офицеры султанской армии, сражавшиеся в Палестине, при Дарданеллах и в Галиции, вернувшиеся из английского, французского и даже индийского плена.
На перевале остановились передохнуть. Назым оглянулся на город, на: расстилавшееся внизу море. Потом обернулся в сторону Анатолии и простер руки.
— Вот она, Анатолия, благословенная земля, краше ее нет края на свете!
Спутники промолчали. Лишь погонщик встал и, хлестнув мула, проворчал:
— Дех, скотина неразумная!
Назым переглянулся с Валей. Обоим почему-то стало неловко.
На первой ночевке они записали в свою общую поэтическую тетрадь стихотворение «Дорожная песня».
Написанное с теми же рифмами и тем же размером, что стихи Назыма «Мевляна», оно отвечало их теперешнему настроению. Первую строфу сочинил Назым, вторую — Валя…
Они поняли причину минутной неловкости, которая охватила их на перевале, лишь когда прошли пешком до Анкары. Увидели крестьян, для которых Мустафа Кемаль, падишах, святой Али и сам аллах слились в одно лицо, — крестьян, одетых бедней, чем стамбульские нищие. Когда вошли в деревню, даже не заметив, что вошли в нее, — здесь жили под землей. Когда послушали скрип крестьянских арб, стоявший, как стон, над всей Анатолией, поглядели на настоящих, а не книжных крестьянок. Лишь тогда они поняли, как нелепы были их представления об Анатолии…
Ибрагим Балабан, тот знал Анатолию не по книгам. Ему повезло: его учитель был не чета Садыку Ахи. И главное, не напускал на себя вид обладателя истины, скрытой от остальных. Он вел его не в секту, а к самому себе, чтоб Ибрагим скорее осознал свое место в мире.
Странный народ эти крестьяне! Думают, что все знания мира лежат, как деньги в сейфе. Стоит его открыть, взломать, и получишь готовые ответы на все случаи жизни. Конечно, их веками не допускали к знанию. Улемы и сановники делали вид, что аллах и падишах открыли им истину, недоступную мужицкому уму… Что нужно для того, чтобы работать сознательно? Надо жить и думать. Работать и думать. Читать, узнавать мысли других людей, которые жили до тебя или живут на земле сейчас, учитывать их опыт. Одни книги, конечно, не сделают человека сознательным. Есть люди, которые находят в книгах ответы на все вопросы, вроде старых османских интеллигентов. Но то не интеллигенты, а первые ученики, зубрилы. Их ответы почти всегда звучат невпопад, ибо отвечают на старые, иные вопросы. Вообще интеллигент не тот, кто образован, а тот, кто сознает свое место между прошлым и будущим. Быть может, крестьянин, знающий, что сеяли его деды, как они обрабатывали поля, и думающий о том, что даст земля его детям, старающийся, чтоб она, эта земля, дала больше и лучше, — этот крестьянин ближе к званию интеллигента, чем чиновник, получивший высшее юридическое образование и озабоченный лишь тем, как выполнить указание начальства, выколотить из крестьян налоги, а там — хоть трава не расти.
Быть интеллигентом, работать сознательно, а тем более в искусстве, значит одолеть извечную стену между знанием готовым, книжным и практическим, живым. Сделать добытое до тебя, готовое знание своим, а это дается только практикой, трудом и опытом…
Если взять, к примеру, его собственную жизнь, то, грубо говоря, вся она была поиском ответа на вопрос, что такое поэзия. В начале двадцатых годов в Москве он сформулировал первый ответ: поэзия не в темах и не в предметах. Теперь, в сороковые годы, работая над «Человеческой панорамой», он мог, пожалуй, сказать, что поэзия также не в рифмах, не в размерах, не в музыке, — короче говоря, поэзию делает таковой не форма, хотя она существенна. Но все это ответы отрицательные. Может ли он сказать, что все-таки отличает поэзию от прозы, если не форма и не содержание? Пожалуй, может, хотя это еще нуждается в доказательстве практикой: метод, способ мышления, присущий только ей одной — поэзии.
Что нужно для того, чтобы работать в искусстве, сознательно? Работать и думать над своей работой, зная цель. Другого ответа он не мог дать Ибрагиму Балабану. В юности он, может быть, ответил бы более решительно и определенно. Ибо в юности он полагал, что способ, которым он в данный момент пишет стихи, — лучший из всех и единственно возможный. Слава богу, он теперь был достаточно умудрен жизнью, чтобы давать готовые ответы.
Он подумал, что событие, именуемое молодостью, он пережил всего за один год. За тот самый год, когда из Стамбула бежал в Анкару, потом учительствовал в Болу, а из Болу приехал в Батум… Там, в Анатолии, в двадцать первом году осталась его молодость. И теперь ему казалось, что с тех пор он стал вот таким, каков он сейчас, тем самым человеком, который сидит в бурсской тюрьме. Скорей всего это ощущение объяснялось тем, что, покинув Анатолию, он сделал первый и решительный шаг к сознательности. С той поры не события гнали его, подобно листку, унесенному ветром, а он сам направлял свой полет. И сознательное отношение к жизни, к своей поэзии, углубляясь, изменяясь, вбирало в себя все большие сферы жизни, никогда больше не оставляя его.
Впрочем, он чувствовал себя вполне сознательным, взрослым человеком и в тот день, когда вместе с Валей прибыл в Анкару. Но если это и была сознательность, то лишь в том смысле, в каком ее употребляют врачи, — вменяемость. Он еще только нащупывал свое миропонимание, словно путник горную тропу в тумане. Подобно Балабану, ему казалось, что вот-вот он найдет ответ на все свои вопросы, будто эти ответы уже где-то лежали готовыми, дожидаясь его…
В Анкаре они остановились в отеле «Ташхан». Окошко крохотной комнаты было забрано решеткой, а в комнате густо пахло навозом — здесь, как во всех старых постоялых дворах, внизу была конюшня.
Наутро выдался прохладный солнечный день. Город стоял в степи. Вернее, в степи, словно прыщ, выскочила откуда ни возьмись высокая гора. На вершине ее, словно корабль, возвышалась крепость, а город расположился по склонам.
Стены анкарской крепости, сложены из останков разных цивилизаций. На мраморные плиты с римскими надписями положены кругляши распиленных колонн, а на них ряды грубого, неотесанного камня.
В Анатолии обычно даже самые богатые люди оставляли одну комнату в доме недостроенной — от сглаза. Это придавало городам вид не то вечного разгрома, не то бесконечного строительства. Но Анкара выглядела еще неприглядней — по городу только что прошелся пожар. Груды угля и пепла мешались с пылью, вздымавшейся при малейшем дуновении ветра. И ни одного деревца.
Город был перенаселен. Коренное население — ремесленники, потомки ахи, торговцы, рабочие, огородники — отличалось от заполнивших столицу повстанческого движения стамбульских беев и эфенди, чиновников и офицеров, как вода от масла. Почти все здания, за исключением «Ташхана», вокзала и меджлиса, были деревянными или саманными.
В наши дни, когда Анкара уже почти полвека официальная столица Турции, старое здание меджлиса, превращенное в музей, кажется затерянным среди высоких домов. Чуть наискось от него на мраморном пьедестале стоит конная статуя Мустафы Кемаля Ататюрка в окружении бронзовых солдат повстанческой армии. Один приложил ладонь к глазам, словно пытается разглядеть будущее, другой обернулся назад — зовет отставших. Рядом с ними — крестьянка Кезибан, героиня национально-освободительной войны, со снарядом на плече.
В тот год, когда Назым впервые приехал в Анкару, эти солдаты не в бронзе, а во плоти дрались в двухстах пятидесяти километрах от города. 31 марта 1921 года в кровавом бою греческая армия была остановлена и ждала подкреплений от своих британских хозяев. Анкара собирала силы, формировала из партизанских отрядов регулярные части, готовилась н решающим сражениям. Мустафа Кемаль — верховный главнокомандующий и вождь повстанцев — жил за городом в вилле, охранявшейся лазами. Делегация меджлиса вела переговоры в Москве о подписании договора дружбы и братства с Россией, сражавшейся с тем же врагом, что и Анкара, — четырнадцатью державами Антанты.
Назым и Валя явились в управление печати. Директор управления Мухиддин-бей похмыкал, поглядел на них из-под очков, похлопал по спине.
— Молодцы! Ну просто львята!
Мухиддин-бей в годы правления «младотурок» был главным редактором их центрального органа «Танин».
«Младотурки», или, как их именовали в стране, иттихадисты, — официально партия называлась «Иттихад вэ теракки» («Единение и прогресс»), — изменив делу революции, втянули Турцию в войну, а после разгрома их лидеры Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша, доктор Назым и другие бежали за границу. Партия была запрещена, и многие иттихадисты присоединились к Мустафе Кемалю. Но не утратили надежд на возвращение к власти. И сохраняли связи с эмиграцией.
Мухиддин-бей пообещал переговорить с министром просвещения и устроить молодых поэтов учителями в какой-нибудь лицей. А пока заказал им стихотворный призыв к стамбульской молодежи присоединяться к национально-освободительному движению.
Назым и Валя приняли предложение с восторгом — для этого они и бежали в Анкару, чтобы служить национальному освобождению. Через два дня они принесли Мухиддину-бею три странички рифмованных строк.
Этот текст не сохранился. Вплоть до 1924 года Назым все свои стихи заносил в толстую тетрадь в черном кожаном переплете. Он привез ее с собой из Москвы, когда вернулся на родину. Но Коммунистическая партия Турции вскоре была объявлена вне закона. Назыму пришлось перейти на нелегальное положение. И он передал тетрадь на хранение «верному» человеку.
Через много лет поэт говорил своим московским друзьям: «Хорошо, что тетрадь эта стала пеплом, не то, найди ее критики, мне бы несдобровать». Он умел терять и не жалеть о потерянном.
Верный человек, испугавшись за свою шкуру, сжег юношеские стихи Назыма Хикмета.
Реакции обывателя в решительный момент одинаковы, как два медяка. Судьба оказалась безжалостной не только к юношеским стихам Назыма Хикмета.
Выйдя из тюрьмы в 1950 году, он отдал три книги «Человеческой панорамы» на хранение приятельнице своей жены. Через год поэту пришлось бежать из страны. Приятельница перестала здороваться с его женой, а рукопись сожгла. По крайней мере так она сказала, когда ее попросили вернуть стихи.
Из всех произведений начала двадцатых годов — а в черной тетради были и поэмы и драмы — дошли до нас лишь отдельные строки, сохранившиеся в памяти автора и его знакомых, да несколько стихотворений, увидевших свет.
В послании к стамбульской молодежи, написанном по заказу Мухиддина-бея, были такие строки:
Упершись взглядом в эти строки, Мухиддин-бей отложил рукопись. Похмыкал, походил по комнате.
— Вот что, дети мои. Решительно рекомендую вам убрать слово «султан»!
Назым переглянулся с Валей. Делать нечего — он вычеркнул «султан» и написал «раб».
В таком виде стихотворение напечатали на листовках в тысячах экземпляров. Но были они доставлены в Стамбул или нет, ни Назым, ни Валя не знали.
О листовках стало известно меджлису, и разразился скандал. Правые депутаты призвали к ответу директора департамента печати.
— Кто дал право тратить деньги и бумагу на стихи? — кричали они с трибуны. — Чиновников у нас в Анкаре достаточно. Если стамбульская молодежь хлынет сюда, что мы с ней будем делать? Где мы ее поселим, как устроим? Нам нужны специалисты, техники, рабочие, а не патриотические юнцы.
Мухиддин-бей только кланялся и хмыкал.
Молодые поэты многого еще не понимали. Хотя султан Вахидеддин приговорил к смертной казни Мустафу Кемаля и его соратников и даже выслал против него спешно сформированные части, хотя в Анкаре особу Вахидеддина не жаловали, но выступать против освященного веками высшего властителя Империи, к тому же считавшегося повелителем всех мусульман мира, не решались. Мустафе Кемалю в меджлисе противостояла широкая оппозиция, и в тот момент, когда все силы были нужны для победы, а исход войны был далеко не ясен, он не желал еще больше восстанавливать ее против себя. Эту оппозицию представляли, во-первых, улемы, или, как их называли, чалмоносцы, то есть духовенство, не желавшее расставаться со средневековыми привилегиями, которые были освящены властью падишаха-халифа, наместника божьего на земле. Во-вторых, иттихадисты, которые спали и видели поражение повстанческой армии и готовили на Кавказе и на востоке страны так называемую «вторую волну» сопротивления, чтобы снова прийти к власти.
Назым и Валя угодили своим стихотворением, как палкой в улей.
После скандала в меджлисе Мухиддин-бей больше ими не занимался. В ожидании назначения приятели бродили по городу, ходили в знаменитую кофейню «Куюлу», где собирались поэты и литераторы, сидели за столиками в саду напротив меджлиса, обсуждая последние политические новости.
Анкара походила на Ноев ковчег. Спасаясь от потопа, то бишь иностранной интервенции, в этом глухом анатолийском городке собрались люди самых разных взглядов и направлений, никогда не сходившиеся вместе в нормальное время. У них были свои особые цели и свои виды. И чувствовалось — стоит миновать опасности, они перегрызут друг друга.
Сидя в открытой кофейне перед меджлисом, Назым с Валей приготовились наблюдать за парадом национальных частей, только что сформированных из партизанских отрядов.
Видные депутаты меджлиса, министры, генералы показались на балконе. С минуты на минуту ждали появления Мустафы Кемаля. Вдруг сзади кто-то проговорил:
— Ах, если б нашелся молодец и шлепнул его!
Речь явно шла о главнокомандующем. Поэты оглянулись — за столиком сидели господа в таких же, как у Назыма, папахах.
Через несколько лет, когда иттихадисты организовали покушение на Мустафу Кемаля, ставшего первым президентом Турецкой республики, Назым вспомнит эти слова.
Мустафа Кемаль вышел на балкон в сопровождении охраны. Худой, подтянутый, в высокой папахе.
Промаршировала перед ним пехота, проскакала черкесская конница. Провезли с десяток полевых орудий.
Назым хоть и слышал, что говорили за соседним столиком, счел появление Мустафы Кемаля в окружении телохранителей недемократичным. Не столько охрана его покоробила, сколько само появление — отдельно от всех. Его юношескому максимализму пришлись не по душе диктаторские замашки главнокомандующего. Между тем Мустафа Кемаль в те дни отнюдь еще не был полновластным диктатором…
…Деньги, полученные в Инеболу, подошли к концу. Друзья переселились из отеля «Ташхан» к знакомым «спартаковцам» — они, как и в Инеболу, снимали большую комнату на окраине и жили коммуной. Спать укладывались на раскладных кроватях вокруг стола. И до петухов обсуждали мировые проблемы.
Как-то приятели остановились на улице перед витриной с закусками, не в силах оторвать взгляда от лобио, салатов, жареной по-албански печенки.
— Ну и обманщики же вы! — раздалось у них за спиной. Они обернулись, словно пойманные с поличным. За их спиной стоял двоюродный дед Назыма генерал Хюсейн Хюсню-паша, прославившийся в 1909 году во время подавления инспирированного англичанами восстания в Стамбуле. Вместе с другим двоюродным дедом поэта, Исмаилом Фазылом-пашой, он снимал виллу за городом. Оба были видными людьми в свите Мустафы Кемаля. Они не раз приглашали Назыма и Валю зайти пообедать, но те никак не могли собраться.
Внимательно поглядев на них, паша перевел взгляд на витрину. Опустил руку в карман, вынул пачку денег и протянул Назыму бумажку в двадцать пять лир. По тем временам это были большие деньги, можно было прокормиться вдвоем дней десять.
— Ну, ну, не ломайтесь! Считайте, что вам повезло, — как раз сегодня я получил жалованье. Это вам на двоих. И не забудьте — мы ждем вас послезавтра у себя!
Когда паша удалился размеренной величественной походкой, приятели кинулись в закусочную. Впервые за много дней наелись до отвала.
Через день пришлось идти в гости к старикам. Следующее свидание Исмаил Фавыл-паша назначил им в меджлисе.
— Хочу представить вас Мустафе Кемалю!
Минута в минуту, ровно в назначенный час, Назым и Валя подошли к дверям Великого Национального собрания. Услышав имя Фазыла-паши, их проводили в большой салон.
По стенам стояли диванчики, кресла. У окна они увидели Мустафу Кемаля в окружении приближенных.
Исмаил Фазыл-паша подошел к приятелям и за руки подвел к главнокомандующему.
— Вот молодые поэты, о которых я вам говорил, мой паша!
Мустафа Кемаль был одет точно так же, как во время парада, — защитный френч, галифе, краги из черной кожи.
Главнокомандующий протянул им руку. Она оказалась неожиданно мягкой. У человека с глазами цвета вороненой стали такая мягкая, женственная рука! Они по очереди пожали эту руку, руку одного из самых храбрых, самых дальновидных генералов Турции, и по-военному щелкнули каблуками.
Вез всяких предисловий Мустафа Кемаль сказал:
— Кое-кто из молодых поэтов, чтобы не отстать от моды, стал писать бессодержательные стихи. Мой вам совет: пишите ради ясной цели…
Он что-то хотел добавить, но подбежал адъютант и протянул ему телеграмму. Паша заинтересовался, приложил к папахе ладонь и ушел.
Писать ради ясной цели… В Стамбуле они слышали выступление поэта Мехмеда Акифа. Он тоже призывал писать ради ясной цели. Его целью было прославление ислама… Во времена «младотурок» и в годы мировой войны многие писали ради иной цели — объединения всех тюркских народов под эгидой Турции. Их целью был пантюркизм…
Мустафа Кемаль не сказал, ради какой цели следует писать стихи. Ради достижения независимости? В этом они были согласны. Но независимостью, по крайней мере формальной, обладала до войны и Османская империя.
Через несколько дней они встретились на улице с дальним родственником Назыма.
— Сейчас же напишите по оде в честь Мустафы Кемаля. Я ему отнесу. Получите по пятьдесят золотых!
Распрощавшись с родственником, Назым скверно выругался. При всем его тогдашнем уважении к Мустафе Кемалю пятьдесят золотых не были для него той целью, ради которой стоит писать хвалебные оды. Уничтожить нищету и невежество, добиться равенства и счастья для крестьян Анатолии — вот единственная достойная цель. Назым называл ее социализмом, но что он тогда знал о нем?..
В 1929 году после того, как Назым выпустил в Стамбуле свою первую книгу, фирма «Колумбия» записала два стихотворения в его собственном исполнении на пластинку. Дядюшка Назыма генерал Али Фуад рассказывал: как-то под вечер, когда один из адъютантов Мустафы Кемаля заглянул в кабинет, он увидел, что президент, облокотившись о стол, слушает пластинку.
Это были стихи, навеянные известной русской песней, в которой говорилось о смерти бойца из буденновских войск.
Когда голос Назыма смолк, Мустафа Кемаль обернулся. В глазах этого жестокого генерала, видевшего не одну солдатскую смерть, блестели слезы.
— Черт возьми, какой поэт! Жаль, что он коммунист!..
Назым Хикмет получил приглашение в президентский дворец. Мудрый политик Мустафа Кемаль понимал, что поэтический талант Назыма Хикмета — огромная сила, вокруг которой можно сплотить радикальную интеллигенцию.
Но поэт не пришел в президентский дворец. Основанная Мустафой Кемалем правящая Народно-республиканская партия стала единственной легальной партией Турции. Укрепив с помощью государства позиции национальной турецкой буржуазии, эта партия стремилась любой ценой не допустить перерастания национально-освободительного движения в социальную крестьянскую революцию. Ее цель была буржуазная республика.
Целью, к которой стремился Назым Хикмет, было уничтожение классов и социального неравенства. Партия, с которой на всю жизнь связал себя поэт, была загнана в подполье, а кости пятнадцати ее основателей, утопленных в Черном море, лежали на траверсе мыса Сюрмене в районе Трабзона.
Путь к этой цели, к самому себе, к своему методу в поэзии лежал для Назыма через Анатолию…
В Анкаре молодые поэты получили назначение в один и тот же лицей в Болу: Валя — преподавателем французского в старших классах, Назым — турецкого языка и литературы в начальных.
До Болу добирались тем же способом, что и в Анкару, с Черноморского побережья — сами пешком, вещи на муле. Посреди дороги Назыму вдруг стало плохо, он не мог больше идти. Валя хотел посадить его на мула, но проводник заупрямился: мул гружен, не сбрасывать же поклажу на дорогу.
Полдня до города Гереде Валя тащил Назыма на себе.
В Гереде больного напоили бульоном, укрыли одеялами, и наутро Назым как ни в чем не бывало разбудил приятеля:
— Солнце встало, пора в путь!
Валя Нуреддин до конца своих дней не забыл этого эпизода. В самом деле, не каждому в жизни выпадает случай тащить на своей спине великого поэта. Впрочем, тогда даже Валя не подозревал, что ему выпала такая честь.
В Болу они поселились неподалеку от лицея в старом караван-сарае, где слышались ржанье лошадей, рев ослов.
Это был небольшой зеленый городишко на полдороге между Анкарой и Стамбулом, славившийся религиозностью и фанатизмом. Вид Назыма — безусое лицо, повстанческая папаха, чувяки, застегивавшиеся на ремешок, бакенбарды — был достаточным поводом, чтобы заподозрить в нем «неверного», о чем при первом же свидании не преминули ему сказать директор лицея и преподаватель закона божьего.
Назым встретил их вежливые увещевания в штыки: как он одевается и во что верит — это дело его личное; кто смеет стеснять свободу совести? «Можно умереть за свое отечество, но никто не может заставить меня лгать ради него», — повторял Назым слова французского философа Монтеня.
Из кабинета директора он, как был, в той же самой одежде, отправился в класс. Появление Назыма вызвало улыбки на лицах малышей: слишком уж не вязался его вид с привычным обликом учителя. Но дети быстро привыкли к Назыму, полюбили его. Он разговаривал с ними вежливо, уважая их человеческое достоинство. И начал с того, что отвечал на приветствия учеников, — это было в школе совершенно не принято.
Назым пересадил лучших учеников на первые парты, а ленивых — на последние, не считаясь с тем, что среди ленивцев было много бейских сынков, привыкших занимать почетные места не по своим знаниям, а по степени богатства родителей. Это было неслыханно.
Стамбульские поэты быстро перезнакомились с молодыми учителями лицея, которые собирались в «Кофейне беев». Те считали себя прогрессистами, возмущались темнотой и невежеством горожан, позицией директора — он-де подлаживается к фанатичным богатеям.
Здесь так же, как в Стамбуле и в Анкаре, Назым не считал нужным скрывать своих мыслей и чувств и говорил все, что приходило ему в данный момент в голову. Этому качеству, которое Назым сохранил до конца дней, читатели обязаны искренностью его лирических стихов — ведь главное достоинство всякого лирического стихотворения в том и состоит, чтобы передать чувство и мысль во всей их непосредственности, неподкрашенности, будто родились они сейчас, сию минуту. Но это качество не раз ставило Назыма в затруднительное положение, и порой друзья, забывши, что он прежде всего поэт, а потом уже политик, обвиняли его в безрассудстве.
Быть может, ясней всего ценность человеческой личности проявляется в сопротивляемости среде. С детских лет Назым шел против течения, если общепринятое поведение противоречило его разуму и сердцу. В Болу это едва не стоило ему жизни.
Пять раз в день муэдзины с минаретов призывают верующих к молитве. В Болу, помимо муэдзинов, этим занимались еще и фанатики-доброхоты. По дороге в мечеть они стучали палками по ставням и подоконникам мастерских, лавок, кофеен, напоминая забывчивой молодежи и бедноте, занятой погоней за куском хлеба, о долге перед аллахом. Молодые учителя безропотно оставляли свои занятия и вливались в толпу спешивших на молитву обывателей.
Назым же, если время молитвы заставало его на улице, демонстративно пробирался сквозь толпу в обратном направлении. Надвинув на уши папаху и насвистывая песенку, доходил он до дома самого муфтия — главы религиозной общины.
По городу поползли угрожающие слухи. Горящие, ненавидящие глаза стали следить за каждым шагом молодого поэта.
Приближался рамазан — священный месяц, когда мусульмане от восхода до заката соблюдают пост. Не то что поесть — капли воды нельзя взять в рот. С трудом Валя уговорил Назыма не устраивать демонстраций хотя бы во время рамазана: в сущности, протест его выглядел мальчишеским, а опасность грозила нешуточная. Незадолго до их приезда фанатики, обвинив нескольких офицеров повстанческих войск в безбожии, загнали их на верхний этаж того самого лицея, где учительствовали поэты, и зверски убили. Сколько ни штукатурили классное помещение, на стенах под штукатуркой проступали пятна крови.
За неделю до поста приятели купили ведерко варенья из Роз, три с половиной десятка яиц, принесли их домой и забыли о рамазане.
Жили они теперь уже не в караван-сарае, а в пустовавшем доме — хозяева благодаря хлопотам директора лицея уступили поэтам целый этаж. Назым купил гвоздей, развесил по стенам Шкурки зайцев, которые они, поразившись дешевизне, купили по дороге из Анкары, рисунки, фотографии.
Словно предчувствуя, что его запрут в четырех стенах на целых семнадцать лет, он с юности не мог терпеть голых каменных стен.
В Москве в 1927 году он разместил на стенах своей каморки на Тверском бульваре целый фотомонтаж: справа от двери — картины первобытного коммунизма и племенного строя, посредине — рабовладельческое общество, феодализм и капитализм, а слева — картины будущей коммунистической формации: люди одной расы и одной нации, без границ и правительств, просто люди.
Вырвавшись в 1950 году на свободу, он поселился в доме своей матери на азиатской стороне Босфора. И вся его комната была увешана картинами Балабана, цветными тканями, фотографиями.
После приезда в Москву в 1951 году он между делом, разговаривая с друзьями, мог часами перевешивать картины, укреплять на стенах деревянные полки с книгами, расставлять народные игрушки, которые ему присылали в подарок со всех концов мира. В кабинете висело несколько фотографий сына Мемеда.
— Вы не представляете, как я ненавижу голые каменные стены! — повторял поэт.
Стены, вместо того чтоб отделять его от людей, раздвигали комнату или камеру до размеров целого мира.
В Болу в первый день рамазана, усевшись среди стен, украшенных шкурками зайцев, словно в охотничьем клубе, приятели в один присест выпили три с лишним десятка яиц. На следующий день перешли на розовое варенье с хлебом. По неопытности им не пришло в голову, что после заката можно купить продукты в лавке якобы для вечернего разговения.
Как-то после полудня, усевшись вокруг кувшина с вареньем, они услышали стук в дверь. Назым поглядел в окно.
— Прячь кувшин, к нам пожаловал сам директор со своим другом!
Старики, если б не боялись признаться в этом даже домашним, тоже не стали бы соблюдать пост. По дороге из школы их измучила жажда — весна была необычайно жаркая, и, решив, что у молодых поэтов они наверняка найдут воду, директор постучался к ним в дом. Назым с Валей предложили им не только воду, но и хлеб с вареньем.
После этого случая Назым стал иными глазами глядеть на директора — он вовсе не был таким ретроградом, как казалось юношам. Просто принадлежал к иному поколению, вынужденному жить в другой среде, и, не подчинись он ей хотя бы внешне, ему не миновать участи замученных кемалистских офицеров.
Понимание побудило Назыма сменить гнев на милость, а опыт старших помог лучше ориентироваться в городе.
Молодежный кружок из «Кофейни беев» стал нагонять на Назыма тоску. Слишком уж были пусты и зелены здешние молодые люди. Собираясь то у одного, то у другого, они рассказывали анекдоты, проказничали, как мальчишки. Обычно сборища заканчивались песней: «Великий аллах, яви нам серого волка!» Бог мой, какая же путаница была в их головах! Серый волк был символом пантюркистов: под знаком этого древнетюркского племенного тотема шовинисты мечтали объединить все тюркоязычные народы в одну великую державу от Урала до Босфора. И ради этой несбыточной расистской мечты толкнули слабую Османскую империю в огонь мировой войны. А молодые учителя в Болу сделали из серого волка что-то вроде пророка Мухаммеда. Протестуя против строгости религиозных обрядов, стеснявших их свободу, они и не думали, что можно вообще отказаться и от религии и от аллаха.
В эти жаркие дни рамазана 1921 года Назым написал стихотворение «Черная сила».
Не духовенство, сама вера стала для Назыма черной силой.
Как-то у дверей школы к Назыму подошел один из учеников: «Отец просит вас пожаловать на разговенье!» Мальчик был уверен, что молодые поэты знают, кто его отец, ибо трудно было не знать в Болу шейха секты «рюфаи», одной из самых влиятельных в городе. Проходя по улицам, они не раз слышали песнопения, доносившиеся из дервишских обителей, возгласы «Аллах! Аллах!», «Ху!», которыми дервиши подбадривали себя во время радений. Но эти впечатления никак не вязались с обычным скромным мальчиком, который ничем не выделялся в классе.
Приглашение шейха было великой честью. Но что-то в тоне мальчика настораживало.
Когда стало темнеть, приятели направились к большому деревянному дому шейха. В просторных прихожих на первом этаже собрались сотни гостей. Шейх приветствовал молодых учителей с особой ласковостью.
Наступило время вечерней молитвы.
— Вы совершали омовенье? — спросил один из приближенных шейха.
— Нет, эфенди, — проговорил Назым, давая понять, что он и молитву творить не собирается.
— Пожалуйте к источнику!
Их проводили во двор, где журчал фонтан. По настороженному, напряженному вниманию окружающих Назым и Валя вдруг поняли, что приглашены неспроста. Они должны были выдержать экзамен на правоверного мусульманина, иначе…
Валя не на шутку испугался. Зная слабую память Назыма, он был почти уверен, что тот успел позабыть все обряды. Ведь после училища он ни разу не ходил на молитву. Омоет сначала ноги, а потом примется за лицо, и этот вечер может стать последним в их жизни.
Валя поспешил к фонтану первым. Краем глаза поглядывая на него, Назым повторял каждое движение. Смочил голову, потом вымыл ноги, затем руки.
Покончив с омовением, приступил к намазу. Назым, словно тень, неотступно следовал за Валей.
Хотя неопытность Назыма не ускользнула от судей, придраться было не к чему. Экзамен был выдержан. Но враждебность, которую они чувствовали кожей, не уменьшилась, напротив, кольцо вокруг них сжималось…
Назым обвел глазами камеру. И здесь, как в Болу, стены были увешаны фотографиями, рисунками, портретами заключенных. Кольцо враждебности, которое он ощутил вокруг себя в Болу, разорвалось только в Москве… Он глянул на дверь, и мрак снова подступил к его сердцу. На двери висела карта, склеенная его собственными руками из газетных вырезок. Два года назад, глядя на нее, он был близок к отчаянию. То была карта Восточного фронта второй мировой войны. Масштаб у вырезок был разный — Орел помещался дальше от Брянска, чем Варшава от Киева, но было ясно: враг сжимает кольцо вонруг города, который был ему дорог не меньше Стамбула. Осенью сорок первого года вокруг этой карты прямо на двери Назым нарисовал множество глаз. Смотрящие в упор, раскрытые с выражением ужаса. И над всеми — глаз с рассеченной бровью, кровь заливает зрачок…
Узнав, что Красная Армия отступает, Назым растерялся. Он видел в газетах середины тридцатых годов снимки знаменитых военных маневров, где с неба, как горох, сыпались парашютисты-красноармейцы, танки преодолевали препятствия. Что случилось? Почему эти парашютисты не сыплются на голову гитлеровцам? На Берлин? На Варшаву? На Прагу? Где танки?..
В одиночестве среди врагов, в камерах тюрем, на допросах у следователей у него выработался защитный рефлекс, не верить ни слову из того, что говорит враг. Быть может, сейчас все это тоже враки? Быть может, ему нарочно подсовывают фашистские газеты или даже специально печатают их для политических заключенных? Что только не приходило ему в голову…
Вскоре пришлось, однако, поверить. Из Народного дома принесли испорченный радиоприемник. Один заключенный отремонтировал его, и старший надзиратель забрал радио в дежурку. Старенький четырехламповый приемник модели 1929 года был их главной связью с миром в сорок первом и сорок втором годах. Два раза в сутки во время последних известий у приемника возле дежурки собирались заключенные: голые из семьдесят второй камеры, закутавшиеся в меха богатеи из камеры беев, старые и молодые — иногда человек двадцать-тридцать.
Осенью сорок первого года — весной сорок второго отношение немцев к Турции было еще неясно. Вначале со дня на день ждали, что гитлеровцы нападут и на Турцию, чтобы через Кавказ ударить по России с юга. По слухам, в тюрьмах составлялись списки заключенных. Тех, кому осталось меньше пяти лет, собирались якобы выпустить на свободу, остальных, в особенности политических, — переслать в глубь страны. Было даже решено, кого куда вышлют.
Среди немецких «болельщиков» отличался Шакир-бей, по прозвищу Верблюд. Этот лысый расплывшийся человек огромного роста и веса юность и молодость провел в Европе. Знал французский, немецкий, румынский, итальянский, неплохо разбирался в искусстве и даже восхищался стихами Назыма. Любил порассуждать о демократии и интересах народа. Назым просто диву давался, как он может жаждать фашистской победы.
Но однажды все объяснилось: у Верблюда лежала под арестом немалая сумма денег в румынском банке, и он полагал, что если немцы победят, то ему вернут эти деньги.
У Верблюда была настоящая карта Европы. Он повесил ее над своей постелью и красным карандашом все дальше и дальше в глубь России тянул стрелы немецкого наступления. На его карте эти стрелы уже сомкнули кольцо вокруг Москвы.
Назым пытался поймать Москву. С грехом пополам разбирал русскую речь — успел от нее отвыкнуть. Москва не могла сообщить ничего утешительного.
Назым выходил на балкон, опоясывавший корпус. Вершины гор были покрыты снегом. Молча ходили они с Рашидом, замерзшие, по балкону. И, коченея от ужаса, Назым думал: «А что, если цифры немецких сводок верны хотя бы наполовину?» Это была такая невероятная, страшная мысль, что он, пожалуй, первый и последний раз в жизни вопреки своему обыкновению не позволял себе додумать ее до конца.
Спустившись во двор, он поднимал горсть чистого утреннего снега, ел его. И пытался представить себе Москву. Заснеженная, морозная, как в год смерти Ленина, она была окружена фашистами. Там истекают кровью. А мы здесь валяемся на боку! И ярость бессилья переполняла его.
Возвращаясь в промозглую, как погреб, камеру, они молча садились с Рашидом друг против друга. Назым посасывал пустую трубку, глаза его не могли остановиться, бегали из угла в угол, как загнанные, и вдруг он говорил:
— Нет, невозможно. Фашисты не могут победить. Историю не повернуть вспять…
Вот тогда-то вокруг самодельной карты и появились эти глаза, обезумевшие от ярости и боли, мефистофельские профили, искаженные ужасом лица. Он рисовал их и на стене в коридоре, слушая радио.
Он пытался передать свою надежду другим. Но кто его слушал? Факты говорили против него.
Той зимой в бурсской тюрьме приспособились согреваться одеколоном: добавляли в него сахар, лимон и пили вместо водки. Верблюд похвалялся: как только падет Сталинград, закатит Назыму и Рашиду банкет с чаем и одеколоном.
— Не рисуй на карте стрелы так жирно, — отвечал Назым. — Их еще придется тянуть назад…
— Возможно ли это, мон шер? Возможно ли? — похохатывал Верблюд.
— Хорошо смеется тот, кто смеется последним!
Сталинград не пал. Началась «эластичная» немецкая оборона. Фашисты отступали все дальше и дальше.
Верблюд сделался посмешищем всей тюрьмы. Вчерашние единомышленники на прогулках прицепляли ему бумажный хвост, надвигали шапку на глаза, словно он был виноват в поражении германской армии.
Прослушав последние известия, Назым и Рашид являлись теперь в камеру Верблюда с карандашами в руках и все дальше уводили стрелы от Москвы.
Неграмотные обитатели камеры голых наделили Назыма пророческим даром — он угадал будущее, когда им еще и не пахло. Каждое его слово принималось теперь как закон.
Назым сердился:
— Ну скажи, вот ведь бараны — подавай им веру. Сначала одну, потом другую. И не хотят задуматься, отчего я оказался прав.
Хотя исход войны был уже более или менее ясен, до него было не близко. Война перехлестнула границы карты, некогда вырезанной из газет. Но Назым хранил ее, как ни страшны были связанные с ней воспоминания. Рашид, с которым они пережили эти тяжелые дни, наверное, понял бы его лучше других, но он уже скоро год, как вышел на волю…
Вспомнив Рашида, он сел за машинку, вставил в нее тонкий лист синей папиросной бумаги:
Хладнокровия, воли и трезвости… Так легко желать! Он оторвался от машинки и снова поглядел на карту, на зажатую в кольцо Москву…
В Болу в 1921 году, развесив по стенам шкурки зайцев, он тоже сообразил себе карту. В первый же вечер, когда они разместились на втором этаже большого пустого дома и, готовясь ко сну, надели по обычаю того времени длинные батистовые ночные рубахи — Валя захватил их с собой из Стамбула, — Назым вдруг вскочил с софы, порылся в карманах пиджака, вытащил огрызок карандаша, который всегда таскал с собой, вышел в прихожую и на белоснежной новенькой штукатурке начертил карту Анатолии. За Анатолией появилось Средиземное море с островами Лесбос, Крит. Потом итальянский сапог, за ним Швейцария и Германия. Зрительная память была у Назыма превосходная. Он провел на карте линию от Болу до Бодрума на средиземноморском побережье, от Бодрума продолжил до Бриндизи, ближайшего итальянского порта, а оттуда — через Альпы в Швейцарию и Германию.
То был его давний план, родившийся в разговорах с Садыком Ахи и другими «спартаковцами», — уехать в Германию учиться, повидать цивилизованный мир. Хотя революция в Германии была подавлена, Назым не собирался менять своих планов.
В самом деле, не затем они приехали сюда, в Анатолию, чтобы всю свою жизнь провести в этом провинциальном городишке. Вставать рано утром, отправляться в лицей, а после уроков, посидев в кофейне, ложиться спать вместе с птицами. Такая жизнь была не по нем.
Глядя на карту, они с Валей высчитали, за сколько дней можно добраться до Германии, путь представлялся им таким же простым, как из Анкары в Болу. Ну, а не хватит денег, подработают по дороге. Они должны были во что бы то ни стало увидеть мир и одолеть свое невежество. Покровительственная усмешка Садыка Ахи, снисходительный тон его товарищей не давали им покоя. Два непредвиденных обстоятельства заставили их взглянуть совсем в другую сторону.
В последнее время после работы они чаще всего запирались дома, читали, спорили, трудились над стихами.
Впечатления, приобретенные Назымом в Анатолии, плохо вмещались в привычные размеры. Он стал экспериментировать — сначала с рифмой, пробовал рифмовать конец и начало строк, находил внутреннюю рифму. Затем настал черед размеров.
От символических стихов Назым перешел к пейзажам — все, что он хотел высказать, должно было уместиться в точной картине природы.
Сам того не подозревая, он пробовал, повторить и опыты сюрреалистов — разрывал видимый мир на части, чтобы сопоставить несопоставимое, и дадаистов, игравших звуками, отделенными от смысла.
Нащупывая новый взгляд на мир, Назым примерял поэтические одежки, еще не надеванные турецкой поэзией, и походя отбрасывал их одну за другой. Он подыскивал под свой ломающийся голос самые различные инструменты, на ощупь искал себя и свой путь в поэзии, так же как искал себя в живописи в бурсской тюрьме Ибрагим Балабан.
В один из таких рабочих дней почтальон принес пакет и открытку из Анкары. Открытка была от девушки, той самой, которая заставила его спешить с отъездом из Стамбула и которую он снова встретил в Анкаре. Она писала, что отправляется вместе с семьей на Кавказ. Отец девушки, видный иттихадист, подобно многим другим, чувствуя, что приближается решительное сражение с греками, перебирался поближе к своим вождям — Энверу-паше и Джемалю-паше. Первый жил на Кавказе, второй — в Москве. В случае неминуемого — они были в этом уверены — поражения Мустафы Кемаля они намеревались возглавить с помощью большевиков новую волну турецкого сопротивления и опять прийти к власти. На Кавказ уехал и бывший начальник управления печати Мухиддин-бей, который заказал юным поэтам воззвание к стамбульской молодежи.
Назым подбежал к карте, нарисованной на стене. Начертил Черное море.
Как они едут на Кавказ? Через Батум.
На кавказском побережье появился кружочек — Батум. Из Батума в Тифлис? Назым нарисовал второй кружок в самом сердце Кавказа и задумался.
Мягкая, покорная старшим, ласковая и умная тем умом, который принято называть хитростью, эта девушка была полной противоположностью Назыму — вспыльчивому, страстному, открытому. В Болу приятели вот уже много месяцев не видели ни одного женского лица — город был фанатично предан старым мусульманским обычаям и держал своих женщин взаперти. И воображение Назыма превратило обычную девицу из порядочной стамбульской семьи в чудо ума и природы.
С ним это случалось не раз и позднее. Влюбившись, он наделял предмет любви своим собственным содержанием, а поскольку содержание это было чрезвычайно глубоким, то и возлюбленная становилась в его глазах прекраснейшей женщиной мира.
В зрелые годы, зная себя, Назым иронизировал: «Нарцисс влюбился в свое отражение». Но кто не ищет в любви самого себя?..
Назым будет дорого расплачиваться за свои ошибки. Но ни опыт, ни знания тут не помогали.
С девушкой, которая звала его на Кавказ, он встретится позже в Тифлисе и, как буря увлекает за собой сорванную с деревьев листву, увлечет ее за собой. Она приедет в Москву, поступит в тот же самый университет, где учился он, станет его женой. Но ее родители сделают все, чтобы спасти свое дитя от зловредного влияния сумасшедшего большевиствующего поэта: «Как ты можешь ужиться с человеком, который каждым словом, каждым жестом восстает против всех и вся, — даже волосы его бунтуют против гребенки парикмахера. Ты погубишь себя. Мать и сестра проливают слезы по тебе в Тифлисе».
Их совместная жизнь продлится меньше года. Уехав к своим в Тифлис на каникулы, она встретит явившегося за ней Назыма словами:
— Назым, брось свой коммунизм. Я хочу, чтобы у нас была семья, как у всех, дети, свой маленький домик…
Домик! Гнездышко, а может быть, клетка?! Пожертвовать своими идеалами ради мелкобуржуазной идиллии? Не затем он приехал в Россию.
Он снимет ее руки со своих плеч. Повернется и выйдет из комнаты. Больше они не увидятся.
Не стамбульская барышня-мещанка, а Леля Юрченко — вот кто была ему парой. Не женщина только — единомышленница, товарищ в борьбе. Леля знала, что он вернется на родину, а ей туда путь заказан. Но она любила его. И что ей было за дело до штампа в паспорте или семейного гнездышка? Она была счастлива… Оба они считали, что даже любовь не дает права собственности на человека, человек — не вещь…
Вернувшись в Турцию, Назым узнает, что его первая жена вышла замуж за состоятельного человека, профессора. Он напишет:
Не ожидал он, что так будет болеть эта рана. Долго отталкивал он от себя женщин, полагая, что не создан для нормальной семейной жизни, ибо не отступится от себя и своих идей, чего бы это ему ни стоило, и обречет любимую на страдания. В двадцать восемь лет он так оттолкнул от себя свою самую большую любовь.
Но в восемнадцать он ничего еще не мог об этом знать. И, глядя на карту, мечтал о том, как увидит свою стамбульскую любовь.
Валя тем временем раскрыл пакет. В нем оказалось письмо от Хикмета-бея и книги — несколько томов истории французской революции, стихи Бодлера. Как это ни покажется странным, Назым не слыхал до той поры этого имени — то ли Яхья Кемаль, его учитель и большой знаток французской поэзии, почему-то не упоминал о нем, то ли Назым прослушал. Правы были Садык Ахи и его товарищи. Они еще многого не знали.
Несколько дней подряд взахлеб читали приятели «Цветы зла». Позднее в тюрьмах товарищи не раз удивлялись — столько своих стихов забыл Назым, а Бодлера помнил.
Еще больший конфуз вызвала история французской революции. Они о ней, правда, слышали и даже кое-что учили в школах. Но здесь были незнакомые подробности о якобинской Диктатуре, о «бешеных», крайне левых французской революции, чьи взгляды перекликались с идеями социалистов, а они, невежды, только сейчас об этом услыхали.
Назым снова подошел к карте и, глядя на Тифлис и Батум, проговорил:
— Вот куда мы поедем! Здесь происходят события, которые оставят след в истории. И может быть, еще более глубокий, чем французская революция. Мы должны это увидеть своими глазами. А не киснуть в этом затхлом углу…
В шестьдесят лет Назым Хикмет вспоминал: «Город Батум похож на шахматную доску. Дождь в Батуме может лить хоть сорок дней и сорок ночей, но стоит выглянуть солнцу, улицы, мощенные галькой, высыхают в одну минуту.
В Ботаническом саду в Батуме на Зеленом Мысе есть любые деревья, цветы и травы, какие можно встретить в тропиках. Летом 1922 года на батумском пляже мужчины загорали вместе с женщинами совершенно голые, в чем мать родила. Я приехал сюда из Анатолии, где у женщин видел голыми только руки, ноги да глаза, и то лишь на рынках… Руки и ноги крестьянских женщин точно корни старых олив… Но иногда, встретившись на базаре с парой женских глаз, смотревших в щелку между двумя кусками материи, мне казалось, что я видел женщину голой, с головы до пят… А когда видишь полную наготу, к. ней быстро привыкаешь, потому что ничего не остается воображению. Очень скоро я перестал замечать наготу женщин, лежавших на батумском пляже… Но я до сих пор чувствую себя не в своей тарелке, если моя жена лежит на пляже в купальнике среди мужчин. Знаю, что это пережиток, и все же… Дело в воспитании — мой пасынок Мемед Фуад надо мной смеялся. Ему это и в голову не приходило. А мой дед не разговаривал с моим отцом лишь оттого, что он повесил портрет моей матери на мужской половине дома, где каждый мог видеть ее лицо. Три поколения — три разные эпохи. Вот как изменилась моя страна на протяжении одной человеческой жизни…
В Батуме в гостинице «Франция» я сел за стол. А есть так хотелось, терпенья нет. За день я съедал четверть фунта — сто граммов черного хлеба, две тарелки супа из кукурузной муки и выпивал два стакана чая с сахарином. В супе плавали рыбьи головы… По дороге в Батум мы проели все наше жалованье, которое заработали в Волу. В каждом городишке на пути устраивали банкеты приятелям и знакомым, — ведь в России, в коммунистической России деньги отменены. Так по крайней мере утверждали Садык Ахи и наш новый товарищ Зия Хильми, а он знал больше Садыка. Надо было поскорей избавиться от этих позорящих человеческое достоинство бумажек. В Батуме мы поняли, что поторопились и перескочили через одну общественную формацию — социализм…
В Батуме, в номере гостиницы «Франция», я сел за стол, овальный, со всех сторон резной, с выпуклостями и впадинами — стиль рококо… Тридцать пять дней, равные тридцати пяти годам, провел я в дороге из Стамбула в Анкару, из Анкары в Болу, я — стамбульский отрок, внук паши. Так я познакомился с Анатолией, и вот теперь все, что я видел и пережил, лежало передо мной в Батуме в номере гостиницы «Франция», словно рваный окровавленный платок, на столе рококо… Смотрю, и мне хочется плакать, смотрю, и кровь ударяет в голову от гнева. Смотрю и снова стыжусь своего особняка в Ускюдаре, Решай, говорю себе я, решай, дружище… Но ведь все уже решено, мосты сожжены? Постой, дружище, не спеши. Давай положим все на этот стол, рядом с твоей Анатолией. Что ты можешь отдать ей? Чем можешь пожертвовать? Всем, что у меня есть… Свободой? Да! Сколько лет ты можешь ради этого просидеть в тюрьмах? Если потребуется, хоть всю жизнь. Но ты любишь женщин, любишь есть, пить, хорошо одеваться. Ты мечтаешь объехать Европу, Азию, Америку, Африку. Так оставь же здесь, на столе рококо, свою Анатолию, махни через Тифлис в Каре, а оттуда обратно в Анкару. Не пройдет и четырех-пяти лет, как ты станешь депутатом, министром. Женщины, яства, вина, искусство — все к твоим услугам, весь мир!..
Брось! Если потребуется, просижу в тюрьмах всю свою жизнь. Но если ты станешь коммунистом, тебя могут убить, повесить, утопить, как утопили Субхи и его товарищей в Трабзоне, незадолго до твоего приезда. Об этом ты думал? Думал. Я спросил себя: не боишься ли, что тебя убьют? Не боюсь! Сразу ответил, не думая? Нет, не сразу. Сначала я понял, что боюсь, а потом, что не боюсь. Я спросил себя: согласен ли ты на увечье, готов ли ты ради этого потерять руку, ногу, оглохнуть? Заболеть сердечной, болезнью, чахоткой, ослепнуть? Ослепнуть… Подожди, вот об этом я не подумал. Я встал. Крепко зажмурил глаза. Походил по комнате, ощупывая руками мебель. Споткнувшись, растянулся на полу. Но глаз не открыл… Потом поднялся, встал у стола. Открыл глаза. Готов и ослепнуть ради этого!.. Вы скажете, это по-детски, немного смешно… Но так!
Не книги, не убеждения, не мое социальное положение привело меня туда, куда я пришел. Меня привела туда Анатолия. Анатолия, которую я разглядел еще так плохо, с одного только краешка. Мое сердце привело меня туда, куда я пришел, вот так-то!..»
Предположим, оккупантов из Стамбула выгонят. Но что делать с нищетой? Разве нищета Анатолии не больший позор, чем иностранная оккупация? Нужно во что бы то ни стало найти средство, найти путь, чтобы избавить народ от скотской жизни.
Эти мысли, неотступно мучившие его в Болу, Назым выложил при первом же знакомстве с председателем уголовного суда Зией Хильми.
Когда судья вошел в кофейню, все встали. Так было заведено в те годы в Анатолии — стоило начальнику уезда, судье и другому чину войти в общественное место, все почтительно умолкали и стоя приветствовали его поклоном.
Зия Хильми сел за их столик — верно, успел прослышать о молодых стамбульских поэтах.
Это был еще совсем молодой человек лет двадцати шести. Но он носил окладистую медную бороду — иначе его вряд ли стали бы слушать.
Зия сразу заговорил о поэзии. Валя стал читать наизусть Бодлера, и, к их изумлению, судья по-французски закончил полюбившееся им стихотворение «Балкон». От Бодлера перешли к французской революции, и тут их новый друг выказал знания, которые нельзя было вычитать в присланных из Стамбула томах. Диктатура монтаньяров, по словам судьи, предшествовала Парижской коммуне, а следовательно, и первой русской революции 1905 года. То, что происходит в России сейчас, — естественное развитие исторического процесса, доказывающее необходимость диктатуры пролетариата для освобождения человечества. Помните споры Ленина с Каутским?..
Председатель уголовного суда явно переоценил осведомленность друзей. Ни о коммуне, ни о спорах Ленина, ни о диктатуре пролетариата Садык Ахи им ничего не говорил. И они снова ужаснулись своему невежеству.
Способ избавить Анатолию от нищеты можно было, оказывается, найти в опыте русской большевистской революции. И на следующий день Назым заявил: «Короче, этим летом мы едем в Россию. Будем учиться, узнаем правду о революции».
Тут даже Зия Хильми, кажется, в первый и последний раз, потерял хладнокровие: «Как, этим летом вы собираетесь в Россию?.. Ну что ж, — добавил он, подумав, — и я с вами».
Зия Хильми предложил своим новым друзьям перебраться в деревню. Он присмотрел неподалеку от Болу деревянный дом. Деньги будут платить поровну — половину он, половину они. Судья купил жеребца — на нем он собирался ездить в присутствие и привозить из города продукты. А они должны будут прибирать в доме, мыть посуду, стирать белье. Варить обеды Зия Хильми намеревался собственноручно.
Назым и Валя мечтали убраться из города. И как только окончились занятия в лицее, друзья переселились в деревню, То были, пожалуй, самые счастливые месяцы в жизни Назыма, По крайней мере так ему казалось в бурсской тюрьме. Деревня стояла на склоне горы, вся в зелени. На вершине вертелась мельница. Дорога из города шла через зеленое кладбище. Вокруг шумели фруктовые сады, а выше начинался густой лес.
Предложение Зии Хильми самим себя обслуживать они приняли с радостью — это им пригодится. Деревенский дом в Болу оказался первой коммуной в жизни Назыма Хикмета. Их предстояло ему еще много — в общежитиях, в тюрьмах, в подполье. Здесь отпрыск стамбульского паши учился мыть посуду и стирать белье, мыть полы, варить обеды. С той поры общая жизнь, где поровну были распределены обязанности, стала его потребностью. И потом, когда в ней не было прямой нужды — в Стамбуле или в Москве пятидесятых годов, он, отдыхая от работы, с удовольствием хозяйничал, помогал жене, возился на кухне. Назым и здесь был новатором — сочинял небывалые блюда, усовершенствовал домашние работы, — правда, не всегда с таким же успехом, как в поэзии.
Покончив с обязанностями по дому, друзья садились писать. К вечеру на гнедом жеребце Дюльдюль возвращался из города нагруженный покупками Зия Хильми. И брался за варку обеда. Здесь, на кухне деревенского дома, продолжались беседы и споры. Назым считал, что условия жизни в обществе портят людей. Нужно, мол, отбирать детей у родителей и помещать их где-нибудь в горах в интернате, под наблюдением избранных воспитателей. Тогда грязь этого общества не пристанет к ним.
Зия, стоя над кастрюлями, качал головой.
— Все это старая песня. Прочти утопистов — Руссо. Почитай Маркса, Энгельса. Тебе еще пуд соли съесть надо.
Назым сердился, но не уступал.
По вечерам в деревне под Болу происходили заседания городского уголовного суда. Зия Хильми привозил материалы очередного дела. Валя был вторым членом суда, Назым — прокурором.
Два настоящих члена суда и прокурор были слишком стары и ленивы. Они мирно дремали на заседаниях и во всем соглашались с председателем. Подлинное разбирательство происходило, таким образом, не в суде, а здесь, — в зале заседаний только выполнялись формальности.
Решение друзья принимали просто. Достаточно было узнать, кто обвиняемый — богач или бедняк. Если бедняк — его оправдывали, если богач — присуждали к наказанию. В кодекс законов и материалы предварительного следствия заглядывали лишь, если обе тяжущиеся стороны были либо бедняками, либо богачами. В общем, как в те годы говорили в России, суд руководствовался не законом, а революционной совестью. В результате судья Зия Хильми стал самым популярным человеком в округе — бедняки готовы были за него в огонь и в воду.
Участие в неофициальных судебных заседаниях на правах, говоря языком современным, общественного обвинителя давало в руки Назыма массу конкретного материала. Социальные конфликты открылись перед ним, как открываются истинные причины болезни на столе патологоанатома. Он пишет свою первую пьесу «Каменное сердце». Но самые реальные конфликты, которые он видит в Болу, приобретают абстрактный, символический вид. Он и в этой пьесе использует фольклорные образы-символы, хотя и пытается их по-своему переосмыслить. Замысел «Каменного сердца» вырос из народной пословицы «Сердце не камень». Герой пьесы крестьянин-бедняк. Возмущенный притеснениями помещика, он убивает его, чтобы посмотреть, есть ли у этого жестокого человека сердце. Но вместо сердца вынимает из его груди камень.
Камень и сердце — жизнь и человек. К этому образу когда-то прибегнул Джелялэддин Руми, говоря о развитии души от камня к человеку. С этого образа начинает в годы национально-освободительной войны Назым Хикмет поиски собственного пути, обнаружив, что условия жизни превращают порой человеческое сердце в камень.
После второй мировой войны, в бурсской тюрьме, Назым напишет пьесу «Об Иосифе, продавшем своих братьев», построенную на фольклорном библейском сказании. В ней он возвратится к тому же образу — камень и человек. Иосиф, продавший своих братьев, обтесывает камень, как свою судьбу, — без шума, упорно, не щадя ни себя, ни камень, ни других, один, без помощи других. И поэт устами каменщика Меиофиса отвечает ему: «Неправильно показал нам Иосиф. Камень надо обтесывать не так. Это верно, надо работать с терпением, с умом, если необходимо, и с хитростью. Без шума, без крика: обтесывать камень, как свою судьбу. Но рядом с другими каменщиками. Любя и камень, и себя, и других. Вот так!»
Каждое новое поколение приходит в мир с ощущением, что жизнь, которая была до него, нуждается в коренной переделке и они, молодые, устроят ее по-своему, лучше и справедливей. Будь иначе, трудно было бы надеяться на будущее мира. Молодому Назыму повезло больше других — в те годы историческое развитие мира слилось в людях с движением их сердец. А это редкое и большое счастье.
Окончились и экзамены в лицее. Пора было отправляться в путь. Но у них не было денег — преподаватели болийского лицея не получали жалованья вот уже много месяцев. Валя сел на гнедого жеребчика Дюльдюль и уехал в Анкару добиваться в министерстве выплаты жалованья.
Тем временем в Болу произошли события, которые заставили друзей поторопиться с отъездом. Сменился начальник округа — мутасаррыф.
Однажды после полудня учителя собрались в «Кофейне беев», выбрали делегатов и отправили их к новому мута-саррыфу требовать жалованья. Среди делегатов был и Назым.
Путь от кофейни к резиденции мутасаррыфа пролегал через рынок ремесленников. Лавчонки, мастерские, торговые ряды ощетинились брезентовыми козырьками. Начался сильный дождь.
Учителя шли за Назымом по рынку, закрывшись зонтиками. Когда Назым подошел к резиденции мутасаррыфа, зонтики исчезли вместе с их обладателями, словно растаяли под дождем. Чиновники не привыкли что-либо требовать у начальства — в султанские времена за это по головке не гладили.
Трусость коллег привела Назыма в ярость. Красный от возбуждения, он приподнял тяжелую занавесь и ввалился в кабинет мутасаррыфа.
Тот сидел за столом, высокий, в папахе. Назым плюхнулся в кресло и приступил к изложению дела. Мутасаррыф оборвал его жестом, отпустил привратника, вошедшего вслед за неучтивым посетителем. Встал из-за стола.
— Жалованье за месяц я уже распорядился выдать, — Сказал он. Остановился перед Назымом. Помолчал. — Мне известно, каковы ваши убеждения, Назым-бей. Я знаю, чем вы занимаетесь в деревне и кто ваши друзья.
Он снова помолчал. Потом сел в кресло напротив и положил руку на колено Назыму.
— Греческие войска начали наступление на Анкару!
Назым вскочил.
— Анкара может пасть.
— И что же?
— Мы объявим здесь в Болу большевизм. Зия-бей станет премьер-министром, ваш друг Валя-бей — министром финансов, Вы — министром внутренних дел. Меня объявите президентом. Мы создадим крестьянскую Красную Армию и пойдем освобождать Анкару. Готовьте сторонников, но обо мне пока ни слова…
Назым вдруг успокоился: надо было действовать.
Что был за человек этот мутасаррыф — провокатор или бывший иттихадист? А может, просто карьерист? Он и сейчас, четверть века спустя, не знал этого. А тогда ему просто не пришли в голову эти вопросы.
Назым вышел на крыльцо. В обе стороны вели вниз каменные ступени. Спускаясь по ним, он прикидывал, на кого можно положиться в их молодежном кружке, кто будет с ними из старых учителей. Ну, а в селах и на рынке ремесленников за председателем уголовного суда Зией Хильми пойдут все.
Мутасаррыф сказал, что начальника жандармерии, то есть сельской полиции, он надеется перетянуть на свою сторону, а вот начальника полиции городской следует опасаться.
Назым и Зия разработали план кампании, дважды встречались с мутасаррыфом.
Но Анкара не пала. Наступление интервентов было остановлено. И мутасаррыф вызвал к себе Назыма.
— Вы должны уехать как можно скорее. Больше вам здесь делать нечего. Только меня подведете…
Через сорок с лишним лет по дороге из Анкары в Стамбул мы заехали в Болу. Новое шоссе проходит теперь за пределами города. Болу, конечно, сильно изменился. Но рынок ремесленников остался таким, каким был, — узкие улочки-ряды, прямо перед лавками вывешены туфли, посуда. Мы заглянули к ложкарю. Купили у него на память длинную деревянную ложку на плоском черенке, с лаковыми цветочками.
Пошел дождь, сначала мелкий, потом все сильней и сильней, как в тот далекий четверг, когда Назым вел по рынку, по этим самым рядам делегацию учителей требовать жалованья.
Мы направились к резиденции мутасаррыфа. Окружной начальник теперь помещается в другом здании. Но прежнее сохранилось в неприкосновенности. Все то же крыльцо с лестницами в обе стороны. Разве ступени чуть больше выщерблены — что для камня полвека?!
Проехав до конца города, мы повернули обратно, к шоссе. И нос к носу столкнулись с полицейской машиной. Она шла за нами из самой Анкары, но на значительном расстоянии. А тут, в Болу, полицейские взволновались: что нужно советским писателям в этом провинциальном городке? И они сели нам прямо на хвост.
Откуда им было знать, что мы просто хотели посмотреть на город, где учительствовал великий национальный поэт Турции, со смертью которого каждый из нас никак еще не мог примириться…
Как только Валя вернулся из Анкары, друзья наняли рессорную повозку, погрузили на нее свое немногочисленное имущество и отбыли в крохотный черноморский порт Акчакоджа. Оттуда на русском пароходе «Корнилов» — он был конфискован итальянцами и ходил под итальянским флагом — перебрались в Трабзон: Турция была лишена права иметь свои суда даже для каботажа.
План у них был таков: скажут, что едут в Каре учительствовать. А в Каре тогда было два пути — долгий, мучительный по бездорожью через Сивас и Эрзрум и более легкий морем до Батума, а оттуда через Тифлис по железной дороге.
Когда они прибыли в Трабзон, город был объят страхом. Политическая полиция Айн-Пэ следила за каждым приезжим человеком. Власти опасались волнений.
В Трабзоне в начале года были умерщвлены пятнадцать коммунистов во главе с основателем Турецкой компартии Мустафой Субхи. Они возвращались из России по приглашению Мустафы Кемаля для участия в национально-освободительной войне. Но в Эрзруме толпа фанатиков-чалмоносцев забросала камнями их тарантасы: «Коммунисты хотят сорвать покрывала с наших жен. Превратить мечети в хлев!»
Власти разоружили Субхи и его товарищей, переправили в Трабзон и ночью якобы для их собственной безопасности посадили на моторный бот, направлявшийся на запад. Но староста трабзонских лодочников посадил на другой бот вооруженную банду и на траверсе мыса Сюрмене взял бот субхистов на абордаж.
Говорят, схватка в море продолжалась два часа. Тела убитых коммунистов были брошены в море. Уцелела лишь жена одного из них, русская женщина, которую бандиты увезли с собой.
Вдохновители преступления неизвестны и по сей день. Ясно одно: староста лодочников и его люди были всего лишь наемными убийцами.
Зия Хильми не решился просить дозволения на проезд через Ватум. У Назыма с Валей хоть была бумага из Болу: направляются, мол, учителями в Каре. А Зия был юристом и, пока суд да дело, поступил на службу в армейское управление. Да и Айн-Пэ наверняка успела пронюхать об их деятельности в Болу. Словом, пусть Назым и Валя едут, он присоединится к ним спустя месяц-другой…
Назым не встретился с Зией Хильми ни через месяц, ни через год. В Болу все были уверены, что этого волевого, умного человека ждет блестящая карьера. Назым полагал, что со временем Зия станет одним из лидеров революционного движения.
Все вышло иначе. После победы над интервентами он вернулся в Стамбул. Компартия была загнана в подполье и разгромлена. На время организация распалась. Существовали лишь не связанные друг с другом, разрозненные кружки. Впереди были годы и годы кропотливого собирания сил.
Зия не желал ждать. Решил создать группу террористов для захвата власти. Как-то на пароходе, курсировавшем по Босфору, он встретился с Валей. Валя к тому времени тоже отошел от своих прежних друзей и убеждений, работал в правой газете.
— Хочешь заработать много денег? — спросил Зия, когда они остались одни. Зия уже не носил бороду. Вид у него был неопрятный, потрепанный.
— Ты лучше сам сначала заработай, — отшутился Валя. Через несколько месяцев газеты сообщили, что Зия Хильми арестован за контрабанду наркотиками. Он рассчитывал обеспечить деньгами свою сверхгероическую деятельность, торгуя героином.
Вспоминая об этом в Москве в конце пятидесятых годов, Назым волновался так, будто речь шла не о событиях двадцатипятилетней давности. Цель, даже самая высокая, никогда не оправдывала для Назыма неразборчивость в средствах.
— Можно, конечно, достичь цели любыми средствами. Но, достигнув, непременно обнаружишь, что если средства были не те, то и цель оказалась совсем иной, чем ты ее себе представлял… Не бывает лжи во спасение истины, бывает лишь ложь во спасение лжи. Цель и средства, как содержание и форма в искусстве, — неразрывны. И если маоцзэдунисты торгуют теперь наркотиками за границей, думая построить с помощью этих денег у себя в стране социализм, то, возведя провокационный авантюризм Зии в ранг государственной политики, они построят, если уцелеют, нечто совсем иное…
Зия Хильми погиб в 1934 году при взрыве тайной лаборатории, где изготовлялся героин.
Но 1 сентября 1921 года, сидя в последний раз вместе с ним в трабзонской кофейне и прощаясь на пристани, откуда пароход увозил их в Ватум, Назым не мучился никакими предчувствиями. Его ждали новый мир, новая жизнь…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |