"Полководцы Древней Руси" - читать интересную книгу автора (Каргалов В., Сахаров А.)
Первый путь
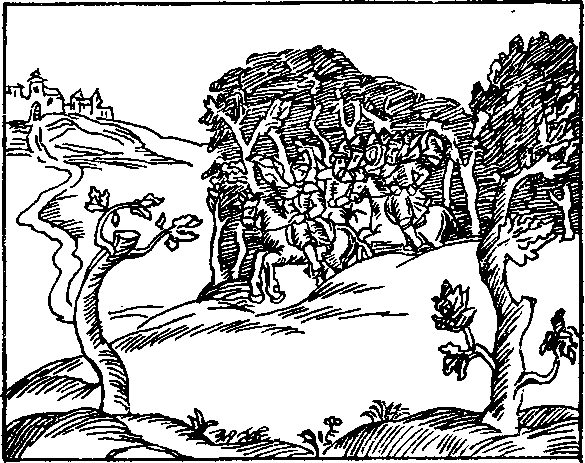 |
Половцы ушли, и переяславская земля начала зализывать нанесенные ей раны. Всю зиму везли смерды мимо города лес на постройку изб, бойко стучали в округе топоры и пели пилы. Леса на северных границах княжества было много, а потому крестьяне окрестных сел, деревень, погостов к весне уже сумели поставить незамысловатые рубленые клети.
Князья и бояре, покряхтывая, доставали из своей казны серебро, отстраивали заново свои подгородные усадьбы, ссужали деньгами смердов своих княжеских и боярских сел. Всю весну тиуны сбивались с ног, возрождая порушенное половцами хозяйство. Многое из того, что взяли переяславцы у торков прошлой зимой, было ныне потрачено на эту спорую и необходимую работу.
Всеволод учил в те дни сына: «Переменчива жизнь. Вчера мы были победителями, сегодня побили нас. И не раз еще так будет в жизни. Она поворачивается как колесо — то счастливым, то несчастливым боком — все катится и катится вперед. И если плохо тебе придется в жизни — не унывай, знай, что повернется снова ее колесо и засияет для тебя солнце. Вся ведь жизнь состоит из тени и света, потому и не скучно людям жить, все время они между радостью и страхом, между отчаянием и надеждой».
Всеволод ласково смотрел в голубые глаза сына, усмехался. «Ну да пока выкинь все это из головы, молод ты еще для этих мыслей, а сейчас запомни: пока смерд у тебя имеет избу, пока он сыт и при коне, орает землю, до тех пор будут у тебя люди в полку, будет хлеб в твоих княжеских амбарах и мод в твоих медушках, но если обнищает и разорится смерд — тогда и княжескому хозяйству грозят неисчислимые беды».
Половцы затихли, но тревога не ушла из княжеского дворца. Всю весну, лето и осень скакали гонцы из Чернигова в Переяславль, а оттуда в Киев и обратно. Владимир видел, что все чаще тень заботы не сходила с лица князя Всеволода. Сыну было уже девять лет, и нередко беседы с гонцами, которым Всеволод наказывал передать свои речи то Святославу в Чернигов, то Изяславу в Киев, то Всеславу в Полоцк, князь проводил в присутствии княжича.
Беспокойство нарастало на Руси. Великий князь Изяслав все больше подпадал под влияние ляхов, которые окружали теперь не только его жену, но и его самого. А вместе с ляхами все больше проникало на Русь латинство, влияние римского клира. Монахи Печерского монастыря все чаще выражали великому князю свое недовольство. Запершись в уединенной келье, Антоний вещал братии, что великие напасти ждут Русь, если она преклонит колена перед еретиками, а монах Никон, который день и ночь трудился над летописным сводом, записывая на пергамент все, что знал о жизни славянских племен и о деяниях князей Рюрикова корня, — тот открыто обличал в ереси и отступничестве от православной веры самого великого князя. И когда Изяслав пригрозил монаху наказанием, святой отец бежал из Киева в Тмутаракань. По пути он был гостем Святослава черниговского и Всеволода переяславского.
Князь Всеволод хмуро слушал медленную, но твердую речь Никона.
— Надо бороться, князь, — говорил монах, — по своим гнездам не отсидитесь, когда чужеземцы захватят главное наше гнездо — Киев. Уже сейчас они верховодят за спиной великого князя Изяслава, прикрываются его именем, расставляют повсюду своих людей из киевлян. Уже и тысяцкий и посадник гнут в сторону латинства, а там наступит очередь других городов. Пропадет с таким трудом собранная Русь.
Всеволод думал о другом. К нему что ни месяц шли гонцы из Константинополя. Греческий патриархат очень надеялся, что третий Ярославич, зять византийского императора, надежда и опора истинного православия на Руси, не допустит усиления в Киеве проклятых еретиков.
Всеволод, давно и тесно связанный с византийским двором, просто не мог смириться с тем, что митрополита Ефрема при дворе Изяслава все более оттесняли от дел государственных, и он находил душевное отдохновение здесь, в Переяславле, на далекой русской окраине. А Святослав все слал и слал гонцов к младшему брату, обличая Изяслава не только в ересях, но и в прямой измене. «Великий князь, — наказывал Святослав передать Всеволоду, — рушит отцовский завет. Вот он уже захватил Новгород — прирожденную отчину Владимира Ярославича, подмял под себя Туров, свел Ростислава из Ростова и Суздаля и готовит захват этих столов под свою руку. Нельзя медлить, князь, Ростов и Суздаль — испокон веку принадлежали переяславскому столу, посылай туда Владимира, дай ему с собой добрых бояр. Изяслав вместе с Всеславом полоцким замышляют извести нас, своих братьев, и захватить всю Русскую землю».
Сеял Святослав семена злобы и ненависти в сердце Всеволода, и тот, гневясь, запалялся сердцем против князей киевского и полоцкого.
Дурные вести шли и с венгерского порубежья из Владимира-Волынского. Там сидел сведенный из Ростова и Суздаля Ростислав Владимирович. Он женился на Ланке, дочери венгерского короля Белы I, и она родила ему вслед за старшим сыном Рюриком еще двух сыновей — Василько и Володаря. Теперь Ростислав силен не только своей силой, но и силой своего тестя — венгерского властелина. Доходили слухи, что Ростислав будет искать для себя нового, более почетного стола, чем далекий Владимир-Волынский. Он говорил, что после смерти Игоря Ярославича вот уже столько лет свободен смоленский стол, и почему бы не отдать этот стол ему, сыну старшего Ярославича.
Беспокойство усилилось, когда в Переяславль дошли слухи о том, что Волхов пять дней тек вспять. Это было плохое знамение. И вскоре оно оправдалось. Из Полоцка вышел Всеслав и сжег Новгород, и тут же пришли вести из Владимира-Волынского. Белокурый красавец Ростислав поднял оружие против братии и бежал в Тмутаракань.
Было это в 1064 году, когда Владимиру Мономаху исполнилось одиннадцать лет. Он живо вспомнил заносчивые взгляды Ростислава, настороженность при виде его старших князей — братьев. Теперь Ростислав скакал к морю, минуя черниговские и переяславские земли, а вместе с ним гнали коней на восток преданные ему дружинники, сбитые вокруг него еще при отце в Новгороде, а позднее — в Ростове и во Владимире. С ним ушли в Тмутаракань и два его ближних боярина — Вышата, который служил еще его отцу и водил при нем княжескую дружину, и Порей — видный киевский воевода. Оба были недовольны старшими Ярославичами, особенно Изяславом, нарушившим их законные права в Новгороде и Киеве, и теперь князь-изгой и его бояре мечтали укрепиться в Тмутаракани, вдали от Киева.
Тмутаракань манила к себе всех обиженных и обойденных. Здесь, на юго-восточной окраине Руси, вблизи дикого поля, рядом с византийским Херсонесом князья не чувствовали на себе властной руки киевского князя. Приятно тревожили и воспоминания о былом. Разве не здесь, в Тмутаракани, сидел удачливый брат Ярослава Мстислав Владимирович, который захватил у Киева половину его земель и провел границу по Днепру. Разве не отсюда ходил он со своей удалой дружиной на ясов и касогов, рубился в поле с печенегами, прославив Русь своими подвигами?
Ростислав не хотел более ждать и выглядывать из-за плеч старших Ярославичей: мечом решил он добыть себе место среди Ярославова племени.
И разом всколыхнулись Киев, Чернигов и Переяславль. Изяслав боялся, что захочет Ростислав вернуть Тмутаракани прежнюю Мстиславову славу, Святослав черниговский был в ярости оттого, что посягнул Ростислав на его родовую отчину, где сидел его старший сын Глеб. Заволновался и Всеволод, ведь Ростислав, княживший в его владениях — Ростове и Суздале, мог теперь, опираясь на удалую дружину, отвоевать себе эти столы.
В Переяславль пришли гонцы из Византии. Греки просили передать русским князьям, что им вовсе не хочется видеть рядом
А Ростислав тем временем ворвался в Тмутаракань, выбил оттуда Глеба и захватил тмутараканский стол. И тут же, не дожидаясь помощи других князей, Святослав двинул свою дружину на юг.
Внимательно следили за этой межкняжеской схваткой в Киеве, Переяславле, Полоцке и иных русских городах.
Не стал Ростислав биться со своим стрыем. Добровольно вышел из города, вывел в поле свою дружину, позволил Глебу опять сесть на тмутараканском столе. Но едва Святослав ушел обратно в Чернигов, как Ростислав вновь выбил Глеба из Тмутаракани.
Теперь князь Всеволод говорил Владимиру Мономаху: «Смотри, князь, на своих врагов. Смотри, как мужают они. Ростислав и маленькие Ростиславичи, если не задушить это семя в зародыше, отнимут у тебя не только Ростов и Суздаль, но Переяславль».
И в душе Владимира пробуждалось недоброе чувство к только раз виденному им Ростиславу Владимировичу и неведомым еще для него маленьким его сыновьям Василько и Володарю.
…Изяслав в ярости ходил по палате в своем теремном киевском дворце, кричал, что все князья обманывают его, великого князя, норовят развалить Русь, не слушают его кпяжеского слова, что от Ростислава — этого глупого кудрявого забияки — только и можно было ждать всяких пакостей. Теперь вместо того, чтобы заниматься делами государскими, нужно собирать рать, помогать Святославу утишить расходившегося племянника. А тут с юга пришли новые вести. Киевские сторожи донесли, что в обход переяславских границ половецкий хан Искал шел на киевские земли.
По очереди обирал Искал русские земли: с переяславских сел и городов теперь многого не возьмешь, многие из них стоят голые и обгорелые до сих пор, а там, где руссы отстроились, избы все равно стоят пустые. Иное дело земли киевские; давно не были здесь иноземцы, полна киевская земля разным добром.
И пришлось Изяславу, позабыв княжеские распри, спасать Русь от половцев. Попал Искал на Русь в неудобное для себя время. В Киеве наизготове стояла рать, подготовленная к походу на юг, и теперь, едва весть о выходе половцев достигла Киева, и дружина и полк вышли навстречу им на реку Сновь. Там 1 ноября 1064 года половцы и натолкнулись на киевскую рать. Отяжеленные захваченной добычей, уверенные в том, что руссы еще далеко, так как не успели собрать людей под кпяжеские стяги, половцы не побеспокоились о сторожах, не успели изготовиться к бою. Тут их и настигли руссы. Половцы не смогли развернуть свою конницу облавой, пошли с руссами в рукопашный бой, и руссы начали теснить их, а потом с громким криком навалились сильнее, и побежали половцы. Двенадцать тысяч пало их па берегу застывающей реки; погибли в битве многие знатные всадники и вместе с ними сам Искал.
Сотни пленных, табуны лошадей, горы всякого добра захватили воины Изяслава. Но не радовался киевский князь, знал, что наступит день и придут половцы отомстить за своих сородичей и надо ждать их скоро.
Гонцы с вестью о победе на Снови поскакали в Чернигов и Переяславль. Они же везли и предупреждение князьям, чтобы ждали большого половецкого выхода, готовились, опасались.
Получив это известие, забеспокоился и Всеволод, приказал воеводам усилить сторожевую службу, Сам не раз вместе с Владимиром выезжал по ночам к Змиевым валам.
В непроглядной темноте скакали всадники в диком поле, пока не натыкались на оклики сторожей, потом сидели с воинами в их теплых землянках, расспрашивали, чем живет степь, были ли видны половецкие сторожи, а если да, то где, откуда ждать очередной половецкий выход.
Говорил в те дни отец Владимиру, чтобы никогда не полагался он на воевод и разных служилых людей, а чтобы во всем полагался только на себя: «Сам не проверишь, князь, сторожи, крепости, оружие, — никто за тебя это не сделает. Передоверишься людям — не оберешься беды. Князь должен быть хозяином во всем». Владимир внимал отцу, удивлялся, что тот все чаще называет его князем, учит таким жизненным хитростям, о которых он в свои юные годы и не помышлял. И с каждым днем постигал теперь Владимир всю сложность и жестокость жизни, всю ее страшную беспощадность к ошибкам, слабостям, колебаниям, легкомыслию.
А на Волыни разгорался пожар междоусобицы. Ростислав попытался отправить свою жену и сыновей в Венгрию к Беле I, но Изяслав упредил его: великокняжеский отряд занял Владимир-Волынский. Ланке Изяслав позволил уехать к отцу, а сыновей Ростислава задержали на Волыни, и они оказались в руках киевского князя. И сразу утих Ростислав — не на Киев, Чернигов и Переяславль направил он свою рать, а на окрестные народы: покорил касогов и возложил на них дань, повоевал иные близлежащие страны. Все чаще и чаще задевала его дружина византийские границы.
В Херсонесе боялись нашествия русского князя. И тогда совершилось великое злодеяние, о котором шепотом рассказывали в переяславском княжеском дворце: херсонесский стратиг отравил князя Ростислава.
Владимир хорошо представлял себе этот пир, в тмутараканском княжеском дворце, куда был приглашен византийский наместник. Столы ломились от яств и дорогих вин, и стратиг поднял чашу за дорогого друга князя Ростислава и отпил из чаши половину, а другую половину отдал князю и при этом дотронулся ногтем до края чаши и выпустил из-под ногтя смертное растворенье.
На восьмой день должен был умереть Ростислав. Так сказал стратиг своим людям, вернувшись в Херсонес. И на восьмой день умер тмутараканский князь. А на его место вновь сел старший Святославич — Глеб.
Сразу одной заботой меньше стало у Ярославичей. Ушел из жизни смелый и опытный противник.
Владимир спросил у отца, не покарал ли бог стратига за такое коварство: ведь он поднимал чашу за здоровье Ростислава, а сам уже готовил его смерть. Всеволод задумчиво посмотрел на сына, сказал уклончиво: «А что хотел бог в это время, может быть, он уже звал князя к себе и срок того на земле уже истек, кто знает. Ведь все предопределено свыше».
— Когда сам станешь князем, то поймешь, что ныне власть нельзя сохранить только честью. Избави тебя господь, сын мой, но думаю, что и тебе придется испить горькую чашу душевных мучений, когда станешь выбирать свой путь в борьбе с врагами. Власть любит людей, которые способны идти без оглядки. Увы, но власть любит также людей скрытных и льстивых, коварных и смелых. Зри — простодушие, искренность и власть никогда не идут вместе. А стратиг… его побили камнями херсонесцы. Ведь они боялись, что дружина Ростислава отомстит за него и разорит город».
А знамения все продолжались, предвещая всякое худо.
В небе показалась звезда, будто истекающая кровью, и говорили люди, что знамение это — к крови, к междоусобицам и к нашествию иноземцев. В то же время переменилось солнце, чернота застила его свет, и казалось, что кто-то снедает его.
Тогда записал летописец под 1065 годом: «Знаменья бо в небеси, или звездах, ли солнца, ли птицам, ли етером чим,[41] не на благо бывает, но знаменья сице на зло бывает, ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть проявляют».
И правду сказал летописец, потому что в этот же год вслед за Ростиславом выступил против старших Яросла-вичей Всеслав — князь полоцкий. Он напал на Псков, а на следующий год вновь подступил к Новгороду. Яростен был удар Всеслава по Изяславовым владениям. Полоцкая рать ворвалась в город и пошла по дворам, хватая жителей в плен, уводя их в холопство и на продажу, грабя дома и храмы. Всеслав не пощадил и святой Софии Новгородской — приказал снять с нее колокола и увезти к себе в Полоцк, а из самого храма люди Всеслава вынесли паникадила.
И снова гонцы поскакали по Руси с тревожными известиями, лгередавая речи князей друг другу. Что делать, куда направить рати? На юге неспокойно живет Тмутаракань, на севере Всеслав, совершив дерзкий выход, мрачно сидит в своем Полоцке, ждет, что будут делать Ярославичи. Стоят открытые столы в Ростове и Суздале, Владимире-Волынском и Смоленске.
Наступил 1066 год. В Тмутаракани наконец воцарился мир, Глеб вернул себе престол, но тревога на Руси не утихла. Владимиру Мономаху исполнилось тринадцать лет.
Едва подсохли дороги и пробились пути из Переяславля на север, князь Всеволод призвал к себе сына и приказал ему собираться в дорогу: «Поедешь в Ростов и будешь держать там нашу исконную переяславскую отчину — ростово-суздальский стол. Ты уже не отрок, а взрослый князь, многое уже ты видел, многое знаешь; правда, сердце у тебя мягкое, пылкое, ну да жизнь тебя выправит, закалит, подскажет, где и как показать себя».
Всеволод сказал сыну, что с Всеславом полоцким началась настоящая война; князь не идет на мировую, гонит гонцов прочь, хочет отложиться от Киева, не признает Ярославичей за старших: князей, рушит все, что завещал детям Ярослав Владимирович. Его же, Владимира, дело — строго блюсти порядок в ростово-суздальской земле, управлять ею по совести и по разуму, готовить рать против Полоцка: не сегодня завтра Ярославичи не на жизнь, а на смерть схватятся с Всеславом.
Вместе с Владимиром князь Всеволод посылал опытных своих дружинников, часть младшей дружины и Владимирова друга Ставку Гордятича.
Через несколько дней в шестом часу утра конный отряд потянулся через крепостные ворота на север. Впереди ехали старшие дружинники, за ними — князь Владимир Всеволодович и Ставка Гордятич, далее шли телеги с княжеским и боярским добром, посудой, одеждой, другим рухлом, замыкала строй младшая дружина.
Выехав за ворота, Владимир оглянулся: пустынны в это время были переяславские валы, закрыты окна домов, лишь в княжеском тереме одно из окон было отворено. В темном его проеме смутно белела чья-то фигура. Владимир не видел лица, но знал твердо, что это мать поднялась на верх терема и теперь провожает сына в его первый взрослый княжеский путь. Ему захотелось снять шапку и помахать ей на прощанье, но он покосился на суровые лица всадников и лишь отпустил узду, ускоряя ход коня. Скоро Переяславль едва виднелся у края неба темной полосой, а вскоре исчезла и она.
Всего одну строку напишет под старость лет в своем «Поучении» Владимир Мономах об этом своем пути: «Первое к Ростову идох, сквозе вятиче, посла мя отец». Но и в молодые годы и позднее, будучи уже видным на Руси князем, он будет помнить этот свой первый путь от ворот переяславских до ворот ростовских.
Отряд миновал поле, и вскоре пошли перелески и дубравы. Все это была еще земля переяславская привольная, открытая и веселая. Но через несколько дней пути все переменилось: гуще и сумрачней становился лес, все меньше было света вокруг, и наконец лес надвинулся со всех сторон сплошной чернотой, застил и землю, и небо, и воздух, обнял всадников прелым сладким запахом, постелил им под ноги мягкие, неслышные мхи.
Вначале путники ночевали в небольших селах, что в этих северных краях уцелели от Искалова разгрома. Здесь стояли рубленые четырехстенные избы; в них было тепло и сухо. Смерды угощали князя и его людей чем бог послал — молоком, яйцами, медом. В одном из сел Ставка Гордятич, остановившись на постой в избе, отнял у хозяина барана и несколько кур, приказал зажарить их на вертеле для себя и своих людей. Подняли шум люди Ставки Гордятича возле дома, завыла в голос хозяйка избы.
Владимир в это время сидел за трапезой. Он быстро вышел на шум, подозвал к себе дружинников Ставки, велел им оставить живность в покое, а потом вошел в избу к Ставке. Тот был на два года старше Мономаха, повыше его ростом — совсем взрослый воин. Он сидел на лавке, пил мед и ждал, когда люди принесут ему зажаренное мясо.
Владимир подошел к своему другу, загораясь от возбуждения, сказал ему, срываясь на крик: «Боярин, прикажи своим людям оставить смердов. Мы не половцы, и они не враги наши. Ограбим их, кто будет платить положенную дань — и бараном, и курицей, и яйцом, и медом, и воском, и скорой?»
Ставка, захмелев, пытался усадить князя за стел, вновь вернуть его к товариществу, но тот упрямо стоял на своем: «Оставь, боярин, прикажи своим людям уйти со двора, не то я велю своей дружине выбить их отсюда».
Ставка смотрел на Владимира. Тот стоял — вскипевший, беспокойный отрок с горящими голубыми глазами, с дрожащими от гнева руками и крепко сжатыми губами. Ставка опустил голову и вышел из избы…
В лесной чащобе селения исчезли, и путникам приходилось располагаться на ночлег прямо на земле.
Дружинники клали на мох еловый лапник, сверху стелили попоны, ковры, и ложе для князя было готово. В изголовье клали седло. Так Владимир провел несколько ночей.
Потом пошли земли вятичей.
Среди лесов вдруг открывались тихие реки, а вдоль их берегов стояли рубленые желтые избы, и синие дымки от их очагов уходили в темноту леса. Из изб выходили молчаливые люди — бородатые, в лаптях мужчины, закутанные в платки до самых бровей женщины, смотрели светлыми глазами на проезжавших путников. Иногда им встречались небольшие отряды воинов, вооруженных боевыми топорами, вилами, палицами, одетых в кожаные латы. Они так же молчаливо смотрели на Мономахову дружину, шли некоторое время следом, затем растворялись в лесной чащобе. Чем ближе переяславцы подвигались к Ростову, тем гуще шли лесные поселения и на дорогу выходило больше молчаливых светлоглазых людей.
Отец предупреждал Владимира, что с вятичами задираться нельзя. Хотя и покорены они были еще Святославом и признавали власть Киева, но многажды с тех пор воевали против киевских князей, стремясь вернуть свои вольные порядки и освободиться от обременительной киевской дани. На вятичей ходили походами, их снова покоряли, но они отсиживались в своих лесах и вновь брались за топоры и палицы.
Ставка Гордятич был недоволен тем, что вооруженные вятичи шли следом за путниками. Он хватался за меч, обещал разнести холопов, но Владимир тихо и настойчиво убеждал Ставку не заводить свары: «Убьешь двух-трех, — говорил он своему другу, — оставшиеся в живых разбегутся, а ночью всех нас вырежут, а ведь нам до Ростова доехать надо», — и улыбался мягкой улыбкой, щуря голубые глаза. Отец учил его, что сидеть в Ростове и Суздале надо тихо: вятичи требуют чести и уважения, и тогда с ними легко говорить, и теперь Владимир старался выполнять советы отца.
Ростов вырос среди лесов неожиданно — высокая, рубленная из тяжелых бревен стена с частоколом на ней, островерхие крыши деревянных домов, теремов, церквей — крепкое, ядреное, чистое дерево.
С этого дня началась для тринадцатилетнего Владимира самостоятельная и нелегкая княжеская жизнь.
Перед отъездом Владимира на север весь вечер говорили они с Всеволодом о том, как жить молодому князю в Ростове, как хозяйничать, с чего начинать.
А начинать отец наказывал с создания полка. Предстоит тяжкая борьба с Всеславом. Он князь удалой, живет, говорят, волхвованием, и взять его трудно. За ним стоят удалые же полочане, минчане и люди иных тянущих к Полоцку городов. Выходить против него можно лишь едиными силами всех Ярославичей и с подмогой, какую бог пошлет. А его, Владимира, дело — изготовить против Всеслава ростово-суздальскую дружину и полк вятичских горожан и смердов.
Всеволод сказал сыну, что он вместе с Изяславом и Святославом решил ударить по землям Всеслава к зиме 1067 года, едва соберут свои рати, а потому он, Всеволод, вскоре после отъезда Владимира двинется к Курску, где они со Святославом условились встретиться перед походом против полоцкого князя.
Теперь, сидя в незнакомых, таких маленьких, тесных, но так приятно пахнувших живым деревом хоромах, Владимир вспоминал лесных вятичских воинов, которых ему надлежало вести на Полоцк. Как говорить с ними? Как привлечь к себе? Здесь силой гнуть нельзя, можно самому сломаться, да и хватит ли силы-то — у него пятьдесят человек дружинников, да и у Ставки Гордятича двадцать человек. А ему очень не хотелось появиться среди князей с худшей, чем у других, ратью. Владимир вдруг почувствовал, как в его душе пробуждаются те же тревоги, которые заботили его отца, князя Всеволода, там, в киевской Софии. Он вдруг почему-то вспомнил, как отец негодовал, когда Святослав выдвигался на хорах впереди своей братии, как зло смотрел на Ярославичей Ростислав. Теперь Владимир стал понимать, что он никогда не согласится быть последним среди них. И пусть он сын младшего Ярославича, пусть трудно ему будет среда большого Ярославова рода, но ведь в конце концов добивается тот, кто очень хочет чего-то добиться.
Исподволь, осторожно начал молодой князь увеличивать число своей дружины, приглашал к себе в хоромы местных боярских детей, смутно обещал предстоящие походы (боялся открыть намерения старших князей), рассуждал о воинской славе и доблести. Дети боярские хмуро слушали восторженного мальчика, бредившего, как им казалось, ратными подвигами, уходили прочь. После Ставка говорил с укором Владимиру: «Не об этом с ними надо толковать, князь. Обещай им добычу — рухло, серебро, дорогие ткани, челядь, красивых полочанок, — тогда пойдут они за тобой». Владимир слушал Ставку, и все поднималось в нем против его советов: разве можно такими жестокими и нечестивыми речами привлекать людей, разве можно разжигать в них ненависть и жадность?
Но время шло, подступала зима, а княжеское войско пополнялось плохо. И тогда он позвал к себе воеводу и спросил, что надо сделать для того, чтобы люди сами согласились пойти с ним на рать. Воевода сказал коротко: «Обещай им, князь, десятую часть всей добычи и отдание на поток захваченных домов».
После этого разговора Владимир долго размышлял, сомневался, совестился сердцем, по деваться было некуда, и он сказал воеводе: «Пусть будет так».
С людьми незнатными и неродовитыми был другой разговор. Этим Владимир просто приказывал быть наизготове к зиме, если не хотят опалы.
Особые речи вел он с тысяцким — начальником ростово-суздальского ополчения. Как поднять ремесленников и смердов? Как заставить хотя бы некоторую их часть взяться за оружие, чтобы усилить небольшую княжескую дружину? Владимир с тысяцким решил быть откровенным, после разговоров с воеводой дело у него пошло легче.
— Будем брать зимой на щит полоцкие города, люди в случае победы получат десятую часть всей добычи: куны, рухло, пленников — мужчин, женщин, детей.
К зиме Владимир почти на пустом месте сумел создать небольшую, но крепко сбитую рать из его увеличившейся княжеской дружины, людей Ставки Гордятича и городского полка. Почти каждого воина князь знал в лицо, и каждый из них знал, куда и зачем зовет их Владимир. А звал оп, как наказывал отец, отомстить полочанам за разгром Новгорода, за поругание святой Софии. Но уже начинал понимать юный князь, что одними благими призывами нельзя поднять людей в тяжелый поход. Люди не пойдут на смерть ради непонятных и далеких целей. Что для них святая София, когда многие не видели ее и в глаза? Что для них Всеслав, когда никому из них он лично не грозил и не отнимал у них имений, землю, скот и не пленил их?
Поэтому все чаще просил князь своих людей рассказывать ратникам о богатствах и красоте полоцких городов, о полных разной утвари домах тамошних бояр и дружинников, о набитых снедью амбарах. И сам он зачастую говорил своим людям о добыче, которая ждет их в этом походе, и видел, как внимательно слушают его дружинники, как крепнет в них желание подняться в ратный путь.
К зиме 1067 года Ярославичи изготовились к войне с Всеславом, и Всеволод послал к сыну гонцов. Гонцы, пройдя сквозь застылые вятичские леса, по еще неглубокому снегу пришли в Ростов к исходу декабря и передали Владимиру речи Всеволода. Отец приказывал Владимиру привести ростово-суздальскую рать под Минск к концу января. Туда же к этому сроку подойдут рати из Киева, Чернигова, Переяславля и иных, младших городов. Оттуда и начнется война с Всеславом.
В начале января над русскими лесами прошли обильные снегопады, и снег не только плотно укутал землю и все сущее на ней, но и прикрыл все дороги, ведущие из Ростова в другие княжества. Потом ударили лютые морозы. Птицы падали прямо с небес заледенелыми комками лес трещал под напором небывалого холода, потрескивали и стены рубленых ростовских хоромов, дым из жарко натопленных печей поднимался ввысь стройными синими свечами и так и стоял недвижно в морозном воздухе.
Владимир оглянулся на застывший, зарывшийся в снегу город, снял меховую варьгу, перекрестился на видневшиеся из-за крепостных стен деревянные купола храма и тронул поводья: ростово-суздальская рать двинулась в свой первый с новым князем поход.
Владимир ехал верхом, одетый в теплую меховую шубу, в теплых же небоевых валяных сапогах. Его броню, шлем, щит везли в санном обозе, который следовал за ратью. Так же в теплой одежде без броней ехали верхами и дружинники. Но все были при мечах — таково было распоряжение князя; а впереди основной рати была выслана небольшая сторожа для разведывания пути — жизнь на границе дикого поля приучила Владимира к осторожности, и теперь он свои переяславские привычки перенес на ростово-суздальский север.
Он ехал впереди своих воинов, рядом колыхался свернутый княжеский стяг. Владимир как бы смотрел на себя со стороны: вот он уже не мальчик, не княжеский сын, а самостоятельный взрослый воин, и все эти люди, что едут за ним следом, прислушиваются к его словам, выполняют все его указания и не на потеху, не на прогулку с пестуном к Змиевым валам едет сегодня Владимир, а на настоящий бой со славным и известным по всей Руси воителем — князем Всеславом Брячиславичем. Сердце его замирало от счастья и тревоги, и он понимал, что отныне совсем кончается его детство и начинается какая-то другая для него жизнь, полная чувств, которые ему еще не доводилось изведывать.
Ехали от восхода до захода солнца с частыми, но небольшими привалами; грелись у костров, ночевали по селениям, куда заранее приходила сторожа и готовила ночлег для князя и всей рати. В первом же селе, где остановились Владимировы воины, по домам снова начался крик, а потом к избе, где остановился князь, побежали с жалобами на ратников здешние мужчины и женщины. У одних воины забрали кур; у других закололи на пищу бычка; у третьих вытащили из медуши кадку с медом.
Владимир накинул на плечи шубу, вышел на крыльцо, сказал воеводе и тысяцкому: «Уймите воинов. Если будем грабить своих людей, то не то что до Минска — свои леса не пройдем». Не кричал, не срывался, как несколько месяцев назад в вятичских лесах. Сказал тихо, спокойно, но твердо, потому что убежден был в правоте своих слов. И поседелые воевода с тысяцким склонили головы в знак согласия с князем.
О приближении к Минску они узнали по многочисленным кострам, которые воины Ярославичей разложили вокруг города и около которых обогревались. В сумерках огни бросали розовые отблески на ослепительно белый снег, и казалось, что все поле под городом покрыто бледно-розовым ковром, по которому бежали от качающихся огней темные тени.
Рать Владимира в молчании прошла мимо говорливых киевлян, мимо задиристых черниговцев, которые и здесь насмешками, острым словом старались задеть ростовцев и суздальцев. Но вот и переяславская рать. Послышались дружеские голоса, воины Владимира узнавали своих друзей, родственников. Здесь была своя, переяславская отчина, хотя и находилась она в полоцкой земле.
Владимир прошел в шатер к отцу. Тот сидел на походной скамье, закутавшись в огромную меховую шубу. В качающемся пламени свечей блестели глаза близких отцовых дружинников, пар от их дыхания поднимался к вершине шатра, оседал инеем на стенах.
Наутро в шатре князя Изяслава Ярославича состоялся совет. От нагретых на кострах камней в шатре было тепло. Князья сидели без шуб и шапок в походных одеждах. Несколько лет не видел их Владимир, со времени памятной службы в соборе святой Софии. Изяслав был все так же суетлив и многословен, неуверен в движениях, говорил и постоянно обращался к князьям за сочувствием. Святослав черниговский располнел лицом, плосковатый нос его еще более расплылся по лицу, маленькие глазки смотрели строго и со значением, раскинутые на обе стороны лба волосы по-прежнему были густыми, темными, но когда князь поворачивал голову, то сзади на затылке видна была большая проплешина, которую Святослав тщательно прикрывал волосами. Всеволод спокойно и внимательно слушал говорившего старшего брата, Святослав же все время перебивал его, значительно поджимал губы. Казалось, что у него была лишь одна забота — как бы кто из князей не подумал, что он, второй Ярославич, — и по рождению, и по чину, и по уму стоит ниже Изяслава, и Святослав пыжился, надувался, не следил за делом, а следил лишь за тем, как он сам воспринимался сидевшими в шатре князьями и воеводами.
Владимир вспомнил, как Святослав старался выступить вперед, встать перед другими князьями в Софийском храме, и теперь Мономах с сожалением смотрел на болезненные усилия Святослава словом, жестом подчеркнуть свое значение среди других князей Ярославова рода. Рядом с Изяславом сидел его сын Ярополк, а из-за спины Святослава выглядывали его старшие сыновья Глеб, Олег, Давид и Роман. Глеб привел с собой тмутараканскую дружину, остальные Святославичи еще не имели столов и поэтому особенно заносчиво поглядывали на Ярополка Изяславича и Владимира Мономаха. Святославичи пошли в отца — завистливые, тщеславные, себялюбивые. Владимир с интересом смотрел на своих двоюродных братьев. Он был младшим среди них. И вдруг у него промелькнула мысль, и он даже вздрогнул, будто укололся об нее — так это сколько же ждать ему, Мономаху, внуку византийского императора, первенства в этом многоликом роде? Ведь он среди них самый молодой и сын самого молодого Ярославича. Но он тут же прогнал эту непрошеную опасную думу и стал слушать, о чем советовались князья.
Минчане затворились, и теперь город можно было взять только приступом. Изяслав еще говорил о переговорах, о том, что надо бы минчан привлечь на свою сторону, оторвать их от Всеслава, наобещать вольности и свободы. Святослав же не хотел слышать ни о каком мирном исходе дела, значительно поджимал губы, делая продуманные перерывы между своими словами, он пе торопясь доказывал, что надо разорить Всеславовы города, выбить из-под него опору, избить людей, чтобы не смог он впредь из них набирать свои рати. «На щит, на щит надо брать Минск», — напыщенно закончил Святослав. И вместе с его последними словами согласно затрясли головами его сыновья, и уже умудренный жизнью Глеб, и совсем еще молодой Роман. Олег же, почти одногодок Владимира, лишь победно поглядывал по сторонам.
Всеволод молчал, и Владимир понимал, что отцу не хочется ссориться с братьями, что он давно уже устал от их бесконечных жалоб друг на друга и препирательств. Миром так миром, на щит — так на щит; Всеволоду, кажется, было все равно. Раз уж переяславско-ростово-суздальская рать вошла в полоцкие пределы, то теперь надо доводить дело до конца, иначе от Всеслава не будет спасения.
Победил, как всегда, настырный, хорошо все рассчитавший Святослав. Недовольный собой и братьями, уступил ему Изяслав, а Всеволод и на этот раз отмолчался.
Решено было во второй день первой недели февраля брать Минск приступом.
Несколько дней подряд воины Ярославичей валили деревья, делали приступные лестницы, готовили тараны, чтобы бить ими в крепостные ворота, и во вторник поутру пошли на приступ.
Напрасно минчане метали в них стрелы, лили сверху кипяток и смолу, отпихивали лестницы баграми, — слишком неравны были силы. Осаждавшие ворвались на крепостные стены, там среди частокола сбили вниз защитников города и следом за ними ворвались на улицы Минска. И сразу же стон повис над городом. Вошедший в город уже сквозь открытые ворота следом за своей дружиной Владимир с ужасом увидел, как озверелые люди секут по улицам уже не сопротивляющихся минчан, бьют их булавами и мечами, глушат щитами; выламывая двери, врываются в дома, а оттуда вместе с клубами пара, истошными криками вываливают на снег разную рухлядь, тут же хватают и делят ее между собой и отвлекаются от этого дележа, чтобы сразить дерущихся за свое добро жителей. Стоны, крики и рыдания, победные возгласы, проклятия — все это смешалось в едином вздохе взятого на поток города.
Владимир бросился к своему воину, который одной рукой тащил за волосы упирающуюся молодую женщину, а другой нес узел с наспех набитым в него добром. Женщина кричала истошным голосом, рвалась прочь, а воин лишь крепче схватывал ее распущенные волосы и волок туда, где собирали пленных, будущую челядь. Воин заметил движение Владимира, бросил ему на ходу: «Не мешай, князь, теперь наше время». И Мономах вспомнил, как он сам, сидя в своих ростовских хоромах, соблазнял тамошних детей боярских будущей добычей. Вот она, добыча! Русские люди избивают русских людей, не печенегов, не половцев, а своих же единоверцев, которые страдали за чужие вины и вся беда которых была в том, что Всеслав Полоцкий не ужился в мире с князьями Ярославичами.
Потом Минск запылал, и Владимир как завороженный смотрел на бешеную пляску огня, дыма, искр, которые метались по городу, сжирая все, что не успели взять нападавшие рати. С веселым треском горели деревянные дома, рушились храмы божии. Сеча затихла, и теперь и нападавшие, и оставшиеся в живых минчане отходили подальше от огня.
Так пала одна из крепостей Всеслава.
Несколько дней делили победители захваченное добро; поделили и всех оставшихся в живых минчан — мужчин, женщин и детей.
А потом лазутчики донесли Изяславу, что Всеслав вышел с ратью из Полоцка и собирается идти на речку Немигу, близ Минска, чтобы отбить город обратно. Туда и повернули свои рати Ярославичи.
В непролазном снегу двигались рати Ярославичей к Немиге. Кони выбивались из сил в сугробах; пешцы брели, едва передвигая ноги; в снежном развороченном месиве медленно ползли две черные людские реки, два противоборствующих войска навстречу друг другу и сошлись в бою 3 марта 1067 года.
Объединенная рать Всеволода и Владимира Мономаха развернулась слева от войска Изяслава. Черниговский князь наступал с правой руки. Владимир, сидя на лошади стремя в стремя с отцом, видел, как полоцкие всадники ударили по киевскому полку, прогнули его, но не сумели пробить в нем брешь и рассеять воинов, кони полочан вязли в снегу, двигались медленно, неуклюже.
«Вон, смотри, князь Всеслав», — показал Всеволод сыну в гущу полоцких всадников. Там на черном коне крутился в снегу всадник, он размахивал мечом, понукал своих воинов идти вперед. Чародей, закутанный в синюю мглу, как звали его на Руси, задыхался в глубоком снегу на берегу Немиги. Владимир видел мрачное лицо Всеслава, его яростный раскрытый рот, белую пену отчаяния и бессилия на морде черного как смоль коня, и ему почему-то стало вдруг жаль и этого мрачного князя, и его людей, утопающих в снегу, и его уставшую лошадь, не было к ним зла или яростной ненависти.
И тут он увидел знак с киевской стороны. Изяслав просил помощи, приказывал крыльям союзной рати атаковать Всеслава. И зашевелились переяславская и черниговская дружины, подтянулись к всадникам пешцы. Всеволод и Владимир тронули стремя…
Автор «Слова о полку Игореве» писал через сто с лишним лет об этой несчастной для Русской земли битве: «На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брезе не бологом бяхуть посеяни, посеяни костьми руских сынов».
Переяславцы и черниговцы быстро охватили с боков войско Всеслава, киевляне оправились от первого удара полочан и с криками тоже двинулись вперед. В снежной разворошенной каше закрутилось, сбилось в кучу войско Всеслава. Мерно поднимались и опускались боевые топоры, мечи, дубины рассекали, рвали на части кольчуги, тулупы, тела; белый снег все больше превращался в грязно-красное месиво, в котором зарывались кони и люди, утопали, задыхались в нем под грудами убитых и раненых воинов. И над всем полем боя неслись какие-то пустые хлопотливые звуки: стук, короткие вскрики, приглушенные стоны, лошадиный храп. Люди совершали свое ужасное дело — убивали других людей, и звуки, будничные, обычные, сопровождали эту их страшную работу.
Владимир все так же стремя в стремя двигался рядом с отцом. Всеволод озабоченно поглядывал на свой переяславский полк, который слева уже врубился в войско Всеслава. Теперь было самое время пустить вперед дружину, докончить дело, но князь медлил, хмурил брови. Опытным глазом он видел, что дело сделано и зачем губить дружинников, а пешцы… ну что же, одним больше, одним меньше.
Ярославичи теснили Всеслава. Один за другим падали воины полоцкого князя под боевыми топорами киевлян, черниговцев, переяславцев. Ростово-суздальская рать дралась здесь же, на левом крыле союзного войска. Ставка Гордятич, разгоряченный боем, пробивался все ближе к Всеславу, Владимир видел, как его друг и наперсник упрямо двигается к тому месту, откуда руководил боем полоцкий князь. И вдруг, когда, казалось, что уже прорублены к нему пути, когда ростовцам и суздальцам, этим упрямым вятичским мужикам, оставалось до Всеслава рукой подать, он вдруг исчез.
Еще продолжался бой, еще падали в изнеможении и ранах воины с обеих сторон, а Всеслав словно растворился в снежном мареве, в быстро наступающих сумерках, во внезапно повлажневшем воздухе. Поистине закутался князь в синюю вечереющую мглу.
Разгром полочан был полный. Большая часть их войска полегла на берегах Немиги, остальных тут же поделили между собой, забрали их в холопы. Поделили и обоз Всеслава, его бояр и дружинников, их утварь и шатры, оружие и всякую пищу.
Радовались киевляне и черниговцы, туровцы и переяславцы, ростовцы и суздальцы и люди из прочих городов, тянувших к землям Ярославичей.
Владимир смотрел на эту радость, и было ему не по себе: за что погибли эти сотни русских людей, за что, как дикие звери, терзали они на мерзлой земле друг друга? Не печенеги и не половцы погубили их, не во славу родной земли легли они здесь навечно… Горе! Горе это для всех. Ничтожны злоба и зависть князей, их алчность и ненависть друг к другу, и что ожидает еще эту землю, если дети ее лежат как наколотые дрова на снежных равнинах, если гибнут они от руки друг друга.
А наутро рати Ярославичей двинулись по полоцкой земле — от села к селу, от города к городу, разоряя все на своем пути. Уже наполнились сани всяким сельским и городским скарбом, уже лошади еле передвигали ноги в глубоком снегу под тяжестью груженых саней, а Ярославичи все не унимались: обобрать до последнего полоцкие владения, спалить крепости, увести людей — чтобы никогда больше не поднялся к силе и славе князь Всеслав, чтобы не обернулся он вновь сизым соколом во главе своей лихой рати…
Остановились невдалеке от Полоцка, отяжеленные добычей, уставшие от бесконечных грабежей, от сопровождавших войско стонов и плачей.
Люди Владимира то и дело волокли к молодому князю то кусок дорогой ткани, вытащенной из сундука богатого гостя, то серебряную херсонесскую утварь, взятую в сельском доме кого-нибудь из полоцких бояр, то приводили к нему красавиц полочанок. Владимир поначалу пугался. Ему было стыдно, совестно принимать все это. И дружинники видели, что князь смущен, подавлен их приношениями. Бери, князь, говорили они, — все это добыто честно, с бою; если бы вчера победил Всеслав, то завтра уже шли бы полоцкие воины по нашей земле, хватая наше рухло, жен и детей, и не было бы никому от них спасения.
Владимир молчал. А его обоз с каждым днем полнился от захваченной добычи.
Войско отдыхало, готовилось в обратный путь, когда к Всеволоду прискакал гонец из Переяславля. Он привез вести о том, что скончалась княгиня Анастасия.
Владимир смотрел на радостные лица своих дружинников, на то, как ростовские и суздальские смерды и ремесленники по-хозяйски, споро и добротно, готовясь в обратную дорогу, увязывали на возах разное добро, как без конца совещались в Изяславовом шатре трое князей Ярославичей, и горько ему становилось от этой мирской суеты, от людской жестокости, злобы и зависти, которые не имели никакой цены перед лицом мироздания, жизни и смерти, отзывчивой и нежной человеческой души. Уже нет матери… а человеческая жестокость и алчность все глубже и глубже затягивают его в свои извечные тенета, и нет сил разомкнуть этот стягивающийся круг.
Всеслав заперся в Полоцке и вскоре запросил мира. Полоцкий князь обещал прекратить войну против Ярославичей, не бороться за Смоленск. В ответ в Полоцк ушло посольство князей-братьев. Они клялись помириться с Всеславом, вернуть все его владения. Потом снова был обмен послами, переговоры, заверения, и наконец князья договорились встретиться на Днепре под Оршей и покончить дело миром.
Наступило лето, кончался июнь месяц. Уже больше полугода Владимир провел в дороге и в боях. За это время поубавилось воинов в его ростово-суздальской рати, по те, кто остался в живых, были довольны — их сани, а теперь телеги, что они поотнимали у жителей полоцкого княжества, полнились всяким добром, но пора было бы уже собираться и домой, на отдых, на покой в свои домы, к своим имениям, к своим изначальным доходам. Все чаще и чаще близкие люди говорили Владимиру, что люди устали, хотят вернуться на отдых от ратных браней. Владимир говорил об этом отцу. Всеволод отмалчивался, хотя шел ропот и в переяславском, и в киевском, и в черниговском войсках. А князья-братья все тянули переговоры с Всеславом, продолжали кормиться в Полоцкой земле, боясь упустить свою выгоду.
Особенно неистовствовал Святослав. Ему было все мало. Что ни вечер, он приходил в шатер к Всеволоду, убеждал его еще повременить, возбуждал его речами о том, что Изяслав хочет скорее помириться с Всеславом, чтобы сохранить его силу на будущее против них — младших Ярославичей.
Снова глухая злоба и недовольство поселились в сердцах братьев, и они следили за каждым шагом друг друга, старались узнать, чей посол, куда и с какими вестями поскакал прочь от объединенного стана.
С Всеславом условились заключить мир 10 июля. Изяслав, Святослав и Всеволод в присутствии духовных отцов целовали крест полоцкому послу в том, что во время переговоров на этом берегу Днепра в своем стане не причинят Всеславу зла. И поверил Всеслав Ярославичам.
В канун встречи с полоцким князем весь вечер совещались князья в Изяславовом шатре. Всеволод вернулся уже после полуночи и сказал сыну, что лихое время надвигается на Русь: Изяслав и Святослав договорились нарушить крестное целование и захватить Всеслава.
Всю ночь Владимир не мог сомкнуть глаз, полулежал на мягких коврах, накиданных прямо на теплую землю. Его потрясло признание отца. Как можно было захватить в полон человека после крестного целования, после высшей для христианина клятвы? Если уж нарушать крест, то с чем тогда остается жить.
Наутро на берегу Днепра Ярославичи, нарядившись в праздничные одежды, ждали Всеслава. Лениво шевелились на легком ветру киевские, черниговские, переяславские стяги; немногие воины — больше для почета — стояли рядом с князьями.
Вскоре стало видно, как несколько всадников подскакали к противоположному берегу Днепра, вошли в заранее приготовленную ладью. То были Всеслав, двое его сыновей и телохранители. Сам Всеслав и сыновья были без оружия.
Князья встретили Всеслава протянутыми руками, обнялись с ним братски.
Владимир во все глаза смотрел на Всеслава. Заросшая темными бровями переносица, серые, прозрачные, словно озерная вода, глаза, движения быстрые, вкрадчивые. Владимир видел, как осторожно, будто с опаской, вступил Всеслав на берег, как полоснул взглядом по стоящим на берегу людям, поднялся наверх, потом, когда князья обнялись, немного отмяк; взгляд его успокоился.
Изяслав пригласил Всеслава с сыновьями в свой шатер, и князья молча удалились от берега. Но лишь Всеслав вступил под полог шатра, как на нем повисли сразу же несколько Изяславовых дружинников, тут же скрутили руки и Всеславовым сыновьям. Немногих полоцких людей зарубили на месте.
В тот же день Ярославичи свернули свой стан и отправились к Киеву. Завернутые в ковры, спеленатые по рукам и ногам, тряслись на телеге в Изяславовом обозе Всеслав с молодыми княжичами.
В Киеве всех троих посадили в поруб, что стоял неподалеку от княжеского двора, накрепко заперли дубовую дверь, бросили через маленькое оконце немного хлеба, опустили кувшины с водой. Денно и нощно стояли теперь у поруба верные Изяславу люди, охраняли заклятого врага.
Владимир давно не был в Киеве и теперь, отдыхая от походов и ратных дел, проводил многие часы в пеших и конных прогулках. Старшие князья с утра совещались, спорили, волновались в Изяславовом дворце, потом садились обедать и бражничали чуть не до захода солнца, а затем, отяжелевшие, осоловелые, разъезжались по своим дворцам. Владимиру было еще не по чину обсуждать общерусские дела, и, откушав с утра вместе с отцом, он уже в первый день своей жизни в Киеве отправился осматривать город, который за эти несколько лет, что он не был здесь, отстроился, разросся вширь, оделся ожерельем новых слобод.
Владимир с детства любил Ярославов город: все здесь было строго, чисто, красиво, и теперь он шел от Золотых ворот вдоль мощенной дубовыми досками улицы к Софийским воротам города Владимирова. Слева одна за другой вставали громады храмов святого Георгия и святой Софии, справа, почти напротив них, шли княжеские и боярские дворы — все обнесенные крепкими частоколами с выглядывающими из-за них островерхими теремами, двух- и трехэтажными хоромами, всякими подсобными строениями. Затем Владимир вступил на Софийскую площадь, образованную с одной стороны белокаменными стенами Софийского собора, а с другой — дворами видных Изяславовых бояр — Коснячко, Путяты и двором старого Брячислава. А вот и Софийские ворота — вход в старый город Владимира. Здесь не бурлит людской поток, здесь тишина и благолепие. Солнце сияет на золоченых куполах Десятинной церкви, стоят, будто споря друг с другом богатством, каменной резьбой, легкими переходами, мозаичными украшениями, красивыми крыльцами дворцы Владимира и Ярослава. В последнем живет князь Изяслав, здесь сейчас бурлят княжеские страсти, рвутся наружу вспыльчивые слова, решаются судьбы России: как всегда, наверное, жалуется на свою — нелегкую судьбу первого князя Изяслав, плетет сеть интриг Святослав, отмалчивается, больше слушает других Всеволод, а вместе с ними их многоопытные бояре — и Коснячко, и Путята, и Гордята, и другие направляют ход мыслей своих князей, подсказывают им, советуют, раздирают этими советами и подсказками души князей, влезают в их сердца.
Изяславу неуютно в старом родовом гнезде. Ему все время кажется, что эти стены давят на него памятью, мощью, умом Ярослава. Последние дни доживает здесь великий князь. Рядом, вне Ярославова города за Михайловскими воротами, отстраивается новый Изяславов город — с дворцом, храмом, крепостными стенами. Владимир идет к Подольским воротам, взбирается по деревянной лесенке на крепостную стену, и прямо перед ним развертывается обширный яркий, красочный Подол. Внизу блистает под утренним солнцем Днепр, у причалов Почайны белеют паруса многочисленных кораблей, пришедших сюда, кажется, со всех концов земли, снуют однодеревки, кипит, бурлит на берегу разноликий, разноязыкий торг. Здесь и греки, и болгары, и евреи, и ляхи, и немцы, и чехи, и армяне, и арабы, и варяги, и гости иных стран. Ломятся от товаров днепровские причалы и амбары, завалены им торги на площадях Красной и Житной, на идущих от воды вверх по Подолу улицах. И чего здесь только нет. Владимир с малых лет помнит, как они с отцом обходили эти торговые ряды, и порой не для того, чтобы что-то купить, а так, для погляденья, для забавы. Купцы из Новгорода, Смоленска, Чернигова раскладывали, развешивали на желтых жердях песцовые, собольи, куньи меха; арабские гости выносили на берег шелковые ткани, пряности, на различных тряпицах раскладывали они драгоценные камни, браслеты и ожерелья из невиданных и неслыханных стран. Греки имели издавна здесь свои лавки, амбары. В дни торга они предлагали бойким киевским боярыням и боярышням златотканые паволоки, золотые и серебряные украшения, аксамиты, боярам и детям боярским дорогие вина, оружие.
И весь торг был заполнен изделиями киевских умельцев. Сияла на солнце посуда из серебра, отделанная чеканным узором, радовали глаз тисненые серебряные кол-ты, золотые ожерелья с перегородчатой эмалью, украшенные тончайшей сканью серьги, изделия из черненого серебра. Рядами от мала до велика стояли гончарные поделки — кувшины, черпаки, амфоры, корчаги. Сюда же приносили труды рук своих кожемяки и кузнецы, косторезы и древоделы, тесляры и прочий ремесленный люд, чьи слободы, состоящие из рубленых деревянных изб, глинобитных домиков, полуземлянок, сплошным муравейником спускались вдоль склонов Старокиевской горы по оврагам, урочищам до самого берега реки Почайны у Днепра, Вон там от Копырева конца к Глубочицкому ручью, пробивающемуся между оврагами, теснятся домики гончаров, а за горой Детинской в урочище стоит слобода кожемяков, и повсюду по склонам крутых холмов- раскинулись иные ремесленные слободы. Сегодня они почти пусты; весь тамошний люд заполнил торговые ряды, там стоит неумолчный гомон. Владимир не любил эту пеструю шумную толпу. Хотя князю и его людям оказывалось на торгу уважение, но Владимира всегда больно кололи ядреные шутки ремесленников, их смелые взгляды. Здесь, на Подоле, был их мир, они были сильны своим числом.
Владимир спустился со стены, прошел мимо Десятинной церкви, постоял около четверки бронзовых коней, вывезенных сюда еще Владимиром Святославичем из Херсонеса, и, минуя старый Владимиров дворец, вышел вновь к Софийским воротам. Он прошел по южным улицам Ярославова города и оказался перед Лядскими воротами. Владимир поднялся на крепостную стену и вздохнул полной грудью. Здесь все радовало его глаз: не было ни шумных ремесленных слобод, ни дерзких взглядов — тишина и покой охватывали Киев с юга. От самой крепостной стены до виднеющейся вдали горы Зверинец шли покрытые веселой зеленью холмы. Сквозь эту зелень пробивались редкие здесь строения. Слева за урочищем Перевесище на холме виднелась старая великокняжеская усадьба Берестов, за ней стояли кельи Печерского монастыря. На запад до реки Лыбедь простирались леса. Здесь было все близкое и родное — и теплый уют загородного великокняжеского дворца, где он совсем малышом бегал среди деревьев со своими двоюродными братьями — Святославичами, и приветливые, участливые слова монахов, и захватывающая дух охота на вепря в лесу Зверинца.
После каждой такой охоты отец говорил: «Благословенное место, дышится здесь легко, отпрошу у брата эту гору, срублю хоромы, поставлю храм…»
Владимир возвратился в дом, приказал оседлать коня и в одиночку выехал по лесной дороге в Печеры. В монастыре он не застал обычного спокойствия. Монахи были чем-то возбуждены, тихо шептались по углам.
Антоний встретил его по-доброму, обратился как к взрослому, с резкими, тяжелыми словами: «Князь, воззри на беззаконие, пусть оно потрясет душу и сердце твое. Изяслав совсем выжил из ума — на нем лежит грех клятвопреступления, на его совести заточение Всеслава, бог покарает его за этот грех».
Владимир слушал святого отца, потом сказал, что вместе с Изяславом виноваты, наверное, и другие братья, и в первую очередь, как он знает, черниговский князь, но Антоний стоял на своем: «Во всем виноват Изяслав, и бог воздаст ему за это. Все монахи будут молиться за спасение Всеслава, за то, чтобы правда и мир торжествовали на Руси».
Со смутным сердцем возвращался назад Владимир Мономах. Он понимал, что не тяжкий грех клятвопреступления волнует святого отца, а все усиливающаяся мощь латинства при дворе Изяслава, а это означало утерю монастырем своего влияния на дела Киева, а может быть и сокращение монастырских доходов. Мирские мысли с каждым годом все больше овладевали святыми отцами, и вот они уже готовы поддержать запертого в поруб Всеслава. Чем закончится эта борьба монастыря, Антония с великим князем?
Вечером в гридницу к Всеволоду привели еврейского купца Исаака. Сам раббе Исаак был из Чернигова, но уже давно не жил в родном городе, а вел большую заморскую торговлю. Он только что вернулся из Английской земли, видел всякие заморские страны, прознал про всякие неслыханные на Руси вести, и теперь его приглашали по очереди то к Изяславу, то к Святославу, то к Всеволоду, к иным князьям и боярам, чтобы он доподлинно поведал о том, что видел и слышал.
Исаак говорил не торопясь. Кажется, его вовсе не интересовало то, что хотели услышать от него Всеволод, Владимир Мономах, ближние бояре и дружинники, — о том, кто из властелинов и как правит, кто с кем в мире, и кто с кем воюет, что в окрестных странах думают о Руси и как там обретаются русские жены Рюрикова корня, выданные замуж за иноземных королей, князей и герцогов. Исаак начинал издалека, рассказывал, как трудно нынче стало торговать мехами в окрестных странах. Все норовят ограбить и обмануть бедного купца; на один удачный караванный путь приходится два неудачных.
Да и в земле англов, куда он морем привез мех русских соболей, куниц, белок, не все было так просто. Его обвинили, что он не отдал долг одному английскому купцу, и повели к судье. И сколько он ни убеждал в своей невиновности, сколько ни клялся, что выплатил все сполна, его таки заставили внести ложный долг и записали об этой уплате в казначейском свитке.
Исаак замолкал, принимался терзать крепкими длинными зубами мясо оленя, запивал вкусную пищу пьяным медом.
Князья сидели, молча ждали, пока гость насытится, продолжит свою речь.
Раббе рассказал, что пал от вражеского меча в далеких землях славный рыцарь и певец Гаральд Смелый, норвежский конунг, который когда-то водил в Византию русские дружины, пленил сердце красавицы княжны Елизаветы Ярославны. И вот ввязался Гаральд в дела англов, пришел в их земли морем и погиб в бою с английским властелином Гарольдом. Было это в 1066 году. И в тот же год Елизавета Ярославна, тетка Мономаха, пришла в Датскую землю и вышла замуж за тамошнего короля Свена. «Красивая, умная женщина, — раббе Исаак качал головой, — она вдосталь кормила и поила меня на своем королевском дворе, просила передать вам, Рюрикову племени, поклон».
Потом купец рассказал о страшных делах, которые вершились в Английской земле. Недолго радовался победе английский король Гарольд. Дни его были сочтены.
На юге Англии высадились франки во главе со своим предводителем, герцогом Нормандским Вильгельмом Рыжебородым. Гарольд с братьями выступил им навстречу, и в четверг 12 октября 1066 года англы и франки сошлись в бою при Гастингсе.
В те дни Исаак был в Лондоне при королевской семье, которой он преподнес несколько пар прекрасных горностаев. Королева Эльгита любила русские меха. Она восторженно смотрела на переливающиеся в руках шкурки, на зыбкое мерцание всей этой красоты, а рядом с ней молча и хмуро стояла десятилетняя девочка — старшая дочь короля Гарольда Гита и смотрела на восторженную игру пальцев своей мачехи. Король Гарольд недавно отослал в монастырь свою первую жену Эдит — мать Гиты и еще четверых детей — трех сыновей-погодков: Годвина, Эдмунда, Магнуса, бывших уже юношами, и маленькую последнюю Гунхильду. Эдит сильно и бескорыстно любила Гарольда, но в борьбе с наседавшими врагами король нуждался в помощи других английских властелинов, и он решил породниться с графами Нортумбрии Морнером и Эдвином, взял за себя их сестру — вдову влиятельного графа Гриффида, присоединил его земли к своему королевскому домену. Эдит безропотно уступила мужу и лишь испросила разрешения изредка видеться с детьми, особенно с младшими — дочерьми Гитой и Гун-хильдой.
Встречаясь с матерью, Гита после хмурого молчания в присутствии холодной, безразличной мачехи вновь обретала детскую свободу. Сначала она раздвигала в несмелой улыбке тонкие, плотно сомкнутые губы, ее коричневые глаза оживали, в них появлялись какие-то искорки, она потряхивала своими темными волосами, ее острое личико розовело, разглаживались морщинки на чистом лбу.
— О, это очень умная и очень стоящая маленькая принцесса, — покачивал головой раббе Исаак.
Владимир с интересом слушал рассказ купца о делах в далекой Англии, о жизни королевской семьи, о тревогах какой-то незнакомой девочки, и ему, конечно, было невдомек, что пройдет всего шесть лет, и Гита станет его нареченной супругой, проживет с ним счастливо тридцать три года и родит ему семерых сыновей.
Двое суток тревожное ожидание висело над королевским дворцом в Лондоне, а в ночь с субботы на воскресенье гонец, прискакавший из-под Гастингса принес страшную весть: англы разгромлены, король Гарольд убит вместе со своими братьями, Вильгельм Рыжебородый, не встречая сопротивления, идет на Лондон. А на другой день к городским стенам подкатилась первая волна разбитого войска. Люди досказали остальное.
Гарольд и все англы сражались как настоящие рыцари, и был момент, когда казалось, что пурпурное королевское знамя с золотым драконом вот-вот разрежет на части рать нормандского герцога, но дальняя стрела поразила Гарольда, он упал с лошади, и франки с криком бросились вперед. Они смяли королевских телохранителей, которые стояли до последнего около своего раненого короля, и добили его мечами, и тут же, подрубленное, упало пурпурное знамя.
Братья королевы Эльгиты так и не пришли к Гастингсу. Через несколько дней Вильгельму сдалась крепость Уинчестер, и в тот же день королевская семья выехала из Лондона. Бросив ненужных ей, чужих детей, Эльгита бежала к братьям в Нортумбрию. Старая королева Гита с тремя внуками и двумя внучками двинулась на запад в свои собственные владения. А на другой день Лондон открыл ворота победителю. 25 декабря Вильгельм Рыжебородый торжественно короновался как король Англии.
Все эти дни Исаак провел в Лондоне. При нем выехала из города королевская семья, при нем вступили в столицу Англии франки.
— Да, трудные, трудные были дни… Кругом шла война, торговля совсем была плохой, но потом установился покой, и мы снова вынесли свои меха на продажу. Франки также любили русских горностаев и соболей, как и англы.
— Ну вы, конечно, понимаете, новый король тоже ждал подарков. Ах, разорение это для нас, великое разорение, все требуют приношений, и за что? За то, что мы честно везем товар из одной страны в другую.
Всю зиму 1066/67 года купцы из Руси провели в Англии. А потом, едва сошел лед, уплыли в Данию.
Последние вести из Англии они услыхали уже в датской столице от королевы Елизаветы Ярославны зимой 1068 года. Вильгельм не успокоился со взятием Лондона и гнал королевскую семью все дальше на запад. Сыновья Гарольда пытались еще собрать рассыпавшиеся дружины англов, но все было тщетно: слишком велик был перевес сил у противника. И, как нередко бывает в таких случаях, вчерашние вассалы отца, вчерашние его друзья униженно клялись в новой верности победителям и сохраняли свои земли, замки, зависимых крестьян. Человеческая честь, честность, человеческие отношения приносились в жертву корысти, тщеславию, властолюбию.
«Разнообразна, прихотлива и противоречива природа человеческая, — качал головой многоопытный купец. — Ведь человек делает просто выбор. Для одного хорошо — это, а для другого — то».
Владимир негодовал, он ненавидел этих жалких трусов и предателей, никогда бы сам он не поступил также. Слезы навертывались ему на глаза при мыслях о страшных делах, творившихся в Англии. А потом он обращался к своим русским делам, вспоминая пожарище горевшего Минска, жаркую кровь Немиги, скрученного мрачноглазого Всеслава. Бросить все, уйти от этой мерзости, позора и страха в Печеры, как когда-то сделал это юный Феодосий…
А дотом пал последний оплот королевы-матери на западе — город Экзтер.
Вильгельм въезжал на коне через Восточные ворота города, а через западные Береговые семья Гарольда уходила к кораблям. Гита смотрела с борта судна, как на мостки, по которым она только что прошла с бабушкой, сестрой, братьями, вступили, держа в руках боевые топоры, мощные, уверенные франки.
Потом были скитания по Соммерсету, тайное убежище на одном из островов Бристольского канала. А далее семья распалась. Королева Гита с внучками направилась сначала во Фландрию, а оттуда ко двору датского короля Свена, который находился в войне с Вильгельмом; сыновья Гарольда отплыли в Ирландию, чтобы собрать там новые дружины и попытаться отвоевать отцовский престол.
И еще много историй о разных городах
А потом приходили в Киев новые купеческие караваны, посольства из разных стран, и каждый купец, каждый посол за столом у князей рассказывал о виденном в чужих краях — о жизни, верованиях, войнах, о далеких властелинах, и весь этот огромный, причудливо переплетающийся, ссорящийся, мирящийся, торгующий мир со всех сторон обступал Киев и русские земли, вторгался в жизнь руссов, и сами руссы, не ведая того, давали пищу для размышлений заезжим гостям и посольствам, и те несли во все концы земли вести о Киеве, Чернигове, Переяславле, их властелинах и их детях, о том, с кем были связаны русские князья, к кому благоволили они и к кому нет, и как жили они со своими соседями — ляхами, половцами, уграми, греками, болгарами, варягами и прочими народами.
Проведя зиму 1067/68 года в Киеве, братья Святослав и Всеволод готовились, как только подсохнут дороги, двинуться в свои пределы. На север в свой Ростов предполагал отправиться и Владимир Мономах. Но все спутал половецкий набег.
Как только степь стала твердой, половецкая конница устремилась на Русь. Это был большой поход: пришли в движение сразу несколько половецких колен, и ханов вовсе не пугало, что в Киеве до сих пор находились княжеские дружины. Они знали, что полки давно распущены по домам, а дружины немногочисленны и вряд ли устоят против огромных конных половецких масс. К тому же половцы знали, что князья вывезли из полоцкой земли немалые богатства, и теперь стремились взять их.
Кажется, ничто не предвещало этого выхода. Осенью 1067 года в половецкую степь ушло из Киева посольство переяславского князя Всеволода. Посылал князь своих людей к хану донецких половцев, чтобы сосватать за себя одну из его дочерей. В зиму 1068 года полочанка уже была в Киеве. Ее крестил сам киевский митрополит, и скоро во Всеволодовом дворце появилась новая хозяйка.
Владимир встретил мачеху равнодушно. Он понимал, что не может мужчина жить один, но не может князь и путаться без конца с наложницами и рабынями, снисходить до их слез, просьб, распрей. Половецкая же степь опасна, и нужно было постоянно чувствовать биение ее сердца. И половецкая княжна в Переяславле обещала долгий мир с донецким коленом половцев. Через нее можно было получать вести из степи, а в случае опасности и просить у ее отца помощи. Все это учитывал Всеволод, засылая сватов в степь.
Она вошла во Всеволодов дом, не зная ни слова по-русски, с черными как смоль волосами, зоркими темными глазами, быстрыми движениями, и служанки ее были такими же черноволосыми и быстротелыми. При крещении половчанку нарекли Анной.
Владимир, скорбя о матери, старался понять и то. чего хотел отец. Он был ласков с мачехой, внимателен к ней, несколько раз верхами показывал ей Киев. Янка же с младшей сестрой Марией заперлись в своей половине, не выходили к общему столу.
Особенно неистовствовала Янка. Она бросалась к отцу, к брату, плакала, требовала избавить ее от этого «половецкого чудища», вспоминала, сколько зла сделали половцы переяславской земле. С тех пор раскололась семья Всеволода. И хотя унял князь дочерей, но мира в доме больше не было. Янка объявила, что она никогда не смирится с позором и уйдет в монастырь.
Когда же половцы прорывались сквозь русские заслоны и кинулись к реке Альте, Янка бегала по дому как полоумная и кричала: «Где ваш мир? Где ваши верные поганые? Вот уже топчут они Русскую землю!», Всеволод запер дочь в палате. На Киев наступали совсем иные, не донецкие половцы, мир нарушили донские колена, жившие между донскими степями и днепровским левобережьем. Хан Шарукан Старый вел половецкую конницу на Русь.
И сразу были забыты все мелкие дрязги и споры. Смертельная опасность нависла над всеми русскими землями. Сторожи рассказывали, что давно уже не было такого сильного и свирепого нашествия: городки и села сжигались дотла, людей убивали: брали в полон лишь самых сильных мужчин и красивых женщин для продажи на невольничьих рынках юга.
Князья наскоро собрали дружины, не дожидаясь подхода полков из Чернигова и Переяславля. Лишь киевский тысяцкий Коснячко успел привести с собой ремесленников и смердов. Но чем-то недовольны были простые киевские люди, кричали на воеводу, что дал он им старое плохое оружие, разбитые щиты, что новое, наверное, продал на торгах, что люди его Коснячки берут с бедных и убогих большие резы и закабаляют за долги, а сам он боится вооружить многих воинов — уж не опасается ли, что нападут они на него самого или освободят из поруба князя Всеслава? Коснячко приказал тогда отхлестать крикунов батогами, и тут же воеводские люди пошли по дворам, собирая в поход войску на пропитание и хлеб, и мед, и сыры. И хотя враг грозил Русской земле, неохотно расставались люди со своими припасами, а иные и вовсе гнали воеводских гонцов со дворов, кричали: «Ваши амбары ломятся от наших бед и лишений, берите себе еству оттуда». Многих тогда похватали люди Коснячки и запер* ли по погребам. Ярость и злоба повисли тогда над городом, но сила ломила силу.
Потом рати двинулись на юг. Владимир вновь ехал стремя в стремя с отцом. Дружины торопились на Альту, куда уже пробились половцы. Привалы были коротки, а переходы длинны и утомительны.
Через день впереди, у края неба, появилась бурая дымная пелена: горели окрестные деревни и леса, и дым пожарища простирался по всему полю, докуда хватал глаз.
К вечеру русские князья подошли к Альте и увидели, что вдалеке, на том берегу, мерцают бесчисленные костры половецкого хана.
В полночь, не разбивая шатра, прямо под открытым небом князья держали совет, что делать дальше. Изяслав, указывая на великую половецкую силу, предложил отойти назад, собрать людей со всей земли и лишь после этого ударить по врагу. Братья лишь усмехнулись. Великому князю хорошо говорить, не его владения топчет враг, не его смердов уводит в плен; видно, думает великий князь, что иссякнет сила половецкого удара и не докатится она до киевских стен. Святослав настаивал изготовиться и наутро начать бой. Наиболее решительно был настроен Всеволод. Владимир никогда не видел, чтобы его отец, всегда спокойный и рассудительный, находился в таком волнении. Он весь как бы подтянулся, голос его звенел, глаз с прищуром окидывал сидевших князей.
— Надо ударить тогда, когда поганые ждут пас меньше всего. Ясно, что у нас недостанет сил, чтобы сокрушить их завтра, наверное, недостанет их, чтобы сокрушить их и сегодня. Но ночь и внезапность скрадывают число. Надо развести костры, обмануть врага и тут же начать переправу. Сейчас Альта почти пересохла, и можно спокойно перейти ее вброд.
Владимир слушал отца, и ему казалось, что предлагает он единственно разумное дело. А там как бог подаст.
В ночь же руссы ударили по половецкому стану и вначале добились успеха, потеснили врага, захватили первые его кибитки и даже поволокли в свой лагерь пленных, но все глубже и глубже погружались руссы в пылающую кострами степь, и оказалось, что не было ни конца ни краю ни этим кострам, ни этим шатрам, ни кибиткам, а из степи прямо на них с визгом выплескивались все новые и новые конные половецкие волны, заливая малочисленные дружины руссов. Шла яростная ночная схватка, и враг стал одолевать. Князья видели, что если сейчас, еще до восхода солнца, не повернуть назад, то на заре половцы вырежут всех до конца, и русские дружины повернули обратно. Половцы их не преследовали и дали исчезнуть в непроглядной ночной мгле. Но наутро, едва взошло солнце и окрасило степь в нежно-розовый цвет, воины заметили, как вдали будто кипит край поля, — это половецкая конница шла вослед княжеским дружинам. И руссы рассыпались в стороны. Святослав с сыновьями повел свою дружину на север, намереваясь отсидеться в Чернигове. Изяслав со своим сыном Свято-полком, воеводами Коснячко и Тукой уходил к Киеву. Вместе с ним скакали Всеволод и Владимир Мономах. Пути в Переяславль были переняты врагом. Владимир впервые испытал это, так пугавшее его впоследствии чувство страха. Дружина разбита, и нет теперь никого между этой грозно клубившейся на горизонте степью и им самим. Еще мгновение — и эти клубы охватят и малое число оставшихся дружинников, и отца, и его самого, засвистит над головой половецкий аркан, и прощай, жизнь: плен, рабство, позор, в лучшем случае выкуп и потом на всю жизнь несмываемое пятно половецкого отпущенника… И он пришпоривал и пришпоривал коня, погружаясь в мрачные мысли.
Киев встретил князей настороженно. На горе горожане собирались кучками, горячо обсуждали беды, навалившиеся на Русскую землю. Подол гудел. Там шло нескончаемое вече. Люди кричали, что князья их предали, что Коснячко нарочно не дал им оружия, что лучше бы во главе войска стоял храбрый витязь Всеслав. Все чаще и чаще среди крикунов угадывались выходцы из Полоцка. Изяслав, Всеволод и Владимир все вместе закрылись в старом Ярославовом дворце, дружинники плотно охраняли к нему все подступы. А ярость народная нарастала. Среди толпы появился печерский монах, который указывал перстом на небо: «Наводит ведь бог в гневе своем иноплеменников на землю, и, только пережив это горе, жители ее вспоминают о боге; на междоусобную же войну соблазняет людей дьявол».
Смутясь, слушал люд речи монаха, а он все подымал и подымал перст и рек про распутство, неверие и лживость людскую, про братоубийственную вражду князей, про их клятвопреступление и заточение полоцкого князя Всеслава. Колыхалась толпа, и уже раздавались в ней голоса, что не дал Коснячко людям оружие, потому что боится их, что надо освободить невинных людей, посаженных воеводой в погреба.
Потом все побежали на вече. Било уже звенело на весь Подол, созывая людей на торговище. Оттуда народ бежал на гору, многие подступали к воеводскому двору, кричали, что половецкие сторожи уже видны со стен Киева, не сегодня завтра поганые приступят к городу, и людям надобно раздать оружие из княжеских и воеводских кладовых.
Воеводские дружинники разгоняли народ, но люди вновь и вновь собирались толпами, гудели, выплескивали накопившиеся обиды.
Владимир вместе с отцом уже несколько дней назад оставили свой двор и вместе с мачехой, Янкой, ближними дружинниками перебрались в старый Ярославов дворец. Его охрану усилили. Денно и нощно караулили воины все подходы к княжеским палатам. Владимир смотрел через узкие оконца верхних сеней, как бурлили толпы на киевских улицах, слушал, о чем кричали все эти смерды и ремесленники, закупы и уноты,[42] и поднималась в нем ненависть к этим людям, хотевшим изменить раз установленный богом порядок, и в душу его входил страх при виде их слепой ярости. Все, что накапливалось в народе годами, выплеснулось наружу в эти сентябрьские дни 1068 года.
— За все плати, все отдавай! — вопил народ. — Плати дани и виры, плати вено за невесту, плати десятину церкви. И даже после смерти нет нам покоя, отбирают наши пожитки сильные люди, если нет у нас прямых наследников. Наши земли, принадлежащие верви,[43] давно уже стали лакомыми кусками для князей и бояр! Им не нужны пустые, дикие земли, а подавай вервные угодья, пастбища, ухоженные земли с деревнями и селами! И приходят с мечами и отбирают земли, называют их своими, и примучивают нас, и закабаляют нас долгами! Там, где не берет сила, отнимают наши пашни за долги, гнут нас большими резами! И бредем мы, убогие, от села к селу, кормясь работой, попадаем в закупы, рядовичи, становимся холопами. И уже не свободные мы люди, а рабы, и господа наши что хотят, то и делают с нами! Карают нас побоями и штрафами, обращают в полное холопство за бегство от хозяина, княжеские и боярские тиуны и ратайные старосты для нас подлинные бичи господни!
Потом прибежали княжеские люди с Подола, рассказали, что только что там, внизу, холопы растерзали новгородского епископа Стефана, который пытался унять их, и теперь весь Подол двинулся на Гору, к святой Софии.
А гул, идущий снизу, все нарастал, и вот уже новые людские толпы прорываются через Подольские ворота и бегут мимо Ярославова дворца, через Софийские ворота во Владимиров город, ко двору ненавистного Коснячко, а с другой стороны, от слобод кожемяков и гончаров, такие же толпы растекаются по улицам старого города.
Никогда позднее Владимир не забывал этого страшного вида разбушевавшейся теперь толпы, ее грозную, всеподавляющую силу. Он видел, как Киев становился игрушкой черни, и в эти мгновения ни власть, ни деньги, ни сила не были в состоянии одолеть этих людей.
Двор тысяцкого был окружен. Мрачно смотрели на людей безлюдные дубовые стены, накрепко запертые ворота.
«На вече воеводу!» — завопила толпа, и люди пошли на приступ. Враз были разбиты в щепы топорами тяжелые ворота, и толпа ворвалась в Коснячков двор. В палатах, на переходах, в сенях стояли испуганные воеводские люди, но самого тысяцкого в хоромах не было. При первых вестях о возмущении Подола он с сыном о двух конях ускакал из Киева в Чернигов.
Люди пошли по палатам. В несколько мгновений Коснячков двор был разграблен. Тащили посуду, ковры, всякое рухло, еству из погребов и медуш, разъяренные Коснячковы холопы разбили даже изразцы, которыми были выложены стены гридницы.
Оттуда толпа двинулась ко двору Брячислава, где сидели в погребах люди, брошенные туда тысяцким еще перед уходом на Альту. Другие побежали к Ярославову дворцу, где укрылись князья, Владимир видел, как возбужденные люди окружили Ярославов дворец и потребовали, чтобы к ним вышел великий князь Изяслав.
Великий князь заперся в сенях с дружиной и находился в мучительных колебаниях. Боярин Тука советовал ему: «Видишь, князь, взвыли люди, пошли-ка дружинников постеречь Всеслава, как бы не было худа». И тут же на великокняжеский двор ворвалась другая толпа, ведомая освобожденными из погребов узниками.
Княжеский двор превратился в кипящий котел. Люди кричали все враз, размахивали руками, и поначалу казалось, что криком дело и кончится, но среди этого шума и неразберихи все ощутимее звучала какая-то нервная струна, стягивающая людей воедино, превращающая их в грозную силу.
Изяслав продолжал колебаться. Всеволод стоял рядом с ним и с беспокойством смотрел на гудящую толпу. Владимир и его двоюродные братья — Изяславичи — Мстислав и Святополк стояли у другого оконца.
Владимир всматривался в эти горящие гневом глаза, всклокоченные волосы, жилистые, темные от работы руки людей, в их холщовые рубахи и порты, и, виденные сотни, а может быть, и тысячи раз, сегодня они вставали перед ним в новом свете — не робкими просителями, не униженными торговцами своих изделий, не покорными холопами, а подлинными хозяевами этого мира, этого города, этой площади и всего сущего. И сегодня, в свои неполные пятнадцать лет, он раз и навсегда понял: там, на площади, — враги, враги лютые и беспощадные, готовые в дни мятежа извести весь Рюриков корень с боярами и дружинниками, с церковниками и богатыми купцами.
Дружинники подступали к великому князю: «Видишь, Князь, се зло есть, пошли нас к Всеславу, еще есть время, мы подзовем его лестью к оконцу, пронзим мечами. Не будет тогда у людей за кого стоять, покричат и разойдутся». И снова колебался князь. Нет. Убить брата — это было выше его сил. Святослав, наверное, не моргнув глазом, переступил бы эту грань.
А толпа уже отхлынула от княжеского дворца и бросилась к порубу, где томился Всеслав. И вот уже взломаны двери, и Всеслав, чародей, такой же мрачный, как всегда, плывет на людских руках к великокняжескому дворцу, а рядом с ним (откуда они взялись здесь?) поло-чане, его близкие дружинники, мстители.
Изяслав метнулся от оконца, на ходу крикнул Всеволоду: «На коней, брат!», бросился вниз. За ним бежали его сыновья, следом Всеволод и Владимир Мономах.
Когда толпа ворвалась в великокняжеский дворец, там оставались лишь женщины. Князья скакали к Михайловским воротам, потом, минуя Софию, по окраинным улицам Ярославова города к Лядским воротам, а оттуда в Берестов.
В Берестове беглецы немного успокоились: здесь их ждали свои люди, здесь они запаслись ествой, питьем. Изяслав с сыновьями уходил отсюда на запад, во владения своего родственника, польского короля Болеслава И, а Всеволод и Владимир, огибая Киев, поскакали на северо-восток. Всеволод хотел найти убежище в землях Святослава, куда еще не дошли половцы, а Владимир уходил в свои северные леса, к Ростову.
На лесной дороге отец с сыном обнялись. «Свидимся ли?» — только и сказал Всеволод и пришпорил коня.
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |