"Четверо из России" - читать интересную книгу автора (Клепов Василий Степанович)
ДОПРОС
Когда мы с Димкой вернулись в амбар, наш «больной» вынырнул из-под отвернутой половицы:
– Димка, иди помоги!
Оказалось, Левка не дремал. Когда его после расправы с собакой отвели в амбар, он полез под пол и стал делать подкоп. Ему удалось прорыть довольно большую дыру, и когда уже сверху стал виден свет, Большое Ухо уперся в какую-то доску, которая мешала выбраться наружу.
– Пойдем посмотрим, какой у тебя подкоп, – и мы полезли за Левкой.
Димка уперся плечом в доску, и с большим трудом ее удалось отодвинуть. Мы выбрались наружу и очутились в малиннике. Недалеко от нас копался глухонемой.
Мы быстро нырнули снова в амбар, прикрыли доску и Левка усмехнулся.
– Теперь нам ничего не страшно. В случае нужды улизнем…
Мы улеглись на соломе, и Левка принялся рассказывать, как ехал с поля и велел Карлу служить себе. Все это было смешно, но… Вряд ли баронесса спустит такую дерзость.
– Помните, где вы находитесь! – объявил я ребятам. – Баронесса…
– Не пугай, – огрызнулся Левка. – Все равно ползать на брюхе не буду!
– Ты, Молокоед, собираешься сделаться верноподданным Гитлера? – ошарашил меня Димка.
– Недаром его сегодня хвалили… Учитесь, сказал Камелькранц, вон у того хорошего мальчика!
– А мне такая похвала хуже зуботычины!
Я думал, хоть Димка меня поймет – ведь он из нас троих всегда отличался трезвым взглядом на жизнь, но и Дубленая Кожа неожиданно встал на сторону Большого Уха:
– На этот счет очень хорошо выразился один великий русский поэт. Настоящий борец за свое дело не должен считаться с мнением врага. Потому что…
В общем, получалось так, что я вроде начал подхалимствовать перед Камелькранцем. И я никак не мог объяснить ребятам, что похвала Камелькранца относится вовсе не ко мне, что это Сигизмунд и Юзеф хотели избавить меня от наказания и помогли выкапывать картошку.
– Так что же, я, по-вашему, предатель, да?
Во мне все так и кипело.
– Предатель не предатель, – проговорил Димка, – но и советского в тебе маловато, Молокоед.
– Ну тогда пусть Левка скажет: советский я или нет…
– Вроде был и советский, – откликнулся Левка.
– Когда в золотоискателей играли, – ехидно усмехнулся Дубленая Кожа.
– Ну, Димка, – прищурился я. – Никогда не думал, что ты от одной зуботычины Камелькранца рассудок потеряешь.
– А я не думал, что ты от одной похвалы фашистским ударником заделаешься.
Мне было обидно до слез. Я отвернулся к стене и стал смотреть сквозь щель во двор. Скоро ребята уснули. А я лежал не смыкая глаз.
Из-за крыши сарая выбралась на небо огромная круглая луна, и мне почему-то вспомнилась ночь в Золотой Долине и старикашка Паппенгейм, стоящий против нашего костра. Я уже стал погружаться в сон, как вдруг увидел его. Он стоял посреди двора и, как тогда, прислушивался, поворачивая голову будто сыч то в одну, то в другую сторону. Я протер глаза, думая, что вижу все это во сне, но Паппенгейм не исчезал. Наоборот, он шевелился, повернувшись ко мне боком, и только тут я рассмотрел у маленького человечка горб. Фу ты, чёрт, это же Верблюжий Венок!
Горбун медленно прохаживался по двору, а потом, словно набравшись мужества, решительно подошел к польскому бараку и тихонько открыл дверь. Оттуда выскользнул кто-то небольшого роста и направился с управляющим к калитке.
Все эти ночные похождения горбуна мне показались странными, но еще более я удивился, узнав в маленьком человечке Франца. Горбун дал Францу велосипед и выпустил в калитку.
Что все это значит? Какие у Камелькранца дела с невольником-поляком? Не может быть, чтобы сам управляющий помогал ему удрать из неволи!
Горбун прикрыл калитку, сел на ступеньку барского крыльца и стал курить свою трубочку. На крыльце появилось что-то белое, как привидение.
– Уехал? – спросил сиплый голос, и я догадался, что во двор вышла наша мучительница.
– Уехал, – ответил невесело Камелькранц. – Но напрасно ты затеяла вое это, Марта… Ничего страшного не было… А теперь мы потеряем несколько работников…
– А ты хочешь, чтобы мы потеряли всех? – со злобой проговорила баронесса. – У нас все поляки побегут, если поощрять этих молокососов. Черт с ними, мне остальные дороже.
– Тебе легко так говорить, Марта. А где я возьму людей, чтобы убирать урожай?
– Если тебе трудно, так и скажи, – обрезала баронесса. – Тогда я буду искать другого управляющего.
Она хлопнула дверью и ушла, а Камелькранц остался сидеть на крыльце.
«Что же он сидит здесь?» – думал я.
Горбун вдруг вскочил, прислушался и бросился открывать калитку. В нее немедленно прошмыгнул Франц и, приставив велосипед к стенке, что-то сказал Камелькранцу и бесшумно исчез в польском бараке.
Минут через двадцать или тридцать на улице послышался шум машин, и в ворота громко начали стучать. Опять во дворе появился Верблюжий Венок:
– Кто там?
С улицы что-то ответили. Горбун открыл ворота, и в них въехали два мотоцикла, а за ними вползла, осветив фарами весь двор, длинная автомашина.
Черный человек в огромной фуражке, пошептавшись с Камелькранцем, направился к нашему амбару. Луч света от фар упал на его рукав, на котором отчетливо выделялось изображение черепа и скрещенных костей.
– Ребята, гестаповцы! – крикнул я.
Камелькранц уже открывал двери. Меня ослепил свет электрического фонарика. Незнакомый скрипучий голос недоуменно спрашивал:
– Такие молокососы?
Нас подняли и повели в замок. Моих товарищей оставили в прихожей, а меня втолкнули в дверь, прикрытую портьерой. Я очутился в богато обставленной комнате, которая, видимо, была чьим-то кабинетом. За письменным столом сидел в кресле совершенно лысый немец в золотом пенсне, с усиками щеточкой, как у Гитлера, и рассматривал фотографию, вставленную в резную рамку.
– Кто это? – спрашивал он у Камелькранца.
– Сын баронессы, лейтенант Рудольф Фогель.
Горбун так низко склонился, что маленький человечек, сидевший у него на спине, скатился к самой шее.
– Хороший офицер! – одобрил гестаповец.
– Фогель! – с ударением сказал Камелькранц.
– Да, барон, – словно завидуя, произнес гестаповец. – Это его кабинет?
– Его… Мы оставили здесь все так, как было в день отъезда Рудольфа.
Я невольно оглядел комнату. На стенах, покрытых красивыми коврами, висели ружья, пистолеты, кинжалы и охотничьи трофеи – рога и чучела. А меня больше всего интересовала карта, занимавшая большую часть одной из стен. На ней ломаной линией сверху вниз тянулись синие флажки. В центре они подходили почти к Москве, и я понял, что молодой барон был в последний раз дома еще позапрошлой осенью.
«Все оставили, как было, – подумал я, усмехнувшись про себя. – На карте осталось, как было, а на фронте уже по-другому…»
В дверь вошел высокий, тощий лейтенант и, щелкнув каблуками, доложил сидевшему за столом:
– Поляки здесь, господин капитан… Прикажите ввести?
– Обождите… Присаживайтесь к столу, Клюге… Допросим сначала этого, – кивнул немец на меня.
«Чего они хотят?» – думал я, а у самого по спине побежали мурашки. Конечно, я уже знал, что значит разговор с гестаповцами. Не то чтобы я испугался их… Я боялся одного: как бы не выдать какой-нибудь тайны, если меня начнут допрашивать под пытками. Я вспомнил нашу пионерскую клятву, которую мы читали совсем недавно, и почти успокоился.
– Трусите, молодой человек? – усмехнулся гестаповец, вытирая о платок пенсне.
– А что мне трусить? – спокойно проговорил я. – Я не сделал ничего такого, чтобы вас бояться…
– О, любопытно! рассмеялся капитан, обнажая в улыбке два золотых зуба. – Ты, верно, думаешь, что мы не знаем, какой ты фрукт?
К моему удивлению, гестаповец начал говорить о том, что я устроил в поле митинг, на котором докладывал о победах Красной Армян и агитировал против немцев. Только тут я подумал, что, пожалуй, и в самом деле, встреча с батраками в поле походила на митинг, и даже обрадовался: узнали бы в Острогорске, чем я занимаюсь в фашистском тылу!
– Ты думаешь, у нас можно митинговать, как в России? – язвительно спрашивал капитан. – Ты очень ошибаешься!
– Ни в чем не ошибаюсь, – отвечал я, удивляясь своему спокойствию. – Вот вы действительно ошибаетесь.
– Это как понимать?
– Митинга я не устраивал… Митинга вообще не было…
– А что было? – впился в меня маленькими голубыми глазками Клюге.
– Ничего особенного, – сказал я, решив корчить из себя дурачка. – Просто меня спросили, откуда мы, я ответил, что из России. Потом мне задавали разные вопросы и я отвечал. Вот и все.
– Какие были другие вопросы? – спросили враз оба гестаповца.
– Вопросы? – я сделал вид, что вспоминаю, а сам думал, что немцы, видно, уже знают о событиях в поле. Я решил, что будет лучше, если я прикинусь искренним и сказал: – Вопросы были такие…
Моя откровенность подействовала. Капитан кивал мне, но Клюге хмурился и неодобрительно посматривал на своего начальника. Не успел я замолчать, как лейтенант опять вонзил в меня маленькие глазки.
– Кто задавал вопросы?
– Не знаю, – пожал я плечами. – Я вообще здесь пока никого не знаю…
– А можешь узнать, если мы тебе их покажем?
– Не знаю. Можно попробовать.
Клюге вышел в коридор, и я понял, что сейчас начнется самое главное. Они требуют от меня, чтобы я указал тех, кто с таким восторгом слушал мои слова о нашей Родине и Москве. Но, нет, я не буду доносчиком! Даже под пытками я не узнаю ни одного из поляков!
Первым ввели Зарембу.
– Он? – спросил Клюге.
Я взглянул на поляка, и наши взгляды встретились.
Мне показалось, что на бритом лице Зарембы промелькнуло не то презренье, не то жалость.
– Не знаю, – ответил я.
Вдруг Клюге ударил меня по лицу. Страшная боль чуть не заставила меня взвыть. Было такое ощущение, что челюсть у меня перекосилась, и я схватился за нее.
– Он?
Я сплюнул на ковер кровь и покачал головой. В черных глазах Зарембы засветилось восхищение. В тот же миг Клюге сильным движением ударил мне в переносицу, у меня завертелось перед глазами, и я рухнул на ковер.
Очнулся я оттого, что капитан выплеснул мне в лицо стакан холодной воды. Его пустой взгляд оживился, и он, ощерясь, спросил:
– Ну как узнаешь?
Я молчал. Тогда Клюге хотел ударить меня ногой.
– Господин капитан! – прикрыл я лицо локтем. – Он убьет меня еще до того, как я смогу вам что-нибудь сказать.
Гестаповец весело расхохотался.
– Ты прав, унтерменш! Сядь, Клюге! У тебя – никакого знания детской психологии! Почему именно ты стал отвечать на вопросы? – повернулся капитан ко мне.
– Потому что лучше других знаю немецкий язык.
– Язык врага? – отчеканивая каждое слово, повторил мои слова гестаповец. – Так, кажется, ты говорил?
– Говорил! – смело ответил я и, сделав наивные глаза, посмотрел на капитана. – Но ведь это же правда. Ведь вы с нами воюете?
Капитан даже хлопнул себя по ляжкам.
– Черт возьми, Клюге, этот маленький унтерменш мне определенно нравится!
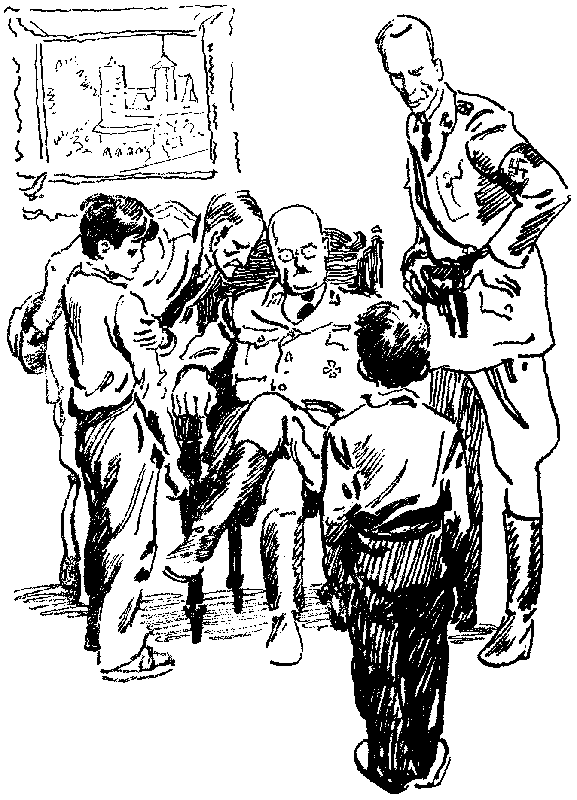 |
В кабинет втолкнули Левку. Он сделал руки по швам и отрапортовал:
– По вашему вызову Лев Гомзин явился!
На Левкином лице было столько серьезности и подобострастия, что даже я не мог понять: дурачит гестаповцев Большое Ухо или докладывает всерьез. Капитан посмотрел на Левку с изумлением:
– Это еще что за оболтус?
Клюге нагнулся к его уху.
– А, – понимающе улыбнулся капитан и приказал: – Подойди сюда! Покажи руки!
Левка протянул плохо разгибающиеся ладони. Гестаповец даже брезгливо сморщился: до того они были грязные. (Большое Ухо рылся под амбаром!)
– Что ты делал сегодня в поле?
– Строил Великую Германию, – выпучив глазищи, гаркнул Левка.
– Что-о? – в изумлении протянул гестаповец.
– Мы только за этим сюда и ехали, – пустился в объяснения Большое Ухо. – Так нам говорил обер-лей-тенант, который стоял у нас на квартире. Честное слово! Вот хоть Ваську спросите!
– Вон оно что, – издевательски улыбнулся капитан. – А ну, покажи свою больную ногу…
– Что вас всех интересуют мои конечности? – пробурчал Левка, поднимая штанину.
– Смотри, как бы нас не заинтересовал твой язык! – вспылил багровея Клюге.
– Могу показать и язык, мне не жалко, – добродушно ответил Левка.
Нога у Левки все еще была припухшей, притом на ней красовалась настоящая повязка. Немцы переглянулись, Клюге с недоумением и плохо скрытой досадой пожал плечами.
Нам велели выйти вон.
В коридоре Левка подошел ко мне. В его огромных, черных глазах прыгали хорошо знакомые мне бесенята.
И вдруг бесенята исчезли, я увидел в Левкиных глазах сочувствие.
– Тебя что, били, Вася?
Я прислонил тыльную сторону ладони ко рту и увидел на ней красное пятно.
– Ерунда! – сплюнул я на ковер. – Чуть-чуть по роже съездил меня этот Клюге.
Но в дверях возник Клюге, громко прокричал:
– Кошедубофф!
Димка скрылся за дверью. Не знаю, долго мы сидели или нет, но вдруг услышали страшный крик.
Вам приходилось слышать, как стонет в зубном кабинете человек, которому дергают зуб? Сейчас так же стонал и кричал Димка.
Я бросился к двери, толкнул ее… Фашистский капитан был уже не тем добрым капитаном, который поощрял меня к откровенным высказываниям. Он держал Димку за руку и что есть силы выворачивал ее.
Димка со страшно перекосившимся лицом, присев от боли, твердил:
– Не имеете права! Не имеете права!
Я не выдержал, закричал:
– Что вы делаете?
Клюге подскочил ко мне, выпихнул из дверей и крикнул Камелькранцу:
– Уберите этих щенков!
Мы снова были в амбаре, в полнейшей тьме, которая стала еще мрачнее после яркого света комнат. Ночь казалась очень темной, моросил мелкий дождь. Иногда дверь в доме помещицы открывали, и тогда середина двора освещалась, мы видели поблескивавшую машину гестаповцев.
Где-то вверху возник шум. Он становился все сильнее. Вскоре уже ревели над нашими головами самолеты, потом раздались тупые удары бомб.
Мы увидели, как дверь открылась и гестаповцы выскочили к своей машине.
– Налет на Грюнберг, – услышали мы. – Пошел!
Гестаповец открыл дверцу автомобиля. Машина стала разворачиваться, но тут Клюге прокричал:
– Надо взять Сташинского! Эй, господин Франц, давайте сюда!
Во дворе вдруг посветлело, и мы увидели, как маленького поляка всунули на заднее сиденье. Машина стрелой выскочила из ворот, за ней устремились, тарахтя моторами, мотоциклы.
Поляки все еще стояли во дворе я смотрели куда-то на запад.
– Русски налецели[45], – говорил с плохо скрываемой радостью Сигизмунд.
– Их дуже, – оживленно подхватил Заремба. – Напевно полецели штурмовать Бэрлин[46].
– Грюнберг горит! Грюнберг горит! – услышали мы радостный возглас на русском языке.
В щели нашего амбара бил яркий свет. Я попросил Левку стать у стены, влез к нему на спину и выглянул. Во дворе было светло, как днем. А по крыше замка металась фигурка женщины. Подняв руки, она грозила в сторону пожара кулаками.
– Ага, припекло! – кричала женщина по-русски. – Поджарило? Вытаскивайте скорее, что награбили у нас в России! Не вытащите, нет! Горите, гады!
Женщина взмахнула рукой, и я увидел длинные косы, свешивавшиеся с плеча. Груня!
Дверь амбара открылась, в нее втолкнули окровавленного Димку. Мы живо подсели к Дубленой Коже. Но он не отвечал на наши вопросы, а только стонал, сжав зубы.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |