"Кураж" - читать интересную книгу автора (Туричин Илья)
Часть третья. РАЗЛУКИ И ВСТРЕЧИ.
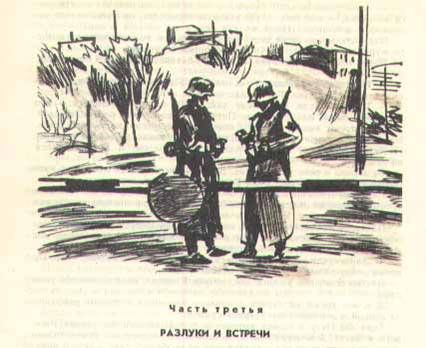 |
Осень подкрадывалась к городу незаметно, словно и ей грозила опасность в опустевших унылых улицах, и ее пугали шаги патрулей, и для нее воздвигали на площади, недалеко от потрепанного брезентового цирка, виселицы из новеньких бревен и аккуратно оструганных досок.
Мелкие капли дождя извилистыми струйками текли по оконному стеклу, шептались на ржавом подоконнике.
Фличу и в окошко смотреть не надо, чтобы узнать, какая на дворе погода, загодя заломило поясницу. Да и смотреть не на что, из окна ничего, кроме крыш, не видно. Комната под самым чердаком четырехэтажного дома, того самого, где в подвале мастерская по ремонту замков, примусов и велосипедов.
Здесь Флич живет уже третий месяц вместе с одноногим сторожем из цирка.
…Флич вошел в город с беженцами, не успевшими уйти по шоссе, которое перерезали немцы. Беженцы торопливо исчезали в переулках и дворах, словно испарялись под солнцем. А он брел по городу куда глаза глядят. Где искать мальчиков, куда они могли направиться, если добрались до города, он представления не имел. И не знал, что в то же время с другой стороны в город входили немцы.
Флич решил зайти в цирк. Ведь и мальчики могли найти приют в цирке! И потом, куда-то надо идти. Пугаясь тишины и настороженности улиц, Флич зашагал к центру. Иногда ему начинало казаться, что он в городе один, совершенно один. Он озирался затравленно и ускорял шаг.
Как же он обрадовался, когда увидел возле знакомого входа живую душу, старика сторожа! Тот сидел на табуретке в привычной позе, опираясь на крепкую клюку, и солнце играло на его солдатских "Георгиях".
Флич замахал ему рукой еще издали и почти побежал.
– Здравствуйте!
Сторож глянул на него из-под козырька красноармейской фуражки и, ничуть не удивившись, буркнул:
– Здравия желаю!
– Здравствуйте, дорогой друг, - с жаром повторил Флич и неловко пожал вместо его руки клюку. Появилось ощущение, что раз сторож на своем месте, значит, и все остальное на месте. Павел и Петр, верно, в своем вагончике, а под вагончиком - Киндер, он любит поваляться в тени.
Флич смотрел по сторонам посветлевшими глазами, все еще тряся дружелюбно клюку сторожа. И вдруг сообразил, что даже не знает, как старика зовут. Столько раз здоровался и прощался!… Нехорошо.
– Простите, как ваше имя, отчество?
– Филимоныч.
– Просто Филимоныч?
– Куды проще.
– Ну, хорошо… Филимоныч, - повторил Флич и спросил: - А где мальчики?
– Это какее-такее?
– Лужины, - пояснил Флич. - Павел и Петя.
Сторож глянул на Флича озадаченно.
– Вот-те… Вместе ж уехали!
– Да… Но они же сбежали обратно в город. Они должны быть здесь.
– Не видел, - задумчиво покачал головой старик.
– Странно. Может быть, они спят у себя в вагончике? Филимоныч, голубчик, пойдемте посмотрим.
Сторож молча поднялся, накинул на калитку крючок и пошел к цирку, постукивая деревянной ногой. Взволнованный Флич шел рядом, дергал головой, озираясь. Ни одной вещи не валялось на площадке. На вагончиках висели замки. Служебные ворота тоже на запоре. Словно в цирке выходной. А завтра с утра заснуют по цирковой улице артисты, униформисты, осветители и прочий трудовой люд, готовясь к представлению.
Флич остановился, сжалось сердце.
– У меня порядок. Имущество, оно казенное… - сказал сторож, постучав клюкой по стенке желтого вагончика Лужиных. - Нету тут твоих святых, Петра и Павла.
Они вошли под купол цирка. Вокруг большого серого пятна манежа толпились темные скамейки для зрителей.
– Петя… Павлик… - тихо позвал Флич.
– Нету. Я б увидал. У меня дальнозоркость, - сказал Филимоныч.
– Может, спят где? - Флич не хотел расставаться с надеждой.
Они обошли цирк. Заглянули под козлы, на которые был настелен пол. Зашли в конюшню. В осиротелых стойлах дрались воробьи.
Потом снова вышли к вагончикам, сощурились: солнце ударило в глаза.
– Теперь куда?… - участливо спросил Филимоныч.
– Не знаю.
Флич и в самом деле не знал. Идти было некуда. В это время на улице раздался треск мотоциклов.
– Что это? - спросил Флич.
– Видать, германец пожаловал, - нахмурился Филимоныч. - Идем на пост, - старик одернул пиджак с крестами и зашагал ко входу. И деревянная нога его и клюка стучали решительно и грозно.
Флич побрел следом, даже себе не признаваясь, что он попросту боится остаться один.
Старик уселся на свою табуретку. Флич встал рядом.
Немцы ехали на мотоциклах медленно, выставив в стороны черные дула автоматов. Едко запахло бензином.
За мотоциклистами показались пешие. Они шли двумя редкими цепочками, по обеим сторонам улицы, прижимаясь к домам, заглядывая в подворотни и подъезды.
От ближайшей цепочки отделились двое, подошли к ограде.
Филимоныч встал, откинул крючок, открыл калитку, словно приглашая автоматчиков войти.
Немцы осмотрели внимательно старика с клюкой и другого, в мятой, несвежей рубашке, горбоносого.
Один солдат что-то сказал товарищу. Флич уловил только одно знакомое слово: "циркус". Оба засмеялись и побежали занимать свое место в цепочке.
Где-то грохнули одиночные выстрелы, прострекотал коротко автомат.
– Закроем хозяйство. Пойдем. От греха подальше, - сказал Филимоныч.
– Куда? - сокрушенно спросил Флич.
– Ко мне пойдем. В тесноте, да не в обиде. Вещи-то твои где?
– В Москву поехали.
– И то ладно… Немчура-то не на век. Немчуру побьют. А вещи отымут - не вернешь!…
Филимоныч повесил на калитку большой замок и повел Флича переулками.
Так и поселился Флич у старика. Кое-что из оставшихся в вагончике вещей перетащили домой. Филимоныч наводил справки, расспрашивал знакомых: не видал ли кто Павлика и Петю? Но никто мальчиков не видел.
Флич старался выходить на улицу как можно реже, потому что город был оклеен строгими приказами: регистрировали и переселяли в гетто евреев, регистрировали мужчин в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, регистрировали женщин того же возраста. Ввели комендантский час. За уклонение от регистрации - расстрел. За хранение оружия - расстрел. За укрытие коммунистов и евреев - расстрел.
Филимоныч упорно сторожил цирк. Жалованья ему никто не платил, и он решил пойти в горсовет, или как он там нынче называется, к начальству. Где это видано, чтобы служивому не платили!
Городская управа занимала часть бывшего здания горсовета. В другой его части располагалась немецкая комендатура. Туда не пускали. Там стояли автоматчики. И внизу, у общего входа, стояли автоматчики. Но эти вроде для виду. Внешняя охрана. Эти никого не задерживали, только оглядывали каждого входящего. Оглядели и Филимоныча. Но он на осмотр не обратил внимания и, расправив усы, храбро вошел в двери.
В вестибюле у столика сидел цивильный с белой повязкой на рукаве, спросил:
– Куда, дед?
– Ты мне дорогу не закудыкивай, - сердито сказал Филимоныч. - К председателю я.
Цивильный осклабился:
– Эвон, вспомнил! Председатели кончились.
– Это я понимаю, - согласился Филимоныч. - Как же теперь его чин?
– Господин бургомистр.
– Бургомистр так бургомистр, - миролюбиво согласился Филимоныч. - Имя-то хоть у него есть?
– Господин Прешинский.
– Прешинский… - Филимоныч посмотрел на потолок, пошевелил губами, не то вспоминая, не то стараясь запомнить. - Стало быть, я к господину Прешинскому.
– По какому ж делу?
– По службе. Насчет жалованья.
– Насчет жалованья, тогда в финансовый отдел.
– В финансовый так в финансовый, - опять согласился Филимоныч.
В коридоре, возле нужной двери, сидели две молчаливые личности. Одного Филимоныч сразу узнал: заведующий мастерской, той, что в их доме, в подвале.
Другой незнакомый.
– Здравия желаю, - вежливо поздоровался Филимоныч. Оба молча кивнули.
– Живая очередь? - поинтересовался старик.
Ему не ответили. Он сел на стул и стал ждать. Спешить было некуда.
Долго дверь не открывалась. За ней смутно слышались голоса, слов не разобрать. Потом в сопровождении лысого мужчины вышла женщина, шурша шелком платья. Филимоныч оторопел. Это была артистка Лужина.
Она шла по коридору ни на кого не глядя и так гордо держала голову, что казалась выше ростом.
На какое-то мгновение Филимоныч усомнился: она ли? Да нет, она! Точно она! Провалиться!…
Мужчина шел рядом и немножко отставая, склоняя голову, словно старался посветить ей лысиной.
В вестибюле Лужина остановилась, повернулась к мужчине, тот поклонился, произнес басом:
– Заходите, дорогая фрау, как появится надобность. Всегда к вашим услугам.
– Благодарю, герр Рюшин. Вы ошень любезный. Ауфвидерзеен. - Она кивнула и исчезла.
А лысый повернул назад и шел к своему кабинету, сохраняя на лице улыбку, словно ее приклеили. Открыл дверь и произнес:
– Прошу следующего, господа.
Заведующий мастерской поднялся и, одернув пиджак, скрылся за дверью вслед за лысым.
– Я - за вами. Я сейчас… - обратился Филимоныч к оставшемуся мужчине и торопливо застучал деревяшкой по коридору, через вестибюль, на улицу. Очень хотелось посмотреть, куда пошла артистка Лужина?
Но на улице Лужиной не было. Странно. Не крылья ж у нее!
Он постоял немного, почесал в затылке и вернулся в городскую управу. Ждать своей очереди.
Гертруда Иоганновна не выходила на улицу, поэтому Филимоныч и не смог проследить, куда она направится. Предъявив часовому пропуск, она поднялась на третий этаж немецкой комендатуры, где размещалось представительство рейхскомиссариата "Остланд".
Она остановилась перед дверью, к которой была прибита белая картонная табличка с надписью острым готическим шрифтом: "ДОКТОР ДЕР РЕХТЕ
[1] ЭРИХ-ИОГАНН ДОППЕЛЬ". Остановилась на мгновение, чтобы собраться, сосредоточиться. Так она останавливалась перед выходом на манеж.
Постучала.
Хриплый голос за дверью произнес:
– Войдите.
Гертруда Иоганновна вошла в тесную комнату, где, кроме стульев у стены, сейфа и письменного стола с двумя телефонами, ничего не было.
– Здравствуйте, Отто, - сказала она приветливо.
Сидевший за столом немолодой унтер-офицер с черными бухгалтерскими нарукавниками встал.
– Здравствуйте, фрау Копф. Шеф занят. Придется обождать. Присаживайтесь.
– Если я вам не помешаю.
– О, нисколько! - Отто сел, застучал по клавишам задребезжавшей пишущей машинки, посматривая на бумагу, лежащую перед ним.
Он работал молча, словно в комнате никого не было.
Гертруда Иоганновна смотрела на стену прямо перед собой. Низ стены был выкрашен коричневой масляной краской, а верх свежевыбелен, без единого пятнышка, глазу не за что зацепиться.
Когда ее впервые привели сюда, стены были обшарпаны, на них виднелись квадратные белые пятна, видимо раньше висели какие-то диаграммы или плакаты.
Накануне ее допрашивал офицер в кабинете начальника тюрьмы. У офицера были тонкие светлые усики и сонные навыкате глаза. Он то и дело вытирал ладони носовым платком.
Она сказала правду. Все, как было на самом деле. Она немка, родом из Берлина. В двадцать шестом году приехала на гастроли. Полюбила. Вышла замуж. Детей двое, эвакуированы. Куда, она не знает. Муж мобилизован в Красную Армию. А ее вот арестовали. Счастье еще, что пришли соотечественники. Могли и расстрелять. Хотя она была лояльна к Советской власти.
Офицер усмехнулся, усики его перекосились.
– Вот видите, фрау Лужина, к чему приводит безрассудная любовь. Истинная немка должна прежде всего любить фюрера и Германию.
– Ах, господин офицер, - вздохнула она. - В двадцать шестом еще не было фюрера. А я была девчонкой.
Ее увели обратно в камеру.
Потом уводили на допрос соседок. Старуха и Олена не возвратились.
Она сидела на нарах, безучастная ко всему, словно мертвая. Это внешне. Она ждала. Она понимала, что жизнь ее сейчас зависит от малости: одно неосторожное слово, взгляд - и фашисты насторожатся.
Потом ее вывели из тюрьмы. Желтое солнце уходило за крыши, небо было зеленоватым, неподвижная листва деревьев казалась нарисованной. Пахло пылью, полем. Она остановилась вдохнуть вольного воздуха. Солдат подтолкнул ее в спину.
Ей помогли забраться в крытый кузов машины. Щелкнула дверь. Стало черно, ни лучика не проникало вовнутрь. "Как в могиле", - подумала она и заплакала.
Машина дернулась.
Она протянула руки, чтобы не упасть, ударилась о стенку и опустилась прямо на пол.
Никогда, никогда она не забудет этих минут в кромешной тьме, ужаса, который охватил ее. Казалось, что волосы на голове шевелятся. Сердце сжалось в такой крохотный комочек, что в груди образовалась пустота. И туда, в эту пустоту ворвалась окружающая ее тьма. Она хотела крикнуть и не могла. Голос пропал.
Потом машина остановилась. Открылась дверь. В кузов влился вечерний розовый свет. Солдат приказал выходить. А она не могла, ноги не слушались, она продолжала сидеть на полу, возле скамейки, прижимая руки к груди.
Солдат посмотрел на нее и засмеялся, заржал громко, заливисто. Она поняла, что он смеется над ней, над ее беспомощностью, над одеревеневшими ее руками и ногами. Ему весело, жеребцу!
Смех словно ударил ее, расколдовал. Она снова ощутила свои руки и ноги, поднялась, легко спрыгнула на землю. Она бы ударила солдата, такая в ней появилась злость, но кто-то тронул ее за плечо.
– Не сердитесь, фрау Лужина, к сожалению, в моем распоряжении нет другого транспорта.
Она увидела рядом того самого офицера, который допрашивал ее в тюрьме. Он улыбался, и усики его растянулись над губой тонкой ехидной полоской.
Надо было что-то ответить, но голос еще не слушался.
– Прошу, - офицер широким жестом указал на двери, возле которых деревянно стояли два автоматчика.
Она пригладила ладонями юбку и поправила волосы. Подумала: "Это только начало. А надо пройти через все. Ради мальчиков, ради Ивана, ради земли, на которой я была счастлива…"
– Они дали вам кредиты?
– Что?… Простите, Отто, я задумалась. Вы что-то спросили?
– Я спросил, фрау Копф, открыли ли вам кредиты?
– Разумеется, - Гертруда Иоганновна улыбнулась. - В конце концов все здесь теперь наше.
– Русские этого никак не могут усвоить, - сказал Отто. - Ночью на станции снова сожгли три вагона хлеба. То, что осталось, абсолютно непригодно для отправки.
– Вам попадет? - сочувственно спросила Гертруда Иоганновна.
– Мне? - Отто пожал плечами. - Мое дело бумажное: планы да сводки. А господин доктор расстроен. Бои идут у самой Москвы. Неделя-другая и - конец. Солдат нужно кормить. А русские жгут хлеб, угоняют, прячут скот, все портят, все ломают. - Он поморщился недовольно. - В конце концов наши солдаты проливают кровь за их свободу. Странный народ эти русские. Не понимают простых вещей.
Отто снова занялся своими бумагами. А Гертруда Иоганновна подумала: "Как же их обрабатывали, этих Отто, если они видят черное белым?"
…Как сказал доктор Доппель при их первом разговоре?
"Вы - немка. Вы принадлежите к великой нации. Мы пришли на эту землю навечно, чтобы построить здесь новую жизнь без Советов, без коммунистов. Это - историческая миссия немецкого народа. А что может быть прекраснее для немецкой женщины, чем сознание, что и она, вместе с фюрером, творит историю?"
Он говорил долго и красиво, круглыми гладкими фразами, пересыпал речь латинскими изречениями. Она покорно слушала, изредка кивая. Порой ей казалось, что кто-то сидит в нем внутри и читает заранее приготовленную речь, а доктор Доппель только открывает рот. Она слышала, что была в древности статуя-оракул. В каком-то храме. Внутрь садился жрец и прорицал.
Возле стола в кресле сидел, развалясь, привезший ее офицер и, полуприкрыв глаза, тоже слушал. А когда доктор кончил говорить, несколько раз хлопнул в ладоши. И доктор склонил голову, благодаря публику за аплодисменты.
Потом уже она узнала, что Доппель был адвокатом и с успехом защищал проштрафившихся нацистов. Его заметили, его отличили, он завязал большие связи в Берлине. И здесь, в оккупированном "пространстве", с ним считались и даже немного побаивались.
Ее поселили в номере той самой гостиницы, где они жили во время гастролей. Только на втором этаже. Номер был небольшой, но с умывальником и телефоном. Какой-то солдат принес ее чемодан. Вещи были перерыты, помяты, но ничего не пропало.
Доктор Доппель позвонил по телефону, справился, как она устроилась. Унтер-офицер Отто Харке принес ей в гостиницу новенький немецкий паспорт на ее девичье имя. Она снова стала Гертрудой Копф. Еще он принес пропуск в комендатуру, деньги и бутылку французского коньяку. Сказал, что доктор Доппель велел отдыхать и набираться сил.
Она угостила унтер-офицера коньяком, поговорили о том о сем, и Отто ушел.
Неделю ее никто не тревожил. Трижды в день она спускалась в ресторан. Садилась за один и тот же столик в углу. Кормили неважно, на кухне орудовал повар-солдат. В ресторане было полно офицеров, они пялили на нее глаза, кое-кто пытался заговорить, но у нее было такое каменно-отчужденное лицо, такой надменно-независимый вид, что смельчаки быстро сникали и, вежливо поклонившись, отходили.
 |
Как-то она услышала несколько фраз, произнесенных вполголоса:
– Кто эта женщина?
– Кажется, работает у Доппеля. Рейхскомиссариат "Остланд".
Что такое рейхскомиссариат "Остланд", она представления не имела. Но поняла, что учреждение Доппеля солидное.
На улицу она выходила редко, ранним утром или в сумерки. Шла привычной дорогой к цирку. Не доходя до ограды, останавливалась, смотрела сквозь листву деревьев на выгоревший под солнцем такой знакомый купол. Несколько раз видела сидящего на табурете одноногого сторожа. Подойти бы, заговорить!…
Город, будто больной, выходил из шокового состояния. Появились прохожие. С утра у булочных выстраивались длинные очереди, старики и женщины молчаливо жались к стенам, часами ждали, когда привезут хлеб. А привозили раз в день, в неопределенное время, и хлеба не хватало на всех.
Гертруда Иоганновна медленно шла обратно в гостиницу, ни на кого не глядя, но все подмечая.
Однажды на улице к ней подошел невзрачный мужчина в сером полосатом пиджаке и кепке блином, зыркнул взглядом по сторонам и сказал тихо:
– Товарищ Лужина, вас ждут сегодня на рынке в час дня.
И ушел.
Гертруда Иоганновна растерянно посмотрела ему вслед, поднялась в свой номер и минут пять сидела в кресле, опустив руки на колени.
Кто ждет? Может быть, дети? Может быть, весточка от Ивана? Или ее проверяют? Ведь Алексей Павлович предупреждал.
Идти или не идти? Как поступить?
Она долго смотрела на телефонный аппарат, словно в нем прятался ответ. Потом решительно сняла трубку и позвонила Доппелю. Отто ответил, что господина доктора нет на месте. Тогда она спросила, как позвонить штурмбанфюреру Гравесу, тому самому, с тонкими усиками.
– Что случилось? - спросил Отто.
– Ничего. Личное дело. Может быть, вы попросите его позвонить мне. Только немедленно.
– Хорошо.
Она сидела и смотрела на телефон, как завороженная, а когда он зазвонил, вздрогнула от неожиданности.
– Здравствуйте, фрау Копф, мне передали, что я вам нужен.
– О, господин штурмбанфюрер! У меня, кажется, начинаются приключения. Только что на улице ко мне подошел какой-то тип. Назвал меня "товарищ Лужина" и сказал, что меня ждут на рынке в час дня.
– О-о… - протянул Гравес. - Вы его знаете?
– Нет.
– И что же?
– Я думала, это вас заинтересует.
– Любопытно. Вы пойдете?
– Представления не имею, кто меня может ждать. Если это кто-нибудь из советских…
– Да-да, я слушаю…
– Может быть, меня заманивают, чтобы убить?
– За что?
– А за что они меня посадили в тюрьму?
Штурмбанфюрер подышал в трубку.
– Хорошо. Вы сходите на рынок. Мои люди за вами присмотрят. Не беспокойтесь. Служба имперской безопасности всегда начеку.
– Хорошо, господин Гравес.
Она пошла. На рынке было немного народу, не то что в мирное время. Продавали старые вещи, махорку, кусочки сахара, зажигалки.
Немецкие солдаты, горланя, выменивали сигареты на побрякушки, искали самогон.
Она несколько раз обошла рынок, присматриваясь, но не увидела ни одного знакомого лица, и никто к ней не подошел. Значит, проверяли… Значит, позвонив штурмбанфюреру, она поступила правильно.
…Дверь в кабинет Доппеля открылась. Отто вскочил ивытянулся. Через комнату прошел незнакомый офицер, мельком глянул на Гертруду Иоганновну. Потом в дверях появился Доппель.
– Гертруда, рад вас видеть! Проходите, садитесь.
Каждый раз кабинет Доппеля вызывал у нее воспоминание о русской бане у свекра в Березове. Так же влажно и душно.
На подоконниках, на маленьких столиках у стен и даже посередине комнаты стояли в глиняных горшочках и горшках множество кактусов. Зеленые и голубоватые, гладкие и шершавые, даже полосатые, покрытые множеством разнообразных колючек. И каждый горшочек аккуратно обернут белой витиевато вырезанной бумажной салфеткой. Их вырезал сам Доппель. И тонкошеей лейкой орудовал он сам. Отто каждый вечер только приносил воду, чтобы она отстоялась. Непонятно, кто больше не любил открытых окон, сам Доппель или его кактусы, только окна были всегда закрыты и в кабинете стояла влажная духота.
– Здравствуйте, господин доктор.
– Боже, как официально! Мы же с вами договорились, Гертруда. Итак, каковы наши успехи?
– Все оформлено. Гостиница вместе с рестораном передана нам в аренду на десять лет.
– Вам… - поправил Доппель.
– Но, Эрих!…
– Фирма "Фрау Копф и К°". Так вот я - всего-навсего "К°". - Он засмеялся. На одутловатом, когда-то красивом лице у глаз и губ собрались морщинки. - Дела наши на фронте идут великолепно. Не сегодня-завтра падет Ленинград. Два шага до Москвы. Вы обратили внимание на офицера, который вышел от меня?
– Нет.
– Напрасно. Это мой старый друг. Через несколько дней о нем заговорит мир! Он командует спецгруппой, которая выполнит особое поручение фюрера, взорвет Кремль!
У Гертруды Иоганновны перехватило дыхание. Она представила себе такую знакомую Спасскую башню падающей в туче розовой пыли, как стена дома напротив гостиницы во время первой бомбежки. С трудом сдержав крик, она выдавила из себя хриплое:
– Зачем?
– Все, что напоминает Восток, должно быть уничтожено. Мы построим новую жизнь на чистой земле! Но это будет завтра. А сегодня нашим офицерам нужен хороший уютный отдых, приличный стол, доступные развлечения. Надеюсь, ваши добрые, женские руки…
– Эрих, - перебила она его. - Я всего лишь артистка цирка.
– Вы немка, Гертруда. У вас есть характер. Думаете, я не знаю, как вы завоевывали… м-м-м… жизненное пространство там, в советском застенке?
– Я только защищалась.
– Нет, вы нападали. Вы нападали, как истинная дочь своего народа. Напористость, отвага у нас, у немцев, в крови. Не так ли? Отто! - неожиданно позвал он и, когда тот появился в дверях, приказал: - Вызовите Шанце, он должен быть в караульном помещении. - И, обратившись к Гертруде Иоганновне, добавил: - Гуго Шанце - мой вам сюрприз и гвоздь вашей будущей фирмы!
Доктор Доппель оказался не только оратором, но и коммерсантом. Это была его идея: взять в аренду гостиницу с рестораном, отсрочить платежи за аренду и начать обслуживание приезжих офицеров. Пока служба безопасности проверяла Лужину, он обдумывал, прикидывал, подсчитывал. Лужина показалась ему женщиной волевой, энергичной, судя по ее поведению в тюрьме. И потом, она была артисткой, умела держаться. Не всякая женщина прыгнет на лошадь на скаку! И даже то, что она не искушена в коммерции, его устраивало. Воровать не будет. В сущности, Гертруда - подставное лицо. А гостиница и ресторан с кабаре для офицеров будет приносить приличный доход. Беднягам скучно и некуда девать деньги!
К тому времени, когда служба безопасности в лице штурмбанфюрера Гравеса известила доктора о том, что Гертруду Лужину можно использовать в качестве служащей, доктор уже все продумал, прикинул и подсчитал.
Несколько раз он беседовал с Гертрудой. Он не уговаривал ее, он красноречиво, в свойственной ему манере расписывал достоинства и блага будущего "дела". А сам одновременно вел от ее имени переговоры с военным комендантом и городской управой. Он был уверен, что Гертруда Копф согласится. В конце концов женщина должна была заняться каким-либо делом!
А Гертруда Иоганновна не заставила себя долго упрашивать. Уж лучше быть владелицей гостиницы, чем, допустим, переводчицей у штурмбанфюрера Гравеса в СД. Да и посоветоваться ей было не с кем. Никому не требовалось починить замок чемодана.
Так появилась на свет скромная фирма "Фрау Копф и К°".
Предстояло принять гостиницу, проверить служащих, подобрать штат, кое-что перестроить в ресторане, найти или выписать из Германии артистов для кабаре.
Всю финансовую часть Доппель взял на себя, а организацию возложил на Гертруду. Женщина смыслит в кухне и уюте больше!
В дверь постучали, и в кабинет, прихрамывая, вошел тощий фельдфебель. Форма на нем висела мешком, ремень сползал на бедра. Лицо у него было вытянутое и бледное, даже зеленоватое. Длинный острый нос свисал чуть не до губ, казалось, что он прямо тут же вытягивается и фельдфебель прилагает бесконечное внутреннее усилие, чтобы он не вытянулся до полу. Может быть, от этого светлые, близко посаженные к носу глаза его были печальны. Он поднял вверх непомерно длинную руку и тонким слабым голосом выкрикнул:
– Хайль Гитлер!
– Хайль. Вот, Гертруда, это Гуго Шанце, личный повар генерала Клауса фон Розенштайна! - несколько торжественно произнес Доппель.
– Повар? - с сомнением спросила Гертруда Иоганновна, уж очень не вязалась тощая бледная фигура фельдфебеля с профессией повара.
Доппель понял ее и улыбнулся.
– Внешность обманчива. Я сам неоднократно имел удовольствие пробовать его стряпню. Ах, какое это было прекрасное время! Генерал фон Розенштайн любил и умел поесть. Не так ли, Гуго?
– Так точно, господин доктор.
– Кто же теперь кормит генерала? - спросила Гертруда Иоганновна.
– Теперь он сам кормит червей. Его убило осколком русского снаряда.
– Простите… Вы тоже были ранены?
– Нет, фрау. Я хромаю с детства. Просто нога высохла ни с того ни с сего. А генералу нечего было на старости лет соваться в эту кашу. Сидел бы дома.
– Какой ужас! - Гертруда Иоганновна побледнела и на глазах ее заблестели слезы, потому что она представила себе Ивана, которого убивает немецкий снаряд.
– Гертруда, дорогая, вы - истинная немка, - проникновенно сказал Доппель. - Не надо слез. Генерал Клаус фон Розенштайн пал смертью героя за фюрера и Германию! Гуго, вы расстроили свою новую хозяйку фрау Гертруду Копф.
– Прошу прощенья, фрау.
– Возьмете свои вещи и пойдете с фрау Копф. Она устроит вас на жилье в своей гостинице.
– Слушаюсь.
– Идите.
– Хайль Гитлер!
– Хайль.
"В своей гостинице! Ну и ну… Что еще впереди? Хоть бы скоре пришел человек, которому нужно починить замок чемодана", - подумала Гертруда Иоганновна, прощаясь с Доппелем.
Последние дни, когда матери стало совсем худо, Василь спал урывками, ухаживал за больной днем и ночью.
Фашисты выгнали из больницы всех. Тех, кто вовсе ходить не мог, выносили и складывали прямо на земле возле кирпичной стены больничного сада, на солнцепеке. Смотреть страшно!
Василь забрал мать домой. Пришли за ней втроем: он, Толик и Злата. Мать еле ноги переставляла. Хорошо, что идти не так уж далеко.
Первые дни она лежала без стонов, глядела в потолок, терпела боль. Катерина пела ей песенки, и мать слабо улыбалась, глаза ее еще поблескивали, светились. Потом она стала впадать в забытье, осунулась, почернела, глаза ее потускнели, словно внутри погас какой-то свет.
Толик и Злата приходили по очереди посидеть возле нее. А Василь бежал добывать еду. Надо было кормить и мать, и Катерину, да и самому есть хотелось. А денег не было. И были бы - что на них купишь? Вот и бегал с наступлением темноты по чужим огородам. Подкапывал картошку меленькую, - лето сухое! Таскал морковку и огурцы. Однажды уволок даже зеленую тыкву.
Риск был немалый: или фашисты пристрелят, или хозяева поймают, спуску не дадут. Отродясь не воровал, нужда заставила.
В ту ночь, когда умерла мать, Василь задремал возле стола. Проснулся от необычной тишины: ни стона, ни вздоха. Подошел к матери, а она не дышит. Он, растерянный, постоял возле изголовья. Хотел было разбудить Катерину, да раздумал. К чему? Пускай спит.
Тихонько, на цыпочках, словно боясь разбудить мертвую, Василь вышел на кухню, сел на табурет и заплакал. Слезы текли и текли, он размазывал их рукавом рубахи по щекам, а они все текли.
Потом, когда стало уже совсем светло, он ополоснул лицо водой, разбудил сестренку, помог ей одеться и, крепко взяв за руку, увел из дому. Про мать ничего не сказал.
Катерина ныла, что хочет есть, но Василь успокоил ее, сказав, что идут к Злате и Злата ее непременно покормит.
Потом начались хлопоты. Надо было взять разрешение на похороны. Не было гроба, пришлось сколачивать самим из старых нестроганых досок. Соседи помогли.
Лейтенанта Каруселина, который сидел один в "вигваме", не то чтобы забыли, а просто за хлопотами мысли о нем отодвинулись на второй план. И только утром, в день похорон, отрядили к нему Толика.
Добираться до "вигвама" с каждым днем становилось все труднее. Немцы навели мост, но он охранялся. Солдаты проверяли документы и поклажу у всех входящих в город или покидающих его.
Толик взял грибную корзину, положил в нее кусок хлеба, непропеченный, словно слепленный из глины с отрубями и соломой, больно царапавший десны. В карман пальто сунул кусочек желтоватого сала.
Прошло то время, когда карманы Толика были набиты собачьей едой. Попадись сейчас косточка с мясом, сам бы сгрыз с удовольствием!
Первые дни, когда фашисты начали вводить свои строгости, мать не выпускала Толика на улицу, даже пробовала запирать. Но потом поняла, что бесполезно, сын подрос, у него свои дела, дурного он ничего не сделает.
И Толик стал уходить из дому, когда хотел, куда шел - не докладывал, где был - не рассказывал.
Большой Совет постановил выходить лейтенанта, и Великие Вожди находили разные способы навещать своего подопечного в "вигваме". Перебраться через речку - плевое дело! Проверено. Вот только вода похолодала, и купающийся в эту пору выглядел по крайней мере чудаком. А привлекать к себе внимание не следовало, хоть на речке и в лесу немцы не появлялись. Только у моста.
Толик подошел к деревянной будке возле шлагбаума, снял кепку и произнес вежливо:
– Гутен морген.
Солдат выходить из будки не стал, охота мокнуть под дождем! Поманил Толика пальцем и, когда тот подошел, заглянул в корзину.
– Аусвайс.
Толик замотал головой.
– Найн, нету. Их бин кляйне. Маленький. Я собирать грибы в этот корзинка, - Толику казалось, что, если он будет говорить, коверкая русский язык, немец его скорей поймет. Для наглядности он даже достал из кармана перочинный ножик, раскрыл его, нагнулся и "срезал" два воображаемых гриба.
Солдат высунул из будки руку, отобрал ножик, осмотрел его. Ножик был старый, с поломанным лезвием. Солдат недовольно поморщился, бросил его в корзинку и махнул рукой: шагай, мол, разрешаю.
Толик поклонился, пробормотал:
– Данке, данке…
И пошел по мокрому деревянному настилу через речку. Пройдя немного по дороге, он, не доходя до знакомой тропы, свернул в лес и постоял в кустах. На всякий случай. Потом двинулся дальше, срезая попадавшиеся грибы. Грибов было много, взрослые в лес не ходили и ребят не пускали. Толик не брал переростков, выбирал грибы помоложе, покрепче.
Каруселин обрадовался его приходу. Он сидел один в темной землянке, завернувшись в старое одеяло. Лампу не зажигал, керосину оставалось на донышке. Примус сиротливо приткнулся в углу, поблескивая желтым боком. В землянке пахло древесной гарью. По ночам лейтенант разводил на полу маленький костерок из сушняка и кипятил на нем воду. Дым выползал в приоткрытую дверь. Забреди сюда какой-нибудь путник, принял бы огонек в земле за преисподнюю. Но кто забредет ночью в такую глухомань!
Пошли дожди, в кронах берез явственно проступила желтизна, кое-где лист срывался и, крутясь, падал на землю золотой монетой.
Крупа кончилась. Каруселин перешел на подножный корм, варил и пек грибы. Хорошо, хоть соль есть, но и та на исходе.
Еще на прошлой неделе Большой Совет решил забрать лейтенанта в город, пока еще вода в реке сносная. В темноте, держась за бревно, переплыть можно. А на том берегу встретят с сухой одеждой. Но тут случилась беда, и пришлось заниматься похоронами. Толик поделил с лейтенантом сало и хлеб и, пока они ели, рассказал, что сегодня хоронят мать Василя. И если лейтенант появится завтра с утра, то Ржавый выдаст его за своего дядю. Мол, приехал из деревни на похороны, да опоздал. А там видно будет.
Каруселину тоже надоело сидеть в лесу. Бритвы не было, он оброс белесой редкой бородой. Ржавый принес ему отцовскую рубаху и пиджак, который висел на похудевшем лейтенанте мешком. Сапоги, когда-то блестящие, ухоженные, покорежились от воды, солнца и огня. Деревенский мужик и только, ничего лейтенантского не осталось. Кроме, разве, пистолета.
Лейтенанта томила бездеятельность. По вечерам он настраивал Серегин самодельный приемник и слушал последние известия, напрягаясь и с трудом улавливая слова.
Вести с фронта были тревожные. И лейтенант для себя решил твердо: сначала перебраться в город, а оттуда - на восток, через линию фронта, к своим. Он уже достаточно окреп, спасибо ребятам. Какие замечательные ребята! Мысль о разлуке с ними печалила. Они ему стали родней отца-матери. Он им жизнью обязан!
Каруселин жевал сало и посматривал на Толика.
– Мне пора, - сказал Толик. - Ребята ждут. Значит, запоминайте: вы - Геннадий Васильевич Чурин. Это девичья фамилия Василевой мамы. А вы ее брат.
– Чурин Геннадий Васильевич, - повторил Каруселин.
– Правильно. Приехали из деревни Болотная. Немцев там не было. Аусвайсы не выдавали. И вообще там глухомань.
– Ясно.
– Как стемнеет, выходите к реке. Ниже того места, где мы вас вытащили. Там река хоть и шире, да спокойнее. Все-таки у вас плечо.
Лейтенант махнул рукой: мол, пустяк!
– Найдете причаленное бревно. Мы им все время пользовались. Одежку свяжите. А на том берегу кто-нибудь встретит. И лучше без шума. На всякий случай. Хоть там немцев и нет.
Каруселин проводил немного Толика, помог добрать грибы. Корзину сверху прикрыли папоротником, как и положено настоящему грибнику. У моста дежурил тот же солдат. Толик снял кепку и сказал:
– Гутен таг.
Солдат вытянул шею, заглянул в корзину. Толик услужливо приподнял папоротник.
Солдат почмокал губами.
Толик поставил корзину на землю, обеими руками взял несколько боровиков, протянул солдату: пожалуйста, всегда рад поделиться!
– Найн, - сказал солдат и добавил какую-то длинную фразу, которую Толик не понял.
Поклонившись, Толик подхватил корзину и пошел в город.
Днем Василь, Толик, Злата и Толикова мама тетя Дуся подняли гроб с телом покойной на плечи и понесли на кладбище. Тетя Дуся была довольно рослой женщиной, она шагала в паре с маленькой Златой и гроб перекосило.
Позади шла притихшая Катерина в стареньком коротком пальтишке. Она старательно обходила лужи или перепрыгивала через них. Она еще до конца не понимала, что это ее маму уносят на кладбище навсегда.
Редкие прохожие смотрели маленькой процессии вслед. Какая-то старушка перекрестилась.
Почти у самого кладбища остановил патруль - трое автоматчиков.
– Хальт. Аусвайс.
Василь достал из кармана разрешение на похороны. Один из солдат взглянул на бумагу, жестом велел опустить гроб на землю.
Опустили.
Так же жестами велел поднять крышку. Крышка была прибита гвоздями, ее с трудом оторвали.
Солдаты равнодушно взглянули на покойницу. Один из них сказал:
– Гут.
И они пошли дальше.
Шмыгая носом от горя и обиды, Василь приладил крышку на место.
– Гады! - сказал он сквозь зубы и так посмотрел фашистам в спины, словно прожигал их насквозь.
Вернулись с кладбища уже под вечер. Тетя Дуся принесла муки, напекла блинцов, растопила немного свиного сала. Заварила чай. Поели молча.
За окном стемнело. Толик переглянулся с Василем и поднялся. Василь тоже встал.
– Куда? - спросила тетя Дуся.
– Дело, мама.
– Хоть бы сегодня…
– Пусть идут, тетя Дуся, - сказала Злата. - Они скоро.
– И что у вас за дела? Ведь застрелить могут.
– Мы маленькие, - сказал Василь баском. - Нас не видно.
А дождь все хлестал по темному городу, словно стремился хоть с одного окошка смыть темноту, добраться до света.
Василь нес за пазухой узел с одеждой для лейтенанта, чтоб не намок. Шли молча, быстро, легким шагом по-кошачьи, как и подобает Великим Вождям.
Вышли к речной пойме и двинулись по прибрежной улице. Мокрая земля чавкала под ногами.
За одним из заборов залаяла собака. Толик остановился. Уж очень знакомым показался собачий голос.
– Ты чего? - спросил Василь.
– Ничего. Слышишь?
– Собака.
Толик пошел было дальше, но снова остановился, сунул два пальца в рот и трижды коротко и тихо свистнул.
По ту сторону раздался хруст веток, кто-то пробирался через кусты. Собака несколько раз тявкнула и заскулила.
Толик стоял неподвижно. Остановился и Василь.
– Киня, ко мне, - тихо позвали из темноты собаку. Голос был старческий.
Снова затрещали кусты, и за забором все стихло.
Василь тронул Толика за плечо. Свернули к реке. Зашуршала под ногами жесткая осока.
Противоположный берег скрывала тьма. Деревья на нем даже не угадывались. И река была не видна, только едва слышно рядом журчала вода.
Ребята остановились и стали всматриваться во тьму.
– Вспомнил, - прошептал Толик. - Киндер лаял. Его голос.
– Ты что? - в голосе Василя звучало изумление. - Киндер давно в Москве. Они же с цирком ушли.
– Может быть… Но очень похож.
– Ты ж на собаках собаку съел, - усмехнулся Василь.
Толик не ответил. Некоторое время они напряженно прислушивались, стараясь уловить какой-нибудь посторонний звук.
– А кто в этом доме живет? - тихо спросил Толик.
– В каком?
– А где собака.
Василь пожал плечами:
– Вроде, старик…
– Один?
– Тихо.
Они снова прислушались.
– Показалось.
– Когда я свистнул, собака заметалась. Выходит, знает свист.
– И я бы свистнул - заметалась. У тебя в мозгах сдвиг на собачьей почве.
– Тихо, - Толик тронул товарища за руку.
На этот раз послышался смутный всплеск, потом другой, слабый, но отчетливый. На черной воде появилось еще более черное пятно, расплывчатое и длинное. Оно ткнулось в берег.
Василь и Толик подхватили скользкое бревно, подтянули, чтобы не унесло течением. Голый Каруселин вышел из воды, в темноте он смахивал на призрак, а не на человека из плоти.
– Вытирайтесь, - Василь протянул ему полотенце. - Быстренько. Одежда сухая?
– Подмокла немного.
– Надевайте. Мы еще штаны принесли и пальто.
Лейтенант торопливо оделся.
– Пошли.
Зашуршала под ногами осока.
Впереди шел Василь, за ним Каруселин, замыкающим Толик.
Когда вышли к забору, за которым лаяла собака, Толик приостановился. Дом едва намечался светловатым пятном сквозь сад. Кругом было темно и тихо. Только осторожно чавкала земля под ногами впереди идущих.
Толик двинулся следом.
Тетя Дуся ушла домой. Злата увела Катерину, как было условлено. Василь открыл дверь ключом, впустил вперед Каруселина.
– До завтра, - сказал Толик.
– Спасибо, - откликнулся лейтенант.
– Не на чем.
Толик шагнул от двери и словно растворился во тьме.
Филимоныч рассказал своему жильцу, что видел в городской управе артистку Лужину.
Флич не знал, что и думать! Он обрадовался, что Гертруда жива. Но как попала в городскую управу? К ним?
Старик утверждал, что начальник, у которого он требовал жалованья, лысый такой, важный, перед ней ковром стелился. Видать, она еще в большие начальники выскочила!
Ну в какие начальники может выскочить тихая домашняя Гертруда? Да, она - немка и могла как-то использовать свое происхождение. Допустим. Но выскочить в начальники!… Чушь какая-то!
Он бы встретился с ней. Но во-первых, не знал, где ее искать. Во-вторых, что он ответит ей, когда она спросит о сыновьях? Что? А она спросит… В-третьих…
Все время в памяти воскресал последний вечер перед эвакуацией. Он как бы восстанавливал его, выстраивал минуту за минутой и начинал ощущать смутную тревогу.
Почему Гертруда была так взвинчена? Почему сказала, что у нее плохое предчувствие, что с ней непременно должно что-то случиться? Почему, еще вечером, до ареста, велела присмотреть за мальчиками? Может быть, она знала, а не предчувствовала? Тогда почему не сказала прямо, что ее должны арестовать? Почему, наконец, не сбежала, не скрылась, если знала? В суматохе вряд ли стали бы ее так уж разыскивать. Ведь она никакого преступления не совершила. В этом он уверен. Твердо уверен. Он знает Гертруду столько лет! Она не способна на подлость, на измену.
А может быть, Филимоныч встретил вовсе не ее в управе? Мало ли похожих женщин? Просто и обознаться.
Но старик стоял на своем. Описал и голубое шелковое платье, как шуршало, когда шла. И как она держала голову, и светлые волосы валиком. И как она говорила по-русски, словно не по-русски.
Оставаясь один, Флич гонял по ладони монетку, слоняясь по комнате, придумывал новые фокусы, возился с аппаратурой, стряпал на кухне. А думал все время о Гертруде и о ее мальчиках. В то, что мальчики погибли, не верил. Как это погибли ни с того ни с сего, просто так? Немыслимо! Они доберутся до города, рано или поздно он их найдет. Зайдут же они в цирк!
Вот Гертруда оставалась загадкой. Что она делает? Как живет?
И еще: куда девался Мишель, дядя Миша, клоун Мимоза? Он ушел из цирка до эвакуации, неприметно. Куда? Где он? Жив ли?
Вопросы, вопросы, вопросы… А ответов нет.
Филимоныч все сторожил цирк. Хлопоты его о жалованье не увенчались успехом. Лысый отказал начисто.
– Управа вас в сторожа не нанимала. Платить не будем.
Филимоныч упорствовал.
– Я сторожу казенное имущество. Власть меняется, имущество остается.
Лысый его рассуждениям не внял. Тогда Филимоныч пригрозил пожаловаться самому немецкому коменданту.
Лысый выгнал старика взашей да еще приказал дежурному, тому, что сидел в вестибюле с белой повязкой, не пускать больше этого просителя в управу.
Так и сказал "просителя". Это очень рассердило Филимоныча, потому что он не просил, а требовал!
– Ну, погоди, господин, хороший! Придешь за имуществом - кукиш дам! Хоть расстреляй! - крикнул он лысому и пристукнул для твердости об пол деревянной ногой и клюкой разом.
И ведь как в воду глядел.
Пришли за имуществом.
Только не лысый, а артистка Лужина, и не одна, а с двумя немцами.
Немцы были в форме. Унтеры, как сообразил Филимоныч, еще когда они подходили. Один из них хромал. На Лужиной был светлый плащ с пояском, в руках бежевый ридикюль.
– Здравствуйте, старый знакомый, - сказала она улыбаясь.
– Здравия желаю!
Филимоныч встал, но калитку не отпер.
– Мы хотели бы смотреть кое-что в вагоншики.
– Никак нельзя, - отрезал старик.
– Почему?
– Вы от новой власти?
– Да… - неуверенно откликнулась Гертруда Иоганновна.
– Новая власть мне жалованья не платит, стало быть, и имущество не подлежит.
Немец, который помоложе, что-то спросил. Лужина ответила, и все трое засмеялись.
– И давно не платят?
– С самого приходу. А лысый еще и обозвал.
– Лысый?
– Этот, что финансовый отдел в управе.
– Господин Рюшин?
– Может, и Рюшин. Вам виднее.
Артистка что-то сказала немцам, и снова они засмеялись.
– Карашо. Я беру вас на службу.
– Это как?
– Так. Я - владелица гостиница и ресторан. Там будет кабаре. Представления. Как у нас в цирке. Это все, - она махнула рукой в сторону цирка, - тоже мой. Мое. Я буду вам платить жалований. Сколько?
Филимоныч оторопел. Вот те на! Владелица гостиницы! Ах, бесстыжая рожа! Но ответил безучастно:
– Сколько положено.
– Вы приходите в гостиницу и спрашивайте фрау Копф. Это я фрау Копф. А теперь открывать калитка. Мы будем смотреть имущество.
"Куда денешься?" - подумал Филимоныч, открыл калитку, впустил новых хозяев и пошел следом. Молча отмыкал он им замки на вагончиках и наблюдал, как они роются в вещах, перекладывают с места на место какие-то тряпки, побрякушки, железяки.
Новоиспеченная "фрау" была, как дома. Знала, где что лежит.
Гертруда Иоганновна отобрала некоторые костюмы, занавеси от форганга, отложила кое-что из реквизита. Вдруг пригодится! В вагончиках подолгу не задерживалась. Почти не разговаривала со своими спутниками, чтобы те не догадались, какую она терпит муку, роясь в этих облупившихся, со следами поспешного ухода, вагончиках.
Каждый костюм, которого она касалась, тотчас словно облекал человеческое тело. Возникали родные лица товарищей, улыбки, руки, глаза… Из далекого далека являлись они к ней упрекнуть… Нет, упрека она не принимала. Поддержку - да. "Я с вами, братья и сестры. Я все равно, я всегда с вами", - твердила она себе, откладывая знакомые вещи. Господи, дай силы вынести эту муку!
В свой вагончик она не зашла. Не могла зайти. Там были Иван и дети. Их глаз она бы не вынесла.
Когда Филимоныч загремел ключами возле желтого вагончика, она сказала чуть резче, чем хотела:
– Этот не надо!… - И добавила для своих спутников по-немецки: - Это мой вагончик. Отсюда я взяла все еще до тюрьмы. Не будем тратить время.
В вагончике Флича она насторожилась. Аппаратуры не было. Даже поломанной вазы. Кто мог взять аппаратуру фокусника? И костюмов его не было. Странно. Может, сам Флич? Дети сбежали. Но Флич… О Фличе ей ничего не говорили, не предупреждали. Клоун Мимоза остался в городе. К встрече с ним она готова… Но Флич… Кто же взял аппаратуру? Спросить у сторожа… Только не при этих. Любой из них может понимать русский. И Отто и Шанце. Фашисты хитрые. Она должна быть хитрее.
Гертруда Иоганновна показала на пару изношенных туфель, длиннющих, с загнутыми вверх носами.
– Это возьмите, Отто.
– О! - Немец взял туфли и с удивлением начал их рассматривать.
– Башмаки клоуна, - пояснила она и улыбнулась через силу.
Отобранных вещей набралось порядочно. Их связали в два больших узла.
– Несите в гостиницу, - приказала Гертруда Иоганновна Отто и Шанце.
– Может быть, подогнать машину?
Конечно, на машине проще, но ей необходимо остаться со сторожем с глазу на глаз.
– Несите. Здесь недалеко. А я еще допрошу старика. - Она так и сказала "допрошу". - Может быть, не все артисты уехали? Идите.
Отто и Шанце подхватили громоздкие узлы, взвалили их на спины и, согнувшись, потащили к калитке.
Когда они отошли, Гертруда Иоганновна взяла сторожа за руку и так сжала ее, что Филимоныч охнул.
– Ну… Куда делась аппаратура для фокус?… Только без фокус!… Кто взял аппаратура?… Флиш?
"Так я тебе и скажу, - подумал старик, - нашла дурака".
– Знать не знаю, ведать не ведаю. - И добавил непривычное: - Фрау.
– Послушайте, сторож. Я не хотела спрашивать при зольдатах. Они могут стрелять. Я не стреляю. Если спросят они, будет ошень плохо.
– Я по вагончикам не шастал. Может, ребятишки в суматохе, как цирк уехал. А я - при калитке.
Гертруда Иоганновна поняла, что правды от старика не добьется. В душе она одобряла его: ведь явилась с немцами! И вообще, теперь она всем им чужая.
– Карашо. Кто-нибудь из артистов есть в городе? Приходил?
– Не видел. Только вот вас.
Что-то ехидное было в том, как он это произнес. Ну старик! Взять да и чмокнуть тебя в щетинистую щеку! Она нахмурилась.
– Если кто придет, я даю работу. Запоминали?
– Чего ж не запомнить.
– Карашо. Ауфвидерзеен. До свидания.
Филимоныч пристукнул деревяшкой.
– Желаю здравия.
И она ушла, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, быстрыми мелкими шажками, высокомерно подняв голову. Так ей легче было скрывать от окружающих и страх, и боль, и тревогу.
Филимоныч, по случаю свалившегося с неба жалованья, навесил на калитку замок и заспешил домой.
Во дворе, возле входа в слесарную мастерскую, на стремянке стоял ее заведующий в потертом халате. В одной руке - банка с черной краской, в другой - длинная плоская кисточка. Высунув язык, он на вывеске, под рукой с вытянутым указательным пальцем, рядом со словом "ЗДЕСЬ", подправлял совершенно непонятное слово "HIER"
[2].
Филимоныч приподнял фуражку. Заведующий кивнул.
Флич стряпал на кухне. Сердито шипел примус. Пахло подгорелой кашей.
– Что так рано? - спросил он Филимоныча.
Тот не ответил, повесил фуражку на гвоздик, прошел в комнату, уселся на койку и отстегнул от ноги деревяшку. Он давно привык к ней, она не мешала. А сегодня на оторванной выше колена ноге заныли пальцы. Их не было, а он их чувствовал. То ли от волнения, то ли от погоды.
Флич принес с кухни котелок, завернутый в старый теплый шарф, поставил его рядом с Филимонычем на койку и накрыл подушкой.
– Пусть попреет.
– Жалованье мне нынче положили, - задумчиво сказал Филимоныч.
– Жалованье?
– Ты, Яков, сядь, а то свалишься, - сказал Филимоныч и добавил: - Такие дела.
Флич присел на краешек стула.
– Нынче артистка твоя приходила.
– Лужина?
– Угу… Только теперь она прозывается фрау… это… Кроп или Клоп…
– Копф, - подсказал Флич.
– Точно. А ты почем знаешь?
– Это девичья ее фамилия.
– Во-она!… Тогда конечно…
– Что она тебе сказала? - поторопил Флич.
– Пришла она, стало быть, с двумя немецкими унтерами. Один небольшой такой. А другой синий да тощий, чисто дохлая лошадь.
– Ну, - снова поторопил Флич.
– Подавай, говорит, мне, сторож, имущество.
– Имущество?…
– Ага… Теперь, слышь, гостиница еёная и цирк еёный.
– Гостиница?…
Флич ничего не понял, занервничал. А Филимоныч ничего не объяснял. Ему и самому требовалось все происшедшее как следует обмозговать.
– Открыл я им калитку. Все вежливо. Она мне и жалованье положила.
– Гертруда?
– Фрау. Стали они в вагончиках шуровать. То, се позабирали. Два узла. А в тот вагончик, где она сама красилась, не пошла. Этот, говорит, не отпирай. Ладно. Забрали немцы барахло. Потащили. И тут она меня хвать за руку. Сильная, черт! Глядит мне прямо в глаза: где аппаратур для фокусов? Флич забрал?
– Так и спросила?
– Напрямки. Нашла дурака! Ребятишки, говорю, растащили. А про тебя - молчок. И еще сказала, которые артисты есть в городе, пусть приходят на работу. Представления будут… ка… карабе.
– Кабаре, наверно, - догадался Флич.
– А все едино.
– И больше ничего не сказала?
– Больше ничего.
Флич поднялся, заходил по комнате.
– Одного понять не могу, - сказал Филимоныч. - Говорит: гостиница - моя, ресторан - мой, цирк - тоже мой. Это что ж, она - директор или, к примеру, как частный капитал?
– И ничего больше не сказала? - снова спросил Флич.
Некоторое время они молчали. Только скрипели рассохшиеся половицы.
Потом Флич сказал:
– Я должен с ней встретиться.
– Как пойдешь? Загонят тебя в гетту. Ты ж еврей.
– Плевать. Так тоже нельзя, Филимоныч. У меня такое ощущение, что растерял самого себя. По частям. Каждый день что-то от тебя отпадает. И скоро вообще ничего не останется. Нельзя так, Филимоныч. Ясность нужна, понимаешь? Ясность. Я ей в глаза должен посмотреть. Мы ж рядом столько лет прожили!
– Бесстыжие у нее глаза! - с сердцем сказал Филимоныч.
– Сам увидеть должен. Где ее искать?
– В гостинице.
– Пойду.
– Ну уж не сей минут. Кашу сперва поедим, - сказал Филимоныч сердито.
Утром Толик зашел к Долевичам.
Каруселин сидел за столом в линялой синей рубахе поверх брюк, босой и прихлебывал чай с блюдечка, держа его снизу на пяти пальцах. Напротив сидел Ржавый и пил чай из белой фаянсовой кружки с отбитой ручкой.
– Привет, Толик, - сказал Каруселин.
– Садись с нами чай пить, - пригласил Василь.
– Спасибо, пил. Я на минутку. Слушай, я схожу туда.
– Куда?
– Ну, к тому забору, где собака лаяла.
– Зачем?
– Так просто, - Толик похлопал себя ладошкой по лбу. - Засело.
– Понимаете, товарищ лейтенант, - начал объяснять Василь.
Но тот перебил его:
– Дядя Гена.
– Понимаешь, дядя Гена, вчера у реки собака лаяла. Так он утверждает, что это Киндер.
– Я не утверждаю. А проверить надо. У собак тоже голоса разные. И каждая по-своему лает. Как и люди.
– Люди лают! - засмеялся Василь и повертел пальцем у виска. - Нет, у тебя определенно сдвиг на собачьей почве.
– Я не говорю, что люди лают. Я говорю, у собак разные голоса, как у людей.
– Ну, пошевели мозгами, откуда там взяться Киндеру, если он с близнецами эвакуировался? - горячился Василь.
– Мало ли… Может, украли?… А может, он вовсе и не эвакуировался. Отдали кому-нибудь.
– Да не могли они собаку отдать! Не такие ребята. Уж если б нужда была - тебе б отдали.
– Вот именно. Проверить надо, - сказал Толик упрямо.
Лейтенант, молча слушавший их спор, сказал:
– Пусть сходит. Всякое могло случиться.
Он вдруг вспомнил, как его поразили два одинаковых лица, когда впервые увидел близнецов в вагоне, ночью. Ведь так и не научился толком их различать!
– Да тебя хозяин и в калитку не пустит! - усмехнулся Василь.
– Придумаю что-нибудь… Вот, грибы продаю. Купите, дяденька.
В дверь постучали. Василь с Каруселиным переглянулись. Каруселин кивнул Толику. Тот неторопливо пошел открывать входную дверь. Вернулся со Златой, которая привела Катерину.
Злата поздоровалась, стала расстегивать пуговицы Катерининого пальто, а та с любопытством рассматривала незнакомого бородатого дяденьку.
– А это кто ж такая? - спросил Каруселин удивленно. - Никак Катюша? Ай-яй-яй, как выросла! Я ж ее вот такусенькой помню. А ты меня помнишь?
Катерина помотала головой. Каруселин засмеялся.
– Это потому, что у меня тогда бороды не было. Ты была такусенькой, а я - совсем молоденький. Была ты такусенькой? - Он опустил ладонь чуть не до полу, показывая какой она была.
Катерина кивнула.
– Поздоровайся, Катерина, - улыбаясь, велел Василь. - Это ж дядя Гена приехал из Болотной, из деревни. Мы там с тобой гостили, когда ты маленькой была.
Катерина медленно подошла к Каруселину. Тот подхватил ее под мышки, поднял, посадил к себе на колени.
– Не привез я тебе гостинца. Спешил очень. В другой раз обязательно привезу. Ладно?
Девочка кивнула.
– Это она у нас от стеснения молчит. А вообще-то язык у нее на тоненькой ниточке подвешен, - сказал Василь. - Хочешь чаю?
– Она у нас позавтракала, - сказала Злата. - А вы надолго, дядя Гена?
– Не знаю пока. Поживу малость. С Катюней повожусь, - он погладил Катеринины волосы. - Будешь с дядькой возиться?
– Буду, - откликнулась девочка басом и ткнулась носом в его грудь.
– Так я пойду, - сказал Толик.
– Далеко? - спросила Злата.
Толик покосился на Катерину, отвел Злату к окну и шепотом рассказал ей про свои подозрения насчет собаки.
– И я с тобой, - загорелась Злата.
– Как, Ржавый? - спросил Толик.
– Зряшная затея все это! А вообще-то прогуляйтесь. Только аккуратнее. У нас - гость, - многозначительно добавил Василь.
Толик сбегал домой за корзинкой с грибами. Хорошо, мать не успела их почистить! Злата ждала его на углу, кутаясь в старенький шерстяной платок. Они взялись за ручку корзинки вдвоем и неторопливо пошли по улице.
Панель и мостовая были влажными от прошедшего дождя. В воздухе висела водяная пыль. На улице много немцев. Они громко разговаривали и никому не уступали дороги.
 |
Толик и Злата сошли на мостовую.
Возле входа в гостиницу они увидели висящее на стене большое необычное объявление. На листе картона была нарисована балерина. Она стояла на изящной тонкой ножке, раскинув тоненькие руки в стороны, и смотрела неестественно большими синими глазами на прохожих.
– На тебя похожа, - сказал Толик и фыркнул.
– Скажешь, - засмеялась Злата.
Внизу было что-то написано, но буквы от дождя оплыли. Подошли поближе, прочитать.
КАБАРЕ ФРАУ КОПФ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АРТИСТОВ: БАЛЕТ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР, МУЗЫКАНТОВ В ОРКЕСТР. ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ. ОБРАЩАТЬСЯ В ГОСТИНИЦУ КОМН. 21 К ФРАУ КОПФ.
– Что это - кабаре? - спросил Толик.
– Театр, наверно, - ответила Злата.
Они двинулись дальше, но дорогу им преградил немец, тощий и с таким длинным носом, что, казалось, вот-вот проткнет им, чего доброго. Ребята даже отшатнулись.
– Эйн момент, - сказал немец, уставясь носом на корзинку. - Вас ист дас?
– Грибы, - ответил Толик.
Немец не понял. Он протянул длинную костлявую руку и приподнял папоротник, прикрывавший грибы. Нос его вытянулся, печальные глаза оживились.
– Пильцен
[3], - воскликнул он. - Зеер гут! - Цепко ухватился за ручку корзинки и потащил ее на себя.
Толя и Злата тоже вцепились в ручку, но немец был сильнее.
– Коммен зи, коммен, - пробормотал он и потянул их вместе с корзинкой к воротам.
– Псих какой-то, - сказал Толик.
– Велит идти, - Злата побледнела.
– Ну и пойдем. Ничего он нам не сделает!
Они прошли через ворота, через гостиничный тесный двор, в какую-то дверь и оказались на кухне. Вкусно пахло жареным луком.
Две женщины в фартуках, надетых поверх белых халатов, и в высоких поварских колпаках, суетившиеся у плиты, удивленно посмотрели на длинноносого, притащившего ребятишек с корзиной.
Немец на них не обратил внимания. Высыпал грибы из корзины на стол. Несколько боровичков откатились к краю, а один упал на пол.
Злата нагнулась, подобрала его, положила к остальным.
Немец потрогал грибы костлявыми пальцами. Потом погрозил ребятам кулаком и куда-то убежал.
– Чего это он? - спросил Толик.
– Пыльным мешком из-за угла стукнутый, - сказала одна из женщин и стала мешать огромной поварешкой в блестящем котле, над которым легким облачком клубился пар.
– Грибов принесли? - спросила вторая женщина.
– Принесли… Он нас на улице силой захватил. Захватчик! - дерзко ответил Толик.
– Придержи язык, - женщина постучала поварешкой по котлу.
Тут вернулся немец, а за ним шла…
Нет. Не может быть… Они спят и это сон? Или они сошли с ума и это им мерещится?
…Гертруда Иоганновна, мама Павлика и Пети.
Толик и Злата уставились на нее, словно она была привидением.
Немец что-то разъяснял ей, размахивая длинными руками.
Женщина в белом сунула поварешку обратно в котел.
Вторая плеснула что-то на большую сковороду. Сковорода зашипела и окуталась паром.
Гертруда Иоганновна слушала немца, потом повернула голову и увидела Толика и Злату. Глаза ее расширились и стали такими, какие бывают у собаки, если ее приманить куском колбасы и ударить ни с того ни с сего. Однажды Толик подрался с мальчишкой, проделавшим подобную штуку. Точно такие у собаки были глаза.
Гертруда Иоганновна остановилась и сказала спокойно:
– Здравствуйте.
Злата и Толик кивнули. Ответить они не могли, у обоих языки прилипли к нёбу.
– Господин Шанце хочет узнавать, съедобны ли эти грибы? В Германии разводят шампиньоны.
– Эти-то!… - произнес Толик и посмотрел прямо в глаза Гертруде Иоганновне. - Да они вкуснее всяких шпионов ихних!
Гертруда Иоганновна повернулась к длинноносому и произнесла длинную фразу.
Немец закивал носом:
– Гут, гут.
А Гертруда Иоганновна посмотрела на ребят. Взгляд ее был спокойным и даже ласковым.
– Ну, как живете?
– Как все, - ответила Злата.
– Да… - Гертруда Иоганновна помолчала. - Гуго заплатить вам за грибы. Приносите еще. Может быть, я могу… Шего-нибудь надо?
– Нам ничего не надо, - буркнул Толик.
– Не надо быть таким… резким, - сказала Гертруда Иоганновна ровным голосом.
Злата неожиданно спросила:
– Павлик и Петр тоже с вами?
Лицо Гертруды Иоганновны окаменело. Но тут же она улыбнулась и тем же ровным голосом ответила:
– Нет. Они уехали. Я нишего не знаю. Никаких сведений.
Она кивнула, повернулась и ушла ровным, спокойным шагом. Длинноносый достал из кармана кителя несколько цветных бумажек, задумался, приложил еще одну и бросил деньги в корзину.
И вдруг улыбнулся. Кончики губ поднялись вверх, а нос опустился, разрезав подбородок надвое.
Злата не выдержала, фыркнула, прикрыв рот ладонью.
Толик взял из корзинки бумажки, повертел их. Такие он видел впервые. Две сине-зеленые, на них с одной стороны в кружке рабочий с молотом, с другой - крестьянин с косой на плече. Между ними цифра "5". Несколько бумажек маленьких, чуть не квадратных, с одной стороны зеленые, с другой синие. Может, это и не деньги вовсе? Надувает немец-перец, колбаса, тухлая капуста?
– Марки, - сказала женщина с поварешкой, словно угадав его мысли. - Бери. Других у них нету.
– Я, маркен, маркен, - закивал длинноносый и ткнул себя пальцем в грудь. - Гуго Шанце - маркен… Ко-ро-шо…
Двор. Ворота. Улица. Ребята бежали как ошпаренные, держась за пустую корзинку. Они не разговаривали, не смотрели друг на друга, а просто бежали по мокрой булыжной мостовой.
Злате происшедшая встреча казалась невероятной. Гертруда Иоганновна!… Артистка цирка! Как она тогда в саду сказала про фашистов! И вдруг… Там. У них. Улыбается…
Толик снова вспомнил собачий лай за забором. Врет она, что не знает, где Павел и Петр. Киндер лаял. Голову на отсечение!… Тут целый змеиный клубок!… Павел и Петька потому и не показываются, что мамочка ихняя холуйка при фашистах… "Немецкий" у них от зубов отскакивал! В Великие Вожди втерлись! А сами фашистов ждали! Ну, погодите, мы еще распутаем этот клубочек!… Погодите!…
Они повернули за угол и чуть не сшибли с ног высокого старика.
– Извините, - сказал Толик.
– А вот и не извиню, - сказал старик и взял обоих за воротники пальто. - Кажется, мы с вами когда-то были знакомы?
– Мимоза! - воскликнули ребята одновременно.
Они стояли, держась за корзинку, и смотрели на клоуна с нескрываемым удивлением.
– Что? Изменился?
– Исхудали, - сказал Толик.
Дядя Миша вздохнул.
– Исхудаешь. Кишки склеиваются от репки.
– Вы не уехали? - спросила Злата.
Клоун печально покачал головой.
– Старость. Куда мне ехать? Помру скоро.
Дядя Миша выглядел странно: на нем было старое лоснящееся пальто, которое явно было коротко ему, а в плечах, наоборот, широко. Воротник засален и присыпан перхотью. На ногах калоши, надетые прямо на носки.
– Что?… - Он опять медленно и печально покачал головой. - Я выменял все, что можно выменять. А это - чужое.
В запавших старческих глазах его не было никакого выражения, словно они принадлежали не веселому клоуну Мимозе, словно глаза он тоже выменял на репку, а себе вставил блеклые стекляшки.
– А где вы живете? - спросил Толик.
Дядя Миша неопределенно махнул рукой куда-то за спину.
– Может, вам денег надо? - спросила Злата и посмотрела на Толика.
Толик достал из кармана скомканные марки.
– Возьмите. Мы еще достанем. Это - марки.
Он сунул купюры в руку клоуна.
– Да… Марки… - дядя Миша вдруг оживился. - Нет-нет, дети. Спасибо вам. Я не могу их взять. Они вам нужнее. Вам надо жить, жить! Вы даже не знаете, как это удивительно, - жить! Я это начал понимать, когда уже конец.
– Да что вы, дядя Миша! - воскликнула Злата. - Вы же такой веселый клоун!
– Вы полагаете? Благодарю вас, - дядя Миша шаркнул сначала одной ногой, потом другой и согнул туловище пополам в поклоне. И что-то в это мгновение промелькнуло в нем от того клоуна Мимозы, который так великолепно умел рассмешить публику.
Злата и Толик заулыбались.
– Берите, берите деньги. Взаймы. Потом отдадите. Надо продержаться, - сказал Толик серьезно.
– Продержаться… - повторил дядя Миша. - Да… Продержаться. Удивительно цепкая штука - жизнь. Никак не дает умереть.
– Вы нам скажите, где вы живете, - сказала Злата. - Мы вас навестим.
– Навестите?… Да-да… Меня так давно никто не навещал, словно я один во Вселенной. Да… Хорошо. Навестите старого клоуна. Я вас научу играть на трубе. Только трубы нет. Я ее съел.
– Съели? - удивилась Злата.
– Фигурально.
Он объяснил, где живет, распрощался с ребятами, пожав руку сначала Злате, потом Толику, и побрел в сторону рынка, волоча калоши по панели и ссутулясь. Словно сломался стержень, на котором держалось его тело.
– Какой клоун! - с жалостью сказала Злата.
– Да.
– Может, надо было сказать ему про Лужину?
– Зачем?
– Ну, она, вероятно, может помочь.
– Если он захочет, чтоб она ему помогала, - с сомнением произнес Толик. - Идем. И так новостей полная корзина.
Пантелей Романович спал чутко, ворочался, кашлял, а то и разговаривал во сне. И наяву часто бормотал вслух. Привычка эта появилась у него недавно, после смерти жены. И удивительно: раньше, бывало, за весь день перекинется с ней словом-другим, а сейчас вроде как все время с нею разговаривает. И не мысленно, а вслух. Сколько раз ловил себя на этом!.
Вставал Пантелей Романович рано, с первыми петухами, хотя петухов теперь не слышно, иных съели, иных попрятали. На крик петуха, словно на трубный глас, сбегается немчура. Без петуха спокойней.
Он брал ведра и шел за водой. Потом готовил завтрак себе и близнецам. Конечно, не бог весть что, но картошки и огурцов было еще вволю.
Первые дни, хоть и оживился старик - все-таки не один, - а все ж мальчики были в тягость. Не свои, чужие, стряпать надо, прибирать, приглядывать. Да еще собака эта, Киня.
Но как только Петр и Павел освоились в гудковском доме, так неприметно взяли большую часть работы на себя. И прибирать, оказывается, за ними не надо, и состряпать умеют, и на огороде возятся с охоткой. Работящие мальчишки, ничего не скажешь! Видать, у родителей приучены.
Только за водой Пантелей Романович не пускал их. Не к чему лишний раз людям глаза мозолить!
В конце концов старик так привык к ребятам, что мысль о неизбежном расставании приводила его в замешательство. Особенно нравилось наблюдать по утрам, как они вылезают из постелей и сгоняют сон зарядкой. Чего только не проделывают! И на руках прыгают, и на одной руке стоят, и ноги растягивают, и в воздухе кувыркаются… Чистый цирк!
Конечно, тесно им в комнатах. Дом трясется. Им бы на простор. Но в сад старик близнецов с их штуками-трюками не выпускал. Не было в его семье циркачей и нет. Работать, картошку копать, грядку прополоть - куда ни шло! Дело обычное, людское. Но чтоб циркачить - ни-ни! Нельзя к себе внимание привлекать.
Павел и Петр старика слушались. За возвращение в город себя особо не осуждали, но все время как бы помнили, что было то мальчишеством, данью детству. И понимали, что детство кончилось. Что за все, что бы они ни совершили, придется отвечать. И может быть, не только им, но и другим людям. Маме.
Мама… Они и говорили о ней, и молчали о ней. И постепенно она, такая маленькая и хрупкая, вырастала в их глазах. Они наделяли ее самыми возвышенными человеческими качествами, заставляли ее своей ребячьей фантазией совершать самые немыслимые подвиги, которые разве что богатырям под силу.
Если они не говорили о ней, говорили о синеглазке, о Злате. Они признавались друг другу, что немного влюблены в нее. Чуть-чуть. Она, конечно же, необыкновенная девочка. До отчаяния смелая, добрая и товарищ хороший. Из нее вышла бы прекрасная артистка. Она могла бы скакать на Мальве или Дублоне не хуже их. Конечно, если бы много тренировалась.
Говорили о Злате и вспоминали Ржавого. Они ревновали Злату к Ржавому. Но тоже чуть-чуть. Ведь Ржавый был хорошим другом. И Толик-собачник. И Серега Эдисон. Все Великие Вожди - люди.
Между прочим, они тоже Великие Вожди. И, как велит традиция, Павел и Петр скрещивали на груди руки и сидели минуту молча.
Хорошо бы и в самом деле собрать Большой Совет! Есть что обсудить. Но Пантелей Романович строго-настрого запретил даже нос высовывать за калитку. Строго-настрого! И они понимали, что он прав. Тут просто подвести и Пантелея Романовича, и Алексея Павловича, который так ни разу и не дал о себе знать, несмотря на обещание, и маму.
Можно, конечно, послать Ржавому записку. Например, с кем-нибудь из пацанов, что появляются у реки. Но, как говаривал дядя Миша-Мимоза: "Можно-то можно, да только нельзя".
Еще они вспоминали отца. Правда, реже, с ним было все ясно - он воевал. Представляли себе, как цирк добрался до Москвы, и гадали: что делает сейчас Флич?
Пантелей Романович тоже в город не ходил. Газет никаких не было. Черная тарелка репродуктора молчала. О том, что делается на свете, узнавали только по слухам, через соседей.
В городе неспокойно. На станции горят вагоны, взрываются паровозы. Недалеко от города кто-то обстрелял бронебойными пулями цистерны с бензином. В лесах появились партизаны. Немцы задерживают подозрительных, расстреливают на месте.
С фронта тоже вести неутешительные. Фашисты вот-вот возьмут Ленинград и Москву. Уже в бинокли Кремлевские башни рассматривают.
А может, врут?
Сила у них, конечно, большая. Через город все гонят и гонят свежие войска. Но ведь и наши не лыком шиты! Вон сколько немцев под городом побили - месяц из реки воду противно было брать. Ежели так возле каждого города!…
Утро началось, как обычно. Подъем, зарядка, завтрак: картошка, соленые огурцы, чай с вареньем. Хлеба нет. Идти за ним некому. Иногда пекли домашнюю булку из серой лежалой муки. Раньше из нее заваривали болтушку для свиней. Прежде чем замесить тесто, муку просеивали через сито, уж очень много завелось в ней темных продолговатых жучков.
После завтрака стали собирать паданцы под яблонями. Относили их в погреб и ссыпали в высокую корзину. В погребе от подгнивших яблок стоял винный запах.
Киндер ходил следом, но в погреб не спускался, воротил нос, ждал снаружи.
Павел и Петр только спустились очередной раз в погреб, когда Киндер залаял.
Они слышали, как Пантелей Романович строго прикрикнул на пса. Кто-то прошел по присыпанной песком дорожке в дом.
Кто? Выходить из погреба или не выходить?
– Подождем, - сказал Петр. - Мало ли.
Они сели на опрокинутые пустые ящики и сидели молча, прислушиваясь. Пока не услышали голос Пантелея Романовича:
– Павлик! Петя!
Они поднялись наверх. Лицо у Пантелея Романовича было хмурое и усы как-то грустно свисали.
– Что случилось, дед? - спросил Павел.
Старик не ответил, направился в дом. Они пошли следом.
В большой комнате за столом сидела незнакомая женщина. Головной платок опущен на плечи. Темные с сединой волосы собраны на затылке в узел. Складки у рта придают круглому лицу насмешливое выражение,
Братья поздоровались.
– Тетя Шура, - сказал Пантелей Романович сердито и, подчеркнуто, всем корпусом повернулся к женщине. - Так?
Она кивнула.
– Собирайтесь, - Пантелей Романович махнул рукой. - Собирать-то нечего. Ватники наденьте. Не лето. - Он посмотрел на ноги мальчишек. - Петя, сапоги возьми яловые в углу в сенях.
Павел и Петр ничего не понимали, стояли столбами и глядели то на неподвижно сидящую тетю Шуру, то на сердитого Пантелея Романовича. Что случилось? Что за спешка? Зачем брать сапоги?
Старик ушел на кухню, чем-то гремел там. И грохот получался сердитым.
– Шевелитесь, - неожиданно сказала тетя Шура. - Дорога не близкая.
Голос у нее был низкий, грудной, теплый.
– Куда? - спросил Павел.
Тетя Шура улыбнулась, лицо ее просветлело. Она была куда моложе, чем показалось сначала.
– Этого я не знаю. А пока - со мной.
Пантелей Романович вернулся с котомкой в руках.
– Картошка вареная в котелке. Сало в тряпице. Ложки положил… Ножик. Сгодятся. Может, поедите на дорогу?
– Времени нет, - сказала тетя Шура. - Благодарствуйте.
Петр принес из сеней сапоги.
– Это ж твои, дед!…
– Ну… Обувай…
Пантелей Романович и Павлу отыскал сапоги. Голенища подгорелые, а головки и подметки еще крепкие. Сам чинил. Они оказались чуть великоваты, но он набил в носки сухого сена, велел сменить, когда скрошится.
В сапогах, в ватниках, в старых кепках близнецы выглядели маленькими, как тот мужичок в стихотворении Некрасова.
Киндер забеспокоился, стал обнюхивать сапоги и ватники.
– Боится, без него уйдем, - сказал Павел и посмотрел на тетю Шуру.
– Не боись, - сказала тетя Шура. - Пойдешь с нами.
Киндер вильнул хвостом.
– Сядем, - Пантелей Романович сел на стул.
И братья сели. Посидели молча, с кепками в руках, как положено. Пантелей Романович поднялся первым.
– Ежели что не так, сердца на меня не держите, - он чмокнул обоих в щеки. - Не забывайте деда.
– Что ты, дед, - сказал ласково Павел.
– Ладно, ладно… А котомку-то!…
Братья переглянулись. Павел вынул из кармана трехкопеечную монету, подбросил.
– Орел! - крикнул Петр.
Павел поймал ее и прихлопнул ладонью. Выпала "решка".
– Тебе.
Петр повесил котомку на плечо.
Вышли через калитку к реке и зашагали по прибрежной улице. Впереди тетя Шура, за ней Павел и Петр. А вокруг носился почуявший простор Киндер.
Довольно долго шли берегом, и все тянулась деревянная городская окраина. Сапоги увязали в грязи. Ноги разъезжались. Мокрый Киндер то и дело отряхивался.
Потом река свернула куда-то вправо, исчезла в пожухших кустах, будто ее и не было.
Впереди раскинулся поросший редкой щетиной кустарника луг. За ним вдали виднелась смутная темная полоска. Тетя Шура остановилась:
– Устали?
За всю дорогу она обратилась к мальчикам впервые.
– Нет, - ответил Петр.
Она прижала палец к губам и долго стояла так, всматриваясь и вслушиваясь. И они стояли рядом, затаив дыхание. Очень уж все было таинственным: и внезапный уход, и бесконечная городская окраина, и молчащая тетя Шура.
Она сказала:
– В случае чего, идем в деревню к тетке. Деревня Верхние Лески называется. - И неожиданно спросила: - Оружия нету?
– Н-нет, - удивился Павел.
– Удивляться нечего. Мой обормот целый пулемет из лесу притащил, - она усмехнулась. - Драть пришлось. Пулемет - не цацка. Ну, с богом!
Она двинулась мокрым полем к смутной темной полосе. Петр и Павел, притихшие, шагали следом. Даже Киндер присмирел, трусил сзади.
Через несколько минут Павел обернулся. Дождь размывал очертания окраинных домиков. Вскоре они и вовсе исчезли. А впереди надвигался лес. Да так хитро, что ребята и не заметили, как вошли в него. Просто деревья расступились, впустили их и сомкнулись позади неровной толпой.
– Ну, вот. Можно и перекусить, - сказала тетя Шура. - Только не садитесь, промокнете.
Она развязала свой узелок, который прятала от дождя за пазухой. На свет появилась краюха хлеба, яйца и сало.
Петр скинул с плеча котомку, принялся развязывать, но тетя Шура остановила его, положив ладонь на узел.
– Не надо. Успеешь еще. Может, долгий путь, не день и не два…
– А вы? - спросил Павел.
– А я скоро дома буду. Да и кругом сватья да кумовья, - она засмеялась.
"Смеется, словно на фаготе играет", - подумал Павел.
Тетя Шура разломила краюху на четыре части, дала каждому по куску, положив на них ломтики розоватого сала, и по вареному яйцу. И Киндеру достался хлеб с салом.
Павел разбил яйцо о собственный лоб и стал очищать.
– Головы не жалко? - улыбнулась тетя Шура.
– Она у меня крепкая, - Павел бросил скорлупу на землю.
– Это что? - спросила тетя Шура.
– Скорлупа.
– Это след. Его оставлять не след, - она засмеялась, что у нее так ловко слова сплелись. И тотчас нахмурилась: - Привыкайте. Лес, он осторожного скроет, а беспечного выдаст. - Она нагнулась, собрала белые скорлупки и сунула их под седой мошок. - Не было нас тут. Вот так, Павлик.
– А если я Петр? Откуда вы знаете, что я Павлик?
Она снова засмеялась.
– А сапоги? У Петра сапоги яловые.
И братья засмеялись. Действительно!
Ель, под которой они устроились, была мокрехонькой, и лило с нее не меньше, чем с неба в чистом поле.
Тетя Шура с беспокойством поглядывала на ватники братьев. Пробьет дождем, простынут ребята. А обсушиться негде, в такую мокреть и костра не запалишь.
– Все. Переменка кончилась, - сказала она. - Пошли.
И они двинулись чуть приметной тропкой по зеленому брусничнику, где еще капельками крови сверкали запоздалые ягоды.
Киндер бросился в сторону, спугнул большую птицу. Она захлопала крыльями, петляя меж стволов.
– Киня, - укоризненно сказал Павел.
Пес виновато поджал хвост.
– Можно вас спросить? - обратился Петр к тете Шуре.
– Можно.
– Вы кто? Партизанка?
Она покосилась на него.
– Я учительница начальной школы. Пятью пять - двадцать пять, шестью восемь - сорок восемь.
– А куда вы нас ведете?
– Куда приказано.
– А кто приказал?
– Настырный ты, Петя. Придешь - узнаешь.
Дальше шли молча. Только хлюпали под ногами не видимые под всплывшей хвоей лужи. Земля не успевала впитывать воду.
В это время Пантелей Романович принимал гостей: худенького мальчишку и девочку с удивительными синими глазами. Оба были такими мокрыми, словно реку переплыли. А в руках держали по корзинке с грибами.
Они смело вошли в калитку, поздоровались и предложили купить грибы.
Старик провел их в дом, не стоять же на дожде. Мальчишкины бойкие глаза так и зыркали по сторонам, будто примерялись: чего бы стащить? А у девочки взгляд был открытый. И Пантелей Романович понял, что ничего они не стащат. Он заглянул в корзину мальчишки и спросил:
– Что за них?…
– А чего-нибудь, - ответил мальчишка, внимательно осматривая комнату. - Вы один живете?
– В жильцы набиваешься? - усмехнулся Пантелей Романович. - Так что хочешь за грибы?
– Деньги.
– Советские или немецкие?
– А у вас вроде собака лаяла? - спросил мальчишка.
– На собаку меняешь?… Нету.
– А я слышал, лаяла, - упрямо повторил мальчишка.
"Интересно, чего он добивается?" - подумал Пантелей Романович, а вслух сказал:
– Отродясь не держал…
– Дедушка, - сказала девочка. - Вы его не слушайте, он с детства на собаках помешан.
– Ага… Ну, да… Ну, да…
"Уж не приятели ли это Павлика и Пети? Один - на собаках помешанный, у другой - глаза синие. Опоздали, приятели. Да оно и к лучшему. Мало ли… А может, и не они?" Глаза Пантелея Романовича превратились в щелочки, усы прикрыли рот.
– А тебя, я гляжу, Златой зовут?
– Златой, - растерялась девочка.
– А меня Пантелей Романович. Вот и познакомились.
"Они! Как пить дать! Опоздали, голубчики. А Павлик и Петя, верно, обрадовались бы. Скучно им тут было со мной взаперти сидеть".
– А вы откуда мое имя знаете?
"Гм… В самом деле, откуда?…"
Так… Он же тебя называл, - Пантелей Романович кивнул на мальчишку.
Злата поклясться была готова, что Толик ее по имени не называл.
– Собаки, молодые люди, у меня нету. И денег нету. Могу на яблоки сменять.
– Давайте, - согласилась Злата.
– Одну корзину, - вставил Толик. Он все еще не верил, что собаки нет. Ведь лаяла ж тогда! А с другой стороны, собака дала б о себе знать. Ну какая собака не тявкнет хоть разок, когда в дом идут чужие?
Пантелей Романович, накинув на плечи ватник, увел их в сад, насыпал корзину отборной антоновки.
Они попрощались и ушли. Толик озабоченно хмурился. А Злата выбрала яблочко пожелтее и вонзила в него зубы. Не было никакого Киндера! Померещилось Толику.
– А может, не тот дом? - спросила она неожиданно.
– Тот, - ответил Толик решительно. - Сбежала, видно, собака. Не дедова была. Чужая.
Над гостиницей повесили новую вывеску. На длинном, сколоченном из кусков белом листе фанеры коричневыми витиеватыми буквами было написано: "Faterland". Название предложил доктор Доппель.
– Пусть любой немец, придя сюда, ощутит себя дома, на своей земле, - сказал он. - В сущности, это так и есть. Теперь эта земля наша и ее надо обживать.
Он же выписал из Гамбурга шесть накрашенных танцовщиц из какого-то местного варьете. На объявление, вывешенное у входа в гостиницу, так никто и не откликнулся.
Девицы оказались шумными, ходили "балетной" походкой - пятки вместе, носки врозь, не выпускали из зубов сигарет и не избегали спиртного.
Гертруде Иоганновне они не понравились. Она поселила их всех вместе в бывшем общежитии. Девицы взбунтовались, требовали отдельных номеров. Кто-то из них пожаловался доктору Доппелю. Тот обещал все уладить. Но Гертруда Иоганновна заупрямилась.
– Эрих, фирма не может нести лишние убытки. И так расходов много. Или пусть живут, где я их поселила, или пусть убираются. Искусство, конечно, требует жертв, но от артистов, а не от фирмы. И пожалуйста, не заступайтесь за них. Пусть знают свое место.
И доктор Эрих-Иоганн Доппель уступил. Ему даже понравилось, как твердо, по-хозяйски Гертруда защищает интересы фирмы. Маленькая женщина постигает вкус денег и власти! Прекрасно! Значит, он в ней не обманулся.
А Гертруда Иоганновна действительно постигала силу их денег и их власти. Она чутьем уловила атмосферу недоверия и подозрительности, царившую у оккупантов, где каждый боится сказать то, что думает. Где У каждого всегда наготове угодливая улыбка для сильного и снисходительно опущенные уголки губ для подчиненного. Здесь слабым нет места, даже если они немцы. Здесь выживает только тот, кто предприимчив и нагл.
В гостинице было полно офицеров: выздоравливающие после ранений, едущие на фронт, ждущие назначений в резерве, выполняющие какие-то особые поручения.
Они, даже напиваясь, следят друг за другом. И все время помнят о том, что и за ними следят.
Серые офицеры вермахта туповаты и прямолинейны. Они сидят в ресторане небольшими компаниями. Пьют за здоровье фюрера, за победу немецкого оружия. Ругают Красную Армию, которая почему-то все еще сопротивляется, хотя фюрер сказал, что она разбита. А раз фюрер сказал, значит, так оно и есть. Они с нетерпением ждут, когда Берлин объявит о победоносном окончании войны, спорят, считают дни, делают глубокомысленные прогнозы. И каждый страшится смерти, предпочитает, чтобы погиб другой, а "жизненное пространство" досталось ему.
Черные эсэсовцы садятся особняком. Они считают себя привилегированными, высшими в высшей расе. Они - Зигфриды. Они - бессмертие рейха, опора фюрера. Они тоже побаиваются смерти, но, фашисты-фанатики, готовы идти на смерть во имя фюрера и великой Германии.
Офицеры СД и полевой жандармерии замкнуты и подозрительны. С ними никогда никто не затевает даже словесной перебранки. Их боятся. Достаточно неосторожного слова, доноса, подозрения, и любой из сидящих в зале может однажды исчезнуть бесследно.
Гертруда Иоганновна присматривалась, сопоставляла, оценивала. И чем больше она разбиралась в них, тем больше ненавидела. И это - немцы! Что с ними сделали? На какой чудовищной мельнице мололи? В каких котлах месили серое и черное тесто, чтобы вылепить этих самодовольных, алчных, бессердечных "сверхчеловеков"?
Нет, она не боялась их, она ненавидела, презирала их и одновременно жалела. И еще она понимала: чтобы выжить в их среде, надо выглядеть такой же, как они, надменной и алчной, держаться нахально и властно. Все время давать им понять, что она богата и имеет далеко идущие связи.
Иное дело доктор Эрих-Иоганн Доппель. С ним надо держаться по-другому. Она - его лошадка. Он на нее поставил, и он же ее, в случае надобности, защитит. Если она будет служить ревностно. А она будет служить.
Опасность представляет штурмбанфюрер Гравес. У него странная манера разговаривать: эдакий добродушный бюргер, добрый дяденька, готовый все понять, все простить, всем помочь и даже при случае пустить слезу умиления.
Пожалуй, штурмбанфюрера она боится. Его вкрадчивости, его внешнего добродушия, его сонных выпуклых глаз. И больше всего она боится, что он поймет, что она его боится.
Надо держаться. Надо быть хозяйкой гостиницы. Она одинока в этой стае серых и черных волков.
Кто же из этих девок пожаловался Доппелю?
Гертруда Иоганновна прошла по коридору, кивнула дежурной, той самой, что дежурила на их третьем этаже до войны. Одинокая женщина, ей надо на что-то жить, и она вернулась на работу в гостиницу.
Не постучав, Гертруда Иоганновна открыла дверь общежития, где поселились танцовщицы. Сигаретный дым висел под потолком синими пластами. Четыре девицы сидели за столом и играли в карты. Две валялись полуодетыми на кроватях.
Все шесть повернули головы к вошедшей.
Гертруда Иоганновна закрыла за собой дверь, сделала несколько шагов к столу и обвела взглядом шесть накрашенных лиц.
– Если вам не нравится помещение, я могу переселить вас в подвал к крысам. Или в казарму к солдатам. Кто из вас пожаловался Эриху? - Она говорила ровным голосом, не повышая и не понижая тона, и нарочно сказала "Эрих" вместо "доктор Доппель". Это для них он доктор Доппель, а для нее просто Эрих. И они должны это усвоить.
Девицы настороженно молчали.
– Я спрашиваю, кто из вас пожаловался Эриху? Со мной не надо ссориться, девочки. Дорого обойдется. Так кто?
Пять девиц дружно посмотрели на шестую, рыжую, с нахальными зелеными глазами. Пальцы ее с накрашенными яркими ногтями сжали веер из карт так сильно, что побелели. Она испугалась. Это хорошо. Теперь надо поставить энергичную точку, сделать "концовку номера".
Гертруда Иоганновна подошла к девице и влепила ей звонкую пощечину. Рыжая голова дернулась.
– Что надо сказать, детка?
Девица встала, опустила руки, карты упали.
– Простите, фрау Копф, - произнесла она чуть слышно. Губы ее дрожали. С ресниц скатилась серая от туши слеза, на щеке осталась полоска.
– Хорошо, - сказала Гертруда Иоганновна. - Я не злопамятна.
Она повернулась, прошагала по комнате, открыла дверь и направилась к себе. Она почувствовала себя такой одинокой, хоть вой!
Теперь она занимала двухкомнатный полулюкс с ванной, с тяжелыми шторами на окнах и дверях. В первой комнате был ее рабочий кабинет с письменным столом, с обитым темной ковровой тканью диванчиком на полированных ножках. На столе - массивный письменный прибор с бронзовыми львиными головами - подарок компаньона. Бронзовая пепельница со стола бывшего директора гостиницы и такая же спичечница.
Во второй комнате - спальня. Над туалетным столиком висели фотографии детей и Ивана.
Она прошла через обе комнаты прямо в ванную, обложенную белым кафелем. Открыла кран и долго мылила руки пахучим французским мылом - подарок штурмбанфюрера Гравеса.
Сердце ее билось в тоске, казалось, вот-вот выскочит из груди, упадет на желтый кафельный пол и разобьется. И по нему будут ходить господа офицеры в начищенных сапогах.
Что еще за мысли!
Она вздохнула длинно, тяжело. Потом долго вытирала руки розовым мохнатым полотенцем. Она просто устала от этой жизни, от постоянного напряжения. Сколько может вынести слабая женщина?
Надо спуститься в ресторан, посмотреть, как солдаты ставят эстраду. Надо найти музыкантов. Не может быть, чтобы в городе не нашлось музыкантов.
Нет, сначала надо немного посидеть. Дать себе небольшую передышку.
Она прошла в кабинет, села за письменный стол, оперлась о столешницу локтем, прижалась щекой к кулаку.
Вот так. Тишина.
И нет никаких фашистов, никакой войны.
Сейчас придут из школы дети. Начнется веселая возня. Потом из цирка возвратится Иван. Они сядут обедать.
Что сегодня на обед? Суп. С клецками. Мальчишки не любят клецки. Украдкой перекладывают их друг другу в тарелки. Вид у них при этом чрезвычайно серьезный… Баранина тушеная с луком и чесноком. Компот…
А вечером - представление. Нервная Мальва стучит копытом о деревянный пол. Дублон кладет голову на ее шею. За бархатным занавесом шумит переполненный зал. Раздается хохот. Это Мимоза проглотил свисток.
В дверь постучали.
– Войдите.
Тоненько пискнули петли. Надо будет приказать, чтобы смазали. Гертруда Иоганновна подняла голову, и ей показалось, что стены и потолок качнулись и падают, падают… Давят на грудь…
– Можно, фрау Копф? - спросил вошедший по-русски.
– Флиш… - тихо выдохнула она. - Откуда вы, Флиш?
– Здравствуйте, Гертруда.
Внезапно у нее возникла нелепая и страшная догадка. Она понимала всю ее нелепость, но не удержалась и воскликнула:
– Вы из Москвы!… Неужели они взяли Москву?
Большие серые глаза ее застыли на побелевшем лице. Флич увидел в них боль и страх. Он понял ее, понял! Никакая она не фрау Копф. Она - Гертруда Лужина, такая же, какой он знал ее столько лет и любил. Счастье, что он нашел в себе силы прийти сюда.
– Москва стояла и стоит, - тихо с силой произнес он. - И стоять будет!
Слова прозвучали, как клятва.
Гертруда Иоганновна не ответила. Она сидела, положив руки на столешницу, и смотрела на Флича. Это явь или сон? Флич! Флич здесь!… Какой он отощавший и потрепанный. Видно, тоже не сладко.
– Фли-иш… - проговорила она наконец протяжно. - Откуда вы, Фли-иш?
Ей так приятно было произносить это "Фли-иш", словно из прошлого протянули теплую дружескую руку и она пожимает ее обеими руками. Хотелось подойти к Фличу, обнять, прижаться к его груди и реветь, реветь, в полную силу, не сдерживаясь, выплакать всю накопившуюся тоску, весь страх…
Но она придушила радость. Не поднялась из-за стола. Она не имела права.
– Я не был в Москве, - сказал Флич. Он все еще стоял на середине комнаты и смотрел на Гертруду во все глаза. - Я нигде не был. Я виноват перед вами. Недоглядел. Сбежали наши мальчики. Я шел за ними. А тут - немцы… Фашисты. Я не догнал. И не нашел. И не знаю, что с ними. - Флич уже не смотрел на нее, он смотрел на полированную ножку кресла.
– Я знаю, - сказала Гертруда Иоганновна и тут же поправилась: - Случайно узнала.
– Знаете? - встрепенулся Флич. - Они живы?
Она только кивнула печально. Удивительно, как меняется выражение ее лица.
– Вы не виноватый, Флиш. Не будем про это. Вы живете в городе?
– Да. У циркового сторожа.
– Старый обманщик, ваш сторож.
– Он боялся за меня.
– А за меня никто не хочет бояться! За меня я боюсь сама, - сказала она с упреком.
– Я пришел, - ответил Флич. - Поверьте мне, Гертруда, это было не просто.
В дверь постучали.
– Войдите, - сказала Гертруда Иоганновна по-русски, подавая знак Фличу, чтобы он молчал, и повторила по-немецки: - Войдите.
Вошел Шанце с листком бумаги в руке, привычно вытянулся:
– Хайль Гитлер!
– Хайль… Что у вас, Гуго?
– Меню на завтра, фрау Копф.
– Хорошо, оставьте, я посмотрю.
Шанце прохромал к столу, положил на него бумагу, исписанную корявым почерком, и направился к двери.
– Минуточку, - остановила его Гертруда Иоганновна. - Познакомьтесь, Гуго, это мой старый друг, артист господин Жак Флич. Француз.
Шанце неловко щелкнул каблуками и почтительно склонил голову. Флич в ответ поклонился.
– Хотите кушать? - обратилась она к Фличу.
– М-м-м… Не очень, - неуверенно ответил тот.
– Значит, очень. - Она повернулась к Шанце: - Гуго, господин Флич с дороги и голоден. Накормите его, голубчик. Пришлите прямо сюда.
Шанце заулыбался.
– О-о, гнедике фрау, я с удовольствием принесу сам.
Он снова поклонился и ушел.
– Это мой главный повар, - сказала Гертруда Иоганновна.
Флич был растерян. Только что ему открылась Гертруда, встревоженная судьбой Москвы. И вот она же спокойно разговаривает с фашистом… Мой повар… Хайль Гитлер…
– Сядьте, Флиш. В ногах неправда.
Флич послушно сел, провалился в глубину кресла. По привычке закинул ногу на ногу.
– Так карашо… Как в мир… Будем говорить?… Я ошень страдала в тюрьме. Меня освободили немцы, и я - немка. Мне предложили купить этот гостиница.
– Купить?
Гертруда Иоганновна улыбнулась.
– Да… Я, конешно, не имею столько большой капитал. Вообще не имею. Я пролетарий цирка. Я, как это… Ширма. Подставка.
– Подставное лицо?
– Да… Правильно… Фирма "Фрау Копф и компания". Так вот: компания есть доктор Эрих-Иоганн Доппель. Он есть представитель рейхскомиссариата "Остланд".
– Что-то очень сложно, Гертруда.
– Да… Механика чисто немецкий. У меня не было выход. Я согласилась. Надо зарабатывать свой хлеб.
– Работать на фашистов… - нахмурился Флич.
Она не опустила глаз.
– Просто работать. За свой хлеб.
– Вы что-то не договариваете, Гертруда.
– Я сказала, как есть. Я хочу, Флиш, ошень хочу и прошу вас работать со мной.
– На фашистов?
– На свой шестный хлеб. Внизу в ресторане мы будем открывать кабаре. Ведь аппаратура у вас, Флиш?
– Да.
– Прекрасно!
Флич вздохнул. Все логично, и все же что-то тут не так. Уж слишком спокойна Гертруда, слишком уверенна.
– Мне надо подумать.
– Не надо. Поздно, - она посмотрела Фличу в глаза пристально, словно старалась внушить ему решение. - Нельзя колебаний. Это насторожит. Не надо ждать, когда придет гора. Надо идти на гора, как Магомет. Флиш, вы должен мне верить, - и добавила тихо: - Они уже знают, что вы здесь.
– Петля?
– Пока только кольцо. Круг. У вас есть документы?
– Есть.
– Давайте, - Гертруда Иоганновна властно протянула руку. Флич извлек из кармана советский паспорт и пропуск в цирк.
Она внимательно просмотрела их и с хрустом порвала паспорт пополам.
– Гертруда! - воскликнул он испуганно.
– Здесь национальность, Флиш. Это надо сжигать. Я сейшас, - она вытащила из спичечницы коробок со спичками, взяла разорванный паспорт и ушла в ванную. Там она открыла кран над умывальником, чиркнула спичку и подожгла паспорт, держа его двумя пальцами за уголок.
Он горел медленно, пепел падал в раковину, и вода смывала его.
Когда она вернулась, в кабинете Шанце, добродушно улыбаясь, отчего кончик его носа совсем опустился, переставлял с расписанного яркими цветами подноса на маленький столик тарелки с едой.
– Спасибо, Гуго, - сказала Гертруда Иоганновна улыбаясь.
Шанце поклонился, пожелал приятного аппетита, дружески подмигнул Фличу и ушел.
– Кушайте, Флиш. Хотите коньяк?
– Хочу.
Пока Флич ел, Гертруда Иоганновна позвонила Доппелю.
– Поздравляю, Эрих. У меня сидит гвоздь нашей программы, прекрасный фокусник Жак Флич.
– Откуда он взялся? - спросил Доппель.
– Сам пришел. Оказывается, он все это время жил у циркового сторожа.
– И что же, он намерен у нас работать?
– Да. Сейчас он приканчивает казенное мясо, - она засмеялась. - Я хотела бы представить его вам.
– Хорошо. Пусть приканчивает мясо. Я зайду к вам перед обедом.
– А рыжей девке я дала затрещину, чтобы не беспокоила вас по пустякам.
– Вы - золото, Гертруда!
Доппель положил трубку, а Гертруда Иоганновна все держала свою в руках и задумчиво смотрела на жующего Флича.
Через несколько дней на маленькой эстраде в ресторане начались репетиции. Пятерых музыкантов привозили из еврейского гетто. Штурмбанфюрер Гравес ни за что не давал разрешения, клялся, что офицеры не потерпят в своем ресторане такой оркестр. Но Доппель как-то сумел с ним договориться. У музыкантов был испуганный вид, и, видимо от страху, они фальшивили. Гертруда Иоганновна их подкармливала. Танцовщицы нарочно сбивались с ритма, чтобы свалить вину на оркестр. Но Гертруда Иоганновна прикрикнула на них, и они присмирели.
Флич со сторожем принесли аппаратуру. Гертруда Иоганновна выделила Фличу комнату возле ресторана, где он мог возиться с аппаратурой, заряжать.
Репетировал он ранним утром, когда в ресторане никого не было. Даже уборщице Гертруда Иоганновна запретила входить в зал.
По вечерам офицеры, сидя за столиками, посматривали на бархатный занавес, закрывавший новенькую эстраду, и передавали друг другу небылицы о Фличе. Маг, волшебник. Чудеса! Доппель был доволен.
Гертруда Иоганновна по ночам мастерила себе концертное платье, длинное, из черного бархата, расшитого блестками. Она, как глава фирмы, должна была открыть кабаре.
Недоставало для программы певца или певицы. Отыскали дьякона из сельской церкви. У него был приятный низкий баритон, но пел он только божественное. Гертруда Иоганновна и Флич долго обрабатывали его, чтобы он согласился выучить "мирские" песни. Дьякон Микола Федорович был любителем выпить, и несколько бутылок водки склонили его к греху. Музыканты разучивали с ним старинные душещипательные романсы. Федорович выпивал для храбрости, крестился истово и пел. И вот наступил день премьеры. Зал гудел в ожидании. За представление официанты приписывали к счету некоторую сумму. Предприятие сулило доход.
Гертруда Иоганновна посмотрела через щелку занавеса в зал ресторана. Вблизи эстрады за столиком, вместе с неподвижным, словно глыба, комендантом и доктором Доппелем сидел заезжий генерал, толстый и лысый, поблескивало пенсне.
За соседним столиком примостились офицеры СД. Штурмбанфюрер Гравес благодушно улыбался. Возле него сидел незнакомый обер-лейтенант из вермахта в сером мундире с крестом. Гертруда Иоганновна поняла, что это кто-нибудь из вновь прибывших. Штурмбанфюрер часто приглашал за свой столик вновь прибывших, видимо присматривался к ним или имел какую-нибудь иную цель.
Она посмотрела на часы. Время начинать. Волнения, того, что возникало перед выходом на манеж, не было. Только какая-то неосознанная тревога, какое-то дрожание внутри. Его надо было побороть. Посмелей! Понахальнее!
Она посмотрела на оркестрик, посаженный в угол за кулису. На танцовщиц, сбившихся в кучу в другом конце эстрады. На трезвого дьякона в алой шелковой русской рубахе, подпоясанной золотым шнурком с кистями. "Такие кисти впору на углы гроба прибивать", - почему-то подумала она.
Ободряюще кивнул Флич, чуть порозовевший то ли от волнения, то ли от духоты и табачного дыма.
Гертруда Иоганновна вздохнула и шагнула из-за занавеса на эстраду. Раздались аплодисменты.
Представление шло нормально. Так, как отрепетировали. Оркестр играл слаженно. Танцовщицы показали три танца. Переодевались быстро. Гертруда Иоганновна отметила их хорошую выучку. Танцевали они весело и, несмотря на некоторую вульгарность, произвели приятное впечатление. Дьякон Федорович чуть не напортил все. На репетициях он перед пением выпивал для храбрости стакан водки, потом крестился истово, замаливая у бога грех. Для этой цели повесил на видном месте икону. Кто на ней изображен, какой святой, он и сам не знал. Да это для него и не имело значения. Голос у него был чистый, густой, и, когда он выводил: "Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы…", даже опытные музыканты кивали одобрительно: красивый голос.
Гертруда Иоганновна не разрешила ему перед представлением выпивать. Мало ли что может случиться! Он вышел трезвый, умытый, глянул в то место, где должна была быть икона, чтобы перекреститься, а иконы не оказалось. Кто-то убрал ее, чтобы не портила вид эстрады из зала. Федорович растерялся. Оркестр сыграл вступление, а Федорович молчал. Нетерпеливо искал глазами: на что бы перекреститься? И вдруг увидел на шее генерала черный крест с золотой свастикой посередине. Лицо его просветлело, он шагнул вперед, уставился на генерала и истово перекрестился. Как раз в это время оркестр закончил повторять вступление, и Федорович запел.
Гвоздем программы, как и предполагалось, оказался Флич.
Представление закончилось. Танцовщицы ушли в общежитие переодеваться. Флич собирал аппаратуру. Оркестрантов вывели через двор и под конвоем отправили обратно в гетто.
Федорович расстегнул рубашку у ворота, дергал головой, принюхиваясь по-собачьи. Из зала тянуло винным запахом.
Гертруда Иоганновна спустилась с эстрады в зал. Комендант пригласил ее присесть к столику. Генерал приветливо кивал круглой головой.
Гертруда Иоганновна с удовольствием ушла бы к себе, она устала, но послушно села на услужливо пододвинутый Доппелем стул.
– Вы должны с нами выпить, фрау Гертруда, - сказал комендант утробным голосом. Звук рождался у него не в горле, а где-то в животе, и голос звучал глухо, словно человек говорит, сидя в бочке. Он обхватил бутылку большими толстыми пальцами и налил в рюмку коньяк, расплескав его на скатерть. - Вы принесли в эту Азию кусочек Европы!
– Идея доктора Доппеля, - скромно откликнулась Гертруда Иоганновна. - Мое дело - исполнять.
Доппель улыбнулся.
– Прекр-расная идея! Нам, солдатам, так нужна отдушина! - закивал круглый генерал. - Облегчение души. Легкой душе легче расставаться с телом. - Генерал засмеялся собственной шутке.
– Вы меня пугаете, генерал! - сказала Гертруда Иоганновна. - Мы не облегчаем души, мы их укрепляем.
– Тем более приятно.
– Вы умница, Гертруда, - наклонился к ней Доппель. - Генерал очень доволен.
– А вы?
– Еще больше, чем генерал.
Гертруда Иоганновна пригубила рюмку.
– Господин генерал, вы разрешите мне вас оставить? Дела.
– С грустью, - произнес генерал.
Она попрощалась и направилась к двери.
У соседнего столика штурмбанфюрер Гравес перехватил ее за локоть.
– Поздравляю вас, фрау Гертруда.
– Спасибо.
– Мой друг обер-лейтенант говорит, что ваш фокусник бесподобен.
– И сами вы очаровательны, - добавил обер-лейтенант, вставая и наклоняя голову.
– Благодарю вас, обер-лейтенант.
– Фридрих фон Ленц, - обер-лейтенант щелкнул каблуками.
– Вы, очевидно, недавно приехали? У меня хорошая память на лица.
– Сегодня.
– Надеюсь, вы остановились в нашей гостинице?
– Разумеется.
Гертруда Иоганновна любезно улыбнулась.
– Я провожу вас, - сказал Гравес.
Он взял ее под руку, и они направились к выходу. У дверей он остановился.
– Все было чрезвычайно мило. Но, дорогая фрау Гертруда, для чего вам понадобилось выдавать еврея Флича за француза?
У Гертруды Иоганновны сжалось сердце.
Гравес ласково улыбался.
– Господин Гравес, - сказала она, с трудом подавляя дрожь в голосе. - Фирма предпочитает иметь на службе живого француза, а не мертвого еврея.
Гравес весело рассмеялся.
– С вами приятно иметь дело, фрау Гертруда.
– И с вами, господин Гравес. Надеюсь, он останется французом! - добавила она не то вопросительно, не то утверждающе.
– Я ваш друг, - Гравес. щелкнул каблуками и склонил голову.
Гертруда Иоганновна, поднялась по лестнице, миновала коридор, открыла дверь своего номера, вошла, заперла дверь на ключ и, ухватившись за портьеру, опустилась на пол. Сил больше не было.
А Гравес вернулся к своему столику.
– Она прелесть, - сказал фон Ленц. - Как вы думаете, штурмбанфюрер, удобно будет нанести визит маленькой хозяйке гостиницы? Какие она предпочитает цветы?
– Скорее всего красные, - ответил задумчиво Гравес.
– Фюрер тоже предпочитает алые розы, - сказал фон Ленц. - Цвет здоровой крови!
Землянки партизанского отряда "Смерть фашизму!" были вырыты в сосновом бору, с трех сторон охваченном болотами. Вырыты наспех, мелкими. Никто не верил, что придется жить в них и зимой. Ждали, вот-вот войска, стянутые Сталиным с Урала, Сибири, Средней Азии - велика же страна! - сомнут гитлеровцев.
Командира отряда "дядю Васю" никто из партизан еще не видел, он мотался по области, организовывал продовольственные базы, создавал подпольные группы, инструктировал, разъяснял, налаживал.
В лагере распоряжался его заместитель Ефим Карпович Мошкин. У него было моложавое лицо, всегда желтое, и белки глаз желтые. Разговаривая, он машинально поглаживал подреберье: болела печень.
Пятнадцать лет Мошкин проносил форму. Работал в уголовном розыске, был политруком конного эскадрона, стал заместителем начальника милиции, а командовать не умел. Взрывался, кричал на подчиненных, но быстро отходил, чувствовал себя неловко, извинялся, менял свои приказания. В лагере быстро разгадали его "слабину", выполняли распоряжения кое-как, а когда он начинал требовательно повышать голос, отвечали: "Не кипятись, Ефим Карпыч. Тут - партизаны-добровольцы, а не казенная милиция".
Впрочем, Мошкин не так уж много требовал, потому что и сам считал, что собрались они здесь ненадолго. Зимовать вряд ли придется. Важно сохранить людей, кадры.
А потом появился "дядя Вася". Он пришел, не замеченный беспечным дозором, с тремя молодыми парнями. Двое были вооружены немецкими автоматами, у третьего в кобуре на ремне - наган. Они побродили по лагерю, заглянули в землянки, поели пшенного кулешу на кухне. И нигде никто их не остановил.
И только в землянку, где расположилась санчасть, их не пустила строгая докторша.
– Сюда нельзя, молодые люди, здесь санчасть, а не клуб.
– И много у вас больных? - спросил "дядя Вася", потрогав светлую круглую бороду, к которой он, видимо, еще не привык.
– А вы кто? - ответила докторша вопросом на вопрос.
– Так, вообще…
– Странно. Вы из какого взвода?
– Из своего, - ответил "дядя Вася".
– Что-то я вас не припомню.
– А мы - новенькие.
– Новенькие? Тогда проходите в землянку, на медосмотр.
"Дядя Вася" и его спутники спустились в землянку с низким бревенчатым потолком и маленькой самодельной печуркой в углу. Середину землянки занимал крепко сколоченный, покрытый белой простыней стол. Вдоль левой стены тянулись деревянные нары, на которых могли бы разместиться человек десять. Они были пусты, только в углу горкой лежали розовые и голубые подушки без наволочек и стопка синих больничных одеял.
У противоположной стены на деревянных полках были разложены лекарства, бинты, хирургические инструменты, стояли блестящие никелированные бачки. А возле, на скамейке сидела девушка в белом халате и кухонным ножом щипала чурку на лучины.
Она взглянула на вошедших и строго, видно подражая докторше, сказала:
– Оружие повесьте у входа, на гвоздики.
"Дядя Вася" кивнул. Парни повесили оружие.
Вошла замешкавшаяся наверху докторша.
– Клава, это новенькие, - сказала она, покосившись на висящие автоматы. - Раздевайтесь до пояса.
– Мы здоровы, - возразил один из парней.
– Раздевайтесь, - приказал "дядя Вася".
Парни послушно скинули пиджаки и рубахи.
И тут вошел в землянку Мошкин.
– Звали, Василиса Сергеевна?
– Что ж это, Ефим Карпович, в лагере - новенькие, а меня не поставили в известность? Ведь мы договорились.
– Какие-такие новенькие? - удивился Мошкин.
– Обыкновенные, - сказал "дядя Вася". - Уж и своих не узнаешь?
Голос показался знакомым. Мошкин пригляделся.
– Что, борода мешает? - усмехнулся "дядя Вася".
– Товарищ Порфирин! Здравствуйте. Как вы здесь оказались?
– Это у тебя надо спросить. Твои вороны в дозоре стоят.
Мошкин сокрушенно развел руками.
– Детский сад. Балаган, а не боевой лагерь, - жестко сказал Порфирин. - Шатаются четверо посторонних и хоть бы кто остановил! Спасибо, доктор, за санчасть. Василиса Сергеевна, правильно?
– А ведь я вас не узнала, товарищ Порфирин, с бородой.
– Сбрею. Придет время, - сказал Порфирин. - Ну, Мошкин, показывай свой штаб. Будем разбираться. - Он взглянул на часы. - Распорядись собрать командиров в шестнадцать ноль-ноль. А вы, Василиса Сергеевна, делайте свое дело, - он засмеялся. - А то мои парни замерзнут.
На другой день Порфирин собрал коммунистов. Он ничего не скрывал, ничего не приукрашивал.
На фронте тяжелые бои. Война с фашистскими ордами - всенародное дело. И собрались они здесь, в лесу, не отсиживаться, как некоторые думают, а бить фашистов, помочь Красной Армии разгромить врага.
Сейчас главное - сплоченность и дисциплина. Самоотверженность и вера в победу!
В лагере начались работы: углубляли и оборудовали землянки. Учились стрелять. Готовились к зиме. Усилили охрану.
То и дело в разные стороны из лагеря уходили разведчики и маленькие диверсионные группы.
Отряд пополнялся новыми бойцами.
В один из осенних дней из лагеря ушел выполнять специальное задание паренек из сопровождавших Порфирина. Самый молодой из них.
В условленном месте он встретил тетю Шуру. Она передала Петра и Павла этому веселому, безбровому пареньку с наганом в коричневой кобуре на широком кожаном поясе поверх пальто.
Паренек сначала покосился опасливо на Киндера, потом посмотрел на братьев и сказал:
– Никак у меня в глазах двоится?
– Мы - близнецы, - пояснил Павел.
Паренек неожиданно пропел веселым голосом:
– Мы близнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи… - и засмеялся… - Ну, пошли, братцы-кролики.
Они попрощались с тетей Шурой, которая возвращалась в город, а сами зашагали за пареньком.
Лес казался однообразным, и непонятно было, по каким приметам угадывает паренек дорогу. Никаких тропок не было. Иногда продирались прямо сквозь кусты, обходили темные лесные бочажки на болотах.
– Чего у тебя в торбе? - спросил паренек Петра.
– Еда.
– Сало есть?
– Есть.
– Очень я сало уважаю.
– Поедим? - спросил Павел.
– Успеется. Еще шагать!… А ведь я вас в городе видел. В цирке. Вы на лошадях скакали. Верно?
– Верно.
– У меня глаз-ватерпас! Между прочим, меня зовут Семеном.
– Я - Павел.
– А я Петр.
– Я не Петр.
– Я не Павел.
– Это он Павел.
– Это он Петр.
– Цирк, - засмеялся Семен.
– А вы - партизан? - спросил Павел.
– Вестимо. Народный мститель.
– А наган ваш?
– Вестимо. У меня еще гранаты есть. Три штуки.
– Покажите, - попросил Петр.
– Дома. В землянке. Это когда в бой иду - беру. А сейчас у меня особое задание. Доставить вас к "дяде Васе".
– А кто это "дядя Вася"?
– Тю!… Не слыхали? Командир партизанского отряда "Смерть фашизму!".
Сердца Павла и Петра забились. Вот оно! Начинается настоящая жизнь! Не то что в кирпичном домике деда Пантелея Романовича: за калитку не выходи, от посторонних скрывайся, окна занавешивай. Тут - лес, простор, народные мстители! Эх, поглядели бы на них сейчас Великие Вожди!
– И нам наганы дадут? - спросил Павел.
– Вы стрелять-то умеете?
– Умеем, - сказал Петр. - Все Великие Вожди юные Ворошиловские.
Павел сердито взглянул на брата: ведь клятву ж давали! Но было поздно. Семен спросил:
– Что за Великие Вожди?
– Вроде партизанского отряда, - нашелся Павел. - Только маленький.
– Ясно. По всей Белоруссии поднялся народ.
С вечеру добрались до темной, покосившейся лесной сторожки. Из тоненькой железной трубы вился дымок. Киндер залаял. На пороге появился мужчина с всклокоченными волосами.
– Кого носит?
– Это я, Семен.
– Заходите.
В сторожке было тепло и сухо. Потрескивали в маленькой печурке дрова. Окошко занавешено. На столе горела оплывшая свеча. Пламя ее колебалось, и по стенам ерзали живые тени.
– Долго шли, - сказал с упреком мужчина.
– Так они ж маленькие, - объяснил Семен.
– Раздевайтесь. Ватники вешайте ближе к печке. И сапоги скидайте. Здесь тепло.
Ребята скинули ватники и сапоги. Ноги гудели от усталости, но оказались сухими. Дед Пантелей чинил обувку на совесть.
– Ну, здорово, орлы Лужины, - сказал мужчина.
И они узнали Алексея Павловича. Того, что беседовал с ними в НКВД, когда они пришли выручать маму.
– Здравствуйте, - дружно ответили братья и заулыбались.
– Есть хотите? У меня тут кулеш горячий.
– С салом? - спросил Семен.
– Со шкварками.
– Пойдет!
После того как ребята поели и отогрелись, Алексей Павлович сказал:
– Что ж про мать не спросите?
Братья молча посмотрели на Семена.
– Вон как!… Начинаете соображать, что к чему. Молодцы, - серьезно сказал Алексей Павлович. - Семен, а ну-ка, пригляди.
Семен накинул на плечи непросохшее пальто и вышел наружу.
– Правильно, ребята, остерегаться надо. А мама ваша жива-здорова.
И Алексей Павлович рассказал братьям, что Гертруда Копф - владелица гостиницы с рестораном, а в ресторане представления по вечерам. И в тех представлениях участвует Флич.
– Значит, они на фашистов работают… - удивился Петр.
– Нет. Флич - честный человек, это Гертруда Иоганновна его уговорила. Так мы это поняли. А о вашей маме и говорить нечего. Мы вашей маме абсолютно доверяем.
– А фашисты?
– И фашисты доверяют. И это очень хорошо. Теперь слушайте меня внимательно. У Пантелея Романовича вы вели себя правильно. Не высовывались. Значит, выдержками понимание текущего момента у вас есть. Чего можно, а чего нельзя. Хотели мы вас в лес переправить. Но решили, что в городе вы нужнее. Гертруде Иоганновне. Ну, что скажете?
– А как же в партизаны? - разочарованно спросил Павел.
– Партизаны всюду партизаны, и в лесу и в городе.
Алексей Павлович ждал, что скажут братья.
– А фашисты знают, что наш папа в Красной Армии?
– Вопрос правильный. Знают. Гертруда Иоганновна рассказала им всю правду. И про вас, что вы эвакуировались с цирком.
– А если спросят, почему мы раньше не вернулись? - Петр испытующе посмотрел на Алексея Павловича.
– Непременно спросят. А ответ такой: вы сбежали, чтобы маму выручить, а до города не смогли добраться. Испугались. Большая стрельба была. Танки шли. И к тому ж, раз в городе немцы, значит, мама в безопасности. Ведь она немка. И вы решили к деду податься, в Березов. Путь туда не близкий. Мыкались, голодали. Пока туда дошли, пока обратно…
– А почему мы в Березове у деда не остались? - спросил Павел.
– А потому, что дом заколочен досками. Бабушка умерла, а дед то ли куда переехал, то ли пропал. Нету его.
– А в Березове фашисты? - спросил Петр.
– Фашисты.
– А если они проверят?
Алексей Павлович кивнул согласно.
– Умерла ваша бабушка. Прямо на огороде. Разрыв сердца. Сердце у нее было слабое.
– Взаправду? - прошептал Павел.
Алексей Павлович снова кивнул.
– А дедушка?
– Там, в Березове, считают, что он к каким-то родственникам уехал, чтобы одному не оставаться. Тосковал очень по бабушке.
Братья молчали, подавленные. Бабушку они видели редко, но любили ее. И что бабушка умерла, что они ее никогда больше не увидят, сразу осмыслить не могли. Как это умерла?
А потом Павел спросил с надеждой:
– Алексей Павлович, а про папу вы ничего не знаете?
– Про папу - ничего. Воюет ваш папа.
Они еще долгу разговаривали. Алексей Павлович объяснил, как они должны будут вести себя в городе: говорить правду, держаться естественно. Пришли, мол, искать маму. Где она - не знаем. Ее посадили в тюрьму русские.
Но и лишнего не болтать. И особо опасаться начальника СД Гравеса. Хитер он и коварен. А в общем, не маленькие!
Утром Алексей Павлович и Семен вывели братьев на старую лесную дорогу и распрощались.
Братья пошли в сторону города - два жалких, неумытых пацана в чужих великоватых сапогах и замызганных ватниках. А рядом бежала мохнатая собака, обнюхивая придорожные мокрые кусты.
Такими их еще издали приметил лейтенант Каруселин. Но не узнал.
Мальчишки не представляли опасности, но все же он проворно свернул в лес. Лишняя встреча - лишняя тревога. Чем меньше людей увидят его, тем спокойней. Мало ли кто может заинтересоваться одиноким путником, а документов, немецкого аусвайса, у него нет. И путь до фронта не близкий.
Еще затемно вышел он из города. Ржавый вывел его задворками. Лейтенант прослужил в городе целый год, а даже представления не имел, что по нему можно передвигаться, не выходя на улицы. Василя правильней было бы Золотым прозвать, а не Ржавым.
Некоторое время Каруселин шел дорогой. Ребятишки с собакой насторожили его. Дорога казалась нехоженой, и вдруг - мальчишки. Значит, могут попасться и другие встречные. Лесом спокойнее.
И только он так подумал, как позади раздался оклик:
– Стой!
Каруселин остановился, медленно обернулся, быстро сунув руку в карман.
Позади в кустах стояли двое штатских: один постарше и ростом побольше, другой почти мальчишка с коричневой кобурой на кожаном ремне поверх черного пальто.
– Руку, - сказал тот, что постарше.
Каруселин нехотя вынул руку из кармана.
– Кто такой?
– Прохожий.
– Документы.
 |
– Что ж мне, за дровами - с паспортом?
– Согласно приказу военного коменданта, всем гражданам вменяется в обязанность иметь при себе аусвайс.
– Мало ли чего пишут! Может, я с грамотой не в ладах.
– Оружие есть?
– А если есть?…
– Придется отдать. Семен…
Молодой, тот, у которого кобура на ремне, подошел и ловко извлек из кармана каруселинского пальто пистолет. Осмотрел его.
– В чистоте пушечку содержит.
– А я с детства к чистоте приученный, - сказал Каруселин. - Дальше что, господа полицаи?
"Врезать сейчас молоденькому, сбить с ног. И - ходу! Нет. Второй стрелять будет. А двух сразу не достать". Старший словно прочитал его мысли.
– С двоими не управишься. И мы - не полицаи.
– А кто ж?
– Пойдешь с нами - узнаешь.
– А если не пойду?
– Ежели бы да кабы, то во рту росли б грибы, - сказал молодой.
– Пистолет отдайте. Он за мной числится.
– Это где же числится? - спросил старший.
– Где надо.
– И мы где надо отдадим.
– Я без пистолета не пойду, - упрямо сказал Каруселин и огляделся, ища сухого местечка, где бы присесть. Но кругом было мокро.
И опять старший прочел его мысли.
– Что, кресло не приготовили? - Он отобрал у молодого пистолет, разрядил, сунул обойму в карман, а пистолет протянул Каруселину.
– На, держи. Патроны-то не числятся?
– Ладно, - сердито буркнул Каруселин. - Куда идти?
– Пока прямо.
Они двинулись лесом. Молодой впереди, старший позади, а в середине Каруселин.
"Да-а… Попал в историю. Если свои - отпустят, а если все же полицаи… Не похоже… Не отдали бы оружия!…"
Шли молча. Долго. Под вечер их остановили вооруженные люди. Пропустили дальше.
"Нет, не полицаи. Партизаны", - - Каруселин повеселел. Наконец его провели в землянку и поставили перед светлобородым, сидевшим за столом. Кого-то он напоминал Каруселину, но кого?…
– Вот, товарищ командир, ходит по лесу с пистолетом. Неизвестно откуда, куда, зачем? Дерзит, - доложил старший светлобородому.
– Откуда? - спросил светлобородый.
– Из Гронска.
– Давно вышли?
– Утром.
– Куда?
– За линию фронта.
– Документы есть?
– Нет у него документов, - сказал молодой.
Каруселин взглянул на него насмешливо, спросил светлобородого:
– А вы кто, товарищ?
– Я - командир партизанского отряда "дядя Вася".
И тут Каруселин сообразил, кого он напоминает: секретаря горкома Порфирина. Только тот был без бороды.
Каруселин задрал полу пальто, подпорол подкладку, извлек оттуда удостоверение личности и комсомольский билет. Протянул командиру.
– Вы что ж, купались с документами, что ли?
– Так точно.
– Фамилии не разберешь…
– Лейтенант Каруселин.
– Чем командовали, лейтенант?
– Саперным взводом.
– Где учились?
– В Ленинградском инженерном училище.
Порфирин передал документы старшему.
– По твоей части, Алексей Павлович. Значит, за линию фронта собрались.
– Так точно. Для продолжения службы.
– Понятно. Вот что: устройте лейтенанта на отдых. А завтра поговорим поподробней.
– Есть. Пошли?
Каруселин в дверях остановился.
– Простите, товарищ командир, а вы, случайно, не товарищ секретарь горкома Порфирин?
Порфирин улыбнулся.
– Случайно состою с ним в близком родстве.
Когда вышли из землянки, молодой хлопнул Каруселина по спине.
– Чего ж ты сразу документы не показал? Идти было бы веселей.
Ефрейтору Кляйнфингеру не нравилась Россия. Он ожидал большего. Конечно, фюреру виднее, где вести войну, но если бы спросили его, Кляйнфингера, он бы предпочел Индию - драгоценные камни, золото, серебро. Храмы. Слоны. И тепло!… Черт побери, он, Кляйнфингер, культурный, начитанный немец и кое-что знает про Индию с детства. Там даже дожди теплые, а здесь… Бр-р-р!…
С каски на шинель стекали большие капли. Крашеный шлагбаум блестел от воды. Куда ни глянь - холодная серая стена дождя.
Нет, не Индия!
Когда он прощался с Эльзой, обещал ей прислать "кое-что". А где это "кое-что" возьмешь? Нищая страна! Непонятный народ. Смотрят на тебя, словно на гадюку ядовитую. Жрут один картофель. Понятия не имеют, что такое сырой рубленый бифштекс с луком, яйцом и перцем. Вот уж, действительно, недочеловеки! То ли дело дома, в Баварии!
– Ганс, - окликнул Кляйнфингер напарника, - ты в Баварии бывал?
– Нет.
– Сам фюрер взращен на мюнхенском пиве! - с гордостью произнес Кляйнфингер.
К шлагбауму подкатил грузовик. Рядом с шофером сидел автоматчик.
Проверили документы. Кляйнфингер заглянул за борт грузовика и почмокал губами: там лежало несколько свиных туш.
Ганс поднял шлагбаум. Грузовик, выпустив синюю струйку дыма, въехал в город.
Кляйнфингер, вобрав голову в поднятый воротник шинели, пытался мысленно воскресить во рту вкус баварского пива.
Нищая страна! И Польша тоже нищая страна. Правда, батальон двигался во втором эшелоне, а все, что можно прибрать, прибрали идущие впереди. Разве это добыча, достойная солдата рейха: пара обручальных колец, часы да еще пуховый платок… Платок чертова баба не отдавала, вцепилась в него, как в бог весь какую драгоценность. Пришлось припугнуть автоматом.
Но говорят, скоро будет акция. Повезут из гетто евреев. Можно будет кое-чем разжиться. Да и на совести спокойней: тем евреям на том свете ничего не понадобится.
Подошли два мальчишки с собачонкой. Кляйнфингер собрался пнуть собачонку, но она оскалила зубы и зарычала. Экая дрянь. Все тут дрянь: и люди, и собаки, и погода.
– Здравствуйте, господин офицер, - обратился к нему один из мальчишек. - Скажите, пожалуйста, какой это город?
Смотри-ка, по-немецки говорит!
– А тебе какой надо?
– Гронск.
– Стало быть, он и есть.
– Правда, господин офицер? - обрадовался мальчишка и повернулся к другому: - Петер, мы пришли!
– Наконец-то, - воскликнул тот, которого назвали Петером. - А то ходим и ходим…
Кляйнфингер посмотрел на мальчишек внимательнее. До чего грязны! Дрянь мальчишки. То ли дело баварские дети!
– Вы откуда немецкий знаете?
– А мы немцы…
– Ганс, ты когда-нибудь видел таких задрипанных немцев?
– Если тебя не мыть, и ты таким будешь, - философски заметил Ганс.
– Мы очень долго идем, господин офицер. Мы ищем свою маму.
– Что она, иголка, что ее надо искать?
– Ее русские посадили в тюрьму.
– За какие-нибудь делишки? - поинтересовался Ганс.
– Что вы! Просто за то, что она немка.
– Умойтесь, детки, а то родная мама вас не узнает, - Кляйнфингер тоненько засмеялся собственной шутке. Уж такие они, баварцы, за словом в карман не лезут! - Ну, идите, ищите. Найдете свою маму, передайте ей привет от ефрейтора Кляйнфингера из Баварии.
– Обязательно, господин ефрейтор. Спасибо. До свидания.
Павел и Петр позвали отбежавшего в сторону Киндера и пошли в город. А Кляйнфингер посмотрел им вслед и изрек:
– А в Индии все ходят голыми. Там тепло.
Мальчики добрались до центра и остановились возле школы, пораженные. Сада не было. Только низенькие пеньки со следами ровного аккуратного распила. Ограда поднята колючей проволокой, натянутой в несколько рядов. По ту сторону ее, среди пней, сиротливо стоит "пушкинская" скамейка.
Обнажившееся здание школы обходили серые часовые мерным шагом. Возле дверей стояли легковые машины. Видимо, в школе помещался какой-то штаб.
– Идем, - потянул Павел брата за рукав.
– Куда?
– В цирк. К маме нельзя. Нас кто-то должен к ней привести.
Они прошмыгнули мимо гостиницы, стараясь не пялиться на вход, чтобы чем-нибудь себя не выдать. Ведь здесь, в гостинице, была мама! Они ее так давно не видели, целую вечность! Сердчишки их сжались от тоски.
На знакомой калитке висел замок. Сторожа не было. Быстро темнело. Надо было где-то устраиваться на ночь. Не оставаться же на улице в комендантский час. Холодно, да и фашисты стреляют без предупреждения.
К Пантелею Романовичу нельзя. Это ясно.
Пойти к Ржавому? Или к Злате? Они наверняка знают, что мама работает у немцев. Великие Вожди просто не могут этого не знать. Еще не известно, как они к ним отнесутся, к сыновьям предательницы.
В немецкую комендатуру пойти?… Здравствуйте, ищем маму. А вдруг и слушать не захотят?
Улицы пусты и темны: ни фонаря, ни светящегося окошка.
– Давай через ограду, - предложил Петр. - В цирке до утра переждем.
Они перекинули Киндера через ограду и перелезли сами.
Братья пробрались под брезентовый шатер со стороны форганга. Где-то наверху мерно хлопало сорванное полотнище. Сквозь запах осенней сырости пробивался неистребимый запах цирка.
Киндер юркнул в конюшню, вспомнил своих приятелей-лошадей, тявкнул тихонько и тоскливо.
Братья поделили остатки дорожной еды на три равные части, поели и улеглись на деревянной скамейке. Лежать было жестко и неудобно. Киндер лежал на полу и вздыхал.
В конце концов всех троих сморила усталость.
Проснулись они от мозглой сырости, которая проникла к телу сквозь ватники.
В щели купола пробивался бледный свет и таял, ничего не освещая. Братья размяли затекшие от лежания на жесткой скамейке ноги. Тело ломило.
– Так и заболеть недолго, - вымолвил Павел, ежась от озноба.
– Погреемся? - предложил Петр и, скинув ватник, перепрыгнул через барьер на влажные опилки манежа.
Киндер бросился за ним.
Павел проследил за братом взглядом, тоже сбросил ватник и вышел на манеж.
Не сговариваясь, они побежали по кругу. На мгновение им показалось, что следом бегут лошади, сейчас поравняются с ними и они прыгнут в седла.
Опилки чуть пружинили под ногами, глушили шаги, и ребята летели над манежем бесплотными тенями.
Павел догнал брата и хлопнул его по спине.
Петр остановился.
– Ты что?
– А ты что?
И они начали свою знаменитую драку, которая так прославила их среди мальчишек во всех школах, где они учились.
Киндер, не понимая, что происходит, залаял.
Павел поймал его, сжал руками пасть.
Они надели сырые ватники на разгоряченные тела.
– Пойдем поглядим, - предложил Павел. - Может, сторож пришел?
Они вышли через главный вход наружу, увидели у калитки старика с клюкой и побежали к нему.
Старик обернулся на стук шагов, нахмурился сердито.
– Вот я вас, хулиганы!
Он не признал в грязных мальчишках всегда таких вежливых и чистеньких артистов.
– Дяденька, это ж мы! - воскликнул радостно Павел.
– Лужины, - уточнил Петр.
– Помните, мы на лошадях скакали?
Филимоныч смотрел на них во все глаза. Точно. Они. Господи!
– Да где ж это вы так… исчумазались?
– В дороге. Все пешком да пешком. По лесу. По грязи, - захлебываясь, объяснил Павел.
– А Флич-то вас ждет вон сколько времени. Уж не чаял в живых увидеть.
– Флич!… - воскликнул Петр. - Где он?
– У меня на квартире живет. Вот уж обрадуется! Сей минут к нему и пойдем. Вот только калитку запру.
Он завозился с замком, никак не мог просунуть дужку в кольца. Руки не слушались. И только повторял:
– Сей минут… Сей минут…
Это надо же! Пришли мальчишки в цирк. Словно лошади в родную конюшню.
Наконец замок щелкнул.
Филимоныч схватил мальчишек за руки, чтобы опять куда не исчезли, и повел домой. Дома он бесцеремонно втолкнул их в комнату.
Увидев братьев, Флич остолбенел, глазам своим не верил. Потом схватил сразу обоих в охапку, прижал к себе, забормотал что-то бессвязное.
Как он терзался, что упустил их, не догнал, не нашел. Не было ему покоя все эти длинные дни и ночи. Он не боялся за себя. Если надо - он готов умереть. Но мальчики во что бы то ни стало должны выжить в этой ужасной войне! И вот они снова здесь. С ним.
– Совсем придушил мальцов, - сердито пробормотал Филимоныч, а глаза его блестели, и он то и дело проводил по ним ладонью и шмыгал носом. - Их же отмыть надо. Накормить.
– Совсем голову потерял, - Флич отпустил братьев, отстранился. - Что за вид?… Откуда эти ужасные ватники? А ну, быстренько… Стойте! - он вдруг схватился обеими руками за голову. - Гертруда!… Она ж не знает… Она ж…
– Да не мельтешись ты, Яков. Куда ты таких поведешь?
– А мама… Мама здесь? - спросил Павел.
Ах, как трудно притворяться. А надо, надо. Как велел Алексей Павлович. Только маме можно сказать правду.
– Здесь. Все хорошо. Она… - Флич замялся. - У нее такие обстоятельства.
– Что-нибудь случилось? - испуганно спросил Петр.
Если бы Флич сейчас был поспокойнее, он бы заметил, что испугался Петр понарошке. Но Флич был взволнован, потрясен, обрадован и огорчен разом.
– Мама вроде директора в гостинице. Но вы про нее худо не думайте. Ей деваться было некуда. Пришлось согласиться.
– Вроде директора? - повторил Павел недоуменно.
– Она сама вам все расскажет… Да скиньте вы эти ужасные ватники!
Гертруда Иоганновна, несмотря на раннее утро, уже успела спуститься вниз, на кухню. Осмотрела свиные туши, что привезли вчера. Строго выговорила поварихе за просыпанный на пол сахарный песок.
Потом прошла в ресторан, где несколько офицеров, живущих в гостинице, жевали холодное мясо, запивая пивом.
Поговорила с буфетчиком, забрала выручку и поднялась к себе. Деньги заперла в маленький железный ящик, появившийся недавно возле стола в углу. Собралась было заварить себе крепкого чаю, но в дверь постучали.
– Войдите.
Колыхнулась портьера, и в комнате появился обер-лейтенант Фридрих фон Ленц, тщательно выбритый, с алыми гвоздиками в руке. Запахло дорогим одеколоном.
– Доброе утро, фрау Гертруда. Извините за ранний визит. Боялся вас не застать.
– Здравствуйте, господин обер-лейтенант. Чем могу быть полезна?
– Нет, нет, я не по делу. Это я хотел бы быть полезным вам. - Он протянул ей цветы. - Мой друг штурмбанфюрер Гравес сказал, что вы предпочитаете красные.
– Благодарю вас. Но не стоило тревожиться.
– Помилуйте! Никакой тревоги. Цветы украшают и возвышают женщину. Разрешите присесть?
– Прошу, - Гертруда Иоганновна небрежно сунула цветы в вазу, всем своим видом показывая, что у нее нет большого желания беседовать с господином обер-лейтенантом.
Но Фридрих фон Ленц не обратил на это никакого внимания. Он чопорно уселся в глубокое кресло и, чуть склонив голову набок, молча смотрел на Гертруду Иоганновну.
Молчание начинало раздражать ее, и она предложила:
– Чаю?
– Спасибо, не откажусь. - Обер-лейтенант обвел взглядом комнату. - У вас здесь очень мило! Когда вы последний раз были в Берлине, фрау Гертруда? - спросил фон Ленц.
– В двадцать шестом году.
– О-о… Вы не узнаете свой родной город. Правда, сейчас он несколько потускнел. Война.
– Да. Война не красит города.
– Зато красит настоящих мужчин!
Гертруда Иоганновна покосилась на крест на его мундире.
– За что у вас крест?
– За Францию.
Чайник закипел. Гертруда Иоганновна разлила чай в чашки. Ей очень хотелось поскорее избавиться от надоедливого собеседника, а обер-лейтенант бесшумно помешивал чай ложечкой и рассказывал о лошадях в своем имении, поскольку узнал, что Гертруда Иоганновна была наездницей, а стало быть, знает толк в лошадях.
Наконец чай был выпит. Обер-лейтенант встал.
– Разрешите откланяться, фрау Гертруда.
– Всего доброго, господин фон Ленц.
Она не протянула ему руки.
Он поклонился, пошел к двери, открыл ее, но, словно что-то вспомнив, вернулся:
– Кстати, фрау Гертруда, не подскажете ли, где можно починить замок чемодана?
– Что? - оторопело спросила Гертруда Иоганновна.
– Я спрашиваю, не подскажете ли, где можно починить замок чемодана?
Не может быть… Чопорный обер-лейтенант Фридрих фон Ленц!… Совпадение?
Обер-лейтенант ждал.
Она заставила себя улыбнуться:
– В этом городе проще купить новый чемодан.
Фон Ленц кивнул и тихо сказал по-русски:
– Вот и хорошо. - Перешел на немецкий: - Вам, наверно, очень трудно?
Гертруда Иоганновна смотрела на обер-лейтенанта растерянно. Все так неожиданно, даже невероятно! Он улыбнулся.
– Вы думаете, мне просто принять вас за то, что вы есть на самом деле?
– Трудно, - тихо ответила Гертруда Иоганновна.
Он понял, что она ответила на первый вопрос.
– А я даже не немец по происхождению. Кончил немецкое отделение университета. Как мое произношение?
– Безукоризненно.
– Но чего это стоит!… Вы ведете себя очень правильно. Товарищи вами довольны.
– Но я ничего еще не сделала!
– Вы сумели сделать главное. Стать тем, чем вы стали. Эта война долгая. Ваша задача - оставаться фрау Копф. Товарищи вас найдут сами. В крайнем случае обратитесь к владельцу слесарной мастерской Захаренку. Конечно, под удобным предлогом. Вы эту мастерскую должны знать.
Гертруда Иоганновна кивнула.
– Пароль: "Не найдется ли у вас трех спиц для дамского велосипеда?" Ответ: "Смотря какой марки велосипед". Ответ: "Пензенского завода". Запомнили?
Гертруда Иоганновна снова молча кивнула.
– Остерегайтесь Гравеса. Он большой подлец. И берегите себя. Впереди тяжелая борьба. Позиция, которую вы заняли, ключевая, говоря языком военных. А мы все теперь военные. Штатских нет. - Он улыбнулся. - Ну, прощайте, фрау Гертруда. Мне было очень приятно познакомиться с вами, - обер-лейтенант взял ее руку, склонился к ней и поцеловал. - Прощайте.
– Прощайте, господин обер-лейтенант. И спасибо.
Он обернулся в дверях:
– Советую: не забудьте пожаловаться на мое нахальство штурмбанфюреру Гравесу. При случае.
Полк стоял на Красной площади.
Утро было холодным. В хмурое серое небо из-за белых крыш выскакивали юркие патрульные "ястребки", проплывали с гулом под самыми тучами и исчезали за другими мокрыми крышами. А гул оставался, далекий, невнятный.
И если бы огромный, полуопустевший, ощетинившийся противотанковыми ежами и надолбами настороженный город вдруг остановил свое напряженное движение и замер на минуту, он понял бы, что глухой гул - артиллерийская канонада, отзвук недальнего отчаянного боя за Москву.
Иван Александрович Лужин стоял во второй шеренге. Лицо его, как и лица его товарищей, было суровым и сосредоточенным.
Длинные разверстые пасти репродукторов разносили по площади негромкий голос Верховного Главнокомандующего.
Выстроившиеся на площади красноармейцы напряженно вслушивались.
"…Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта…"
Ивану Александровичу привиделся Смоленск… Обожженные развалины. Смрад и дым. Черный, коричневый, сизый дым, от которого никогда, кажется, не откашляешься.
Резкий короткий вой мин. Тоскливый, протяжно нарастающий стон авиабомб, несущихся к земле. Захлебывающиеся от ярости пулеметы. Треск. Пальба. Голос человеческий, как стрекот кузнечика на фоне грома мчащегося поезда.
Товарищи падают и снова подымаются. А иные остаются лежать на взрытой, израненной земле, и опаленные солнцем и боем лица их заливает восковая желтизна.
А серые волны фашистов накатываются и накатываются. Скрежещут гусеницы танков. Пушки выплевывают огонь. Вот окутался вонючим дымом один танк. Другой. Третий… Серые фигуры автоматчиков ломаются, падают. И тоже остаются лежать.
Здесь дерется полк Зайцева. Здесь фашистам не пройти. Они споткнулись и шлепнулись мордой о горящий Смоленск. И может быть, впервые поняли, что блицкриг не получился. Нет. Не получился.
"…Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов…" - звучало из репродукторов…
"О чем это?" - подумал Иван Александрович, ошеломленный видением боя, таким ясным, словно это было не три месяца назад, а только что. Сообразил: "О восемнадцатом…".
"…В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов…"
С десяток фашистских танков замерли перед окопами черными коптящими факелами. Между ними земля сера от мундиров мертвецов. Старшина Линь снял каску, утер рукавом пот и копоть со лба. Сказал:
– Маленькая передышка. Как у вас в цирке объявляют?
– Антракт! - произнес Иван Александрович шпрехшталмейстерским голосом.
Рядом раздался странный шлепок.
Старшина дернулся, посмотрел недоуменно на Лужина, будто намеревался спросить о чем-то, да забыл о чем, и медленно стал валиться набок.
Иван Александрович подхватил его обмякшее тело. Со лба по щеке старшины на гимнастерку стекала густая розовая струйка крови.
"…Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как двадцать три года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?"
Старшина Линь так и не узнал, кто у него родился: сын или дочь? Но кто бы ни родился, этот маленький человек должен жить свободным на свободной земле. Ради этого пал его отец под городом Смоленском.
"Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы… как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на нашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!"
Что-то распирало грудь, рвалось наружу. Какая-то сила сделала тело легким. Казалось, вот-вот оторвешься от земли и полетишь над площадью гордой птицей.
Иван Александрович покосился на соседа, молодого, еще не обстрелянного красноармейца с розовыми от холода и возбуждения щеками. Глаза его сверкали решимостью, пальцы крепко вцепились в автомат.
Прозвучала команда. Грянул оркестр. Батальоны пошли мимо Мавзолея.
Иван Александрович старательно и вдохновенно печатал шаг. Ему казалось, что та самая сила, которая сделала легким тело, двигает им сейчас. И соседями по шеренге, и впереди идущими, и идущими позади. Без нее, без этой силы, не было бы строя, не было бы полка.
Она, эта сила, сцепляла тела, как магнит железную стружку, заставляла сердца биться в унисон, сматывала души в один живой упругий клубок. И душа старшины Линя была здесь.
И души всех, кто полег в сражениях от границы почти до самой Москвы.
"Это, наверно, и есть бессмертное великое братство. Его не сломать, не разрушить, не уничтожить, пока жив хоть один брат", - подумал Иван Александрович.
Полк прошел Красной площадью и повернул на набережную Москвы-реки.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |