"И я там был..., Катамаран «Беглец»" - читать интересную книгу автора (Новаш Наталия Владимировна, Куличенко...)
Пока не зашло солнце
Дерево росло у самой воды, внизу, под горой, на узкой полоске озерного берега, где сидел сейчас малыш. Отсюда тянуло дерево свои соки. Здесь было сыро целое лето, и даже в засуху вдоволь хватало влаги, и это тоже могло бы помочь хоть как-то… А теперь и вовсе не посидишь на не просыхающих от дождя листьях. Мокро, тянет холодом от земли. Поздняя, в серых тучах осень.
Он не услышал шагов. Выглянул из-за ствола и увидел, что учительница уже стоит на дороге. В блестящем от капель дождевике она была все такая же, как всегда: тоненькая, похожая на Золушку. «Совсем девчонка!» — говорили в деревне и не верили, что она уже взрослая и учит детей.
Учительница поправила капюшон. Нет, в тот первый момент она не заметила малыша. Она стояла под редко сыпавшим с деревьев дождем, осторожно держа в руке свою ношу и, склонив голову, смотрела на их дерево.
Дерево было толстым и крепким у основания — кто угодно мог бы спрятаться позади него. Оно поднимало свой мощный шершавый ствол над сидевшим на земле малышом — озябшим, светлым комочком, казалось, вжавшимся от холода в землю; высилось над учительницей, глядевшей сверху, с дороги. Во весь свой гигантский рост вздымалось оно над дорогой, которая лесным туннелем обегала озеро на востоке по склону горы — стенке метеоритного кратера, густо заросшей осиной, орешником и ольхой. Разветвляясь, словно большая рогатка, оно уходило ввысь своей кроной — выше леса и выше других деревьев, пробивая ветвями их густой сплетавшийся потолок. Это была старая могучая черемуха, которая еще прошлой весной цвела здесь — пышно и щедро…
Учительница запрокинула голову и долго смотрела на пестрое переплетение редевших по осени крон. Капюшон съехал. Она этого не замечала… И малыш понял, что она ищет. Ради этого оба они мокнут сейчас под дождем. Но там, наверху, несмотря на дождь, все было желтым, коричневым и багряным, подобно не освещенному солнцем витражу, тусклому, но не потерявшему до конца своих красок… Темные силуэты стволов. Щупальца вымокших веток — черные сучья, пропитанные водой. И только черемуха — гладкий блестящий ствол в белом чулке липкой пленки. Точно намылили… облепили снегом эти безжизненные голые ветки, совсем без листьев, замотанные в сплошной паутинный кокон.
Учительница опустила глаза. Он понял — надеяться уже не на что. Вспоминалось равнодушное, а потом злобное лицо матери — тогда, летом… Мать оказалась права, он ничем не помог дереву. И так не хотелось верить, признавать ее грубую правоту. Даже сейчас, здесь…
Малыш встал с земли и, не отряхиваясь, стал карабкаться в гору, к дороге… Учительница улыбнулась, поставила бидончик на землю. Да, она была все такая же, как из сказки. Даже в этом плаще и закатанных над сапогами старых джинсах. Капли дождя скользили по прозрачному капюшону, стекали на выгоревшие ресницы и на выбившиеся из-под капюшона волосы, которые тоже посветлели за лето и стали еще длиннее. Улыбка ее ни капельки не изменилась. Тот же знакомый голубой бидончик — царапинки, трещинки на эмали, и белые тяжелые капли дорожками растекаются из-под крышки. Это бабушка всегда наливает так полно! Ура! Значит, снова берет молоко у бабушки, и опять будет все, как раньше… Но эта же мысль заставила и огорчиться за учительницу: значит, снова никто в деревне не согласился продавать молоко. Было выгодней выливать кабанам или отвозить его на автобусе в военный городок на базар, чтобы загнать его там, как говорила мать, по тройной цене. «А уж сыр да сметану с руками бы оторвали!» — ворчала она со злостью и сколько раз убеждала бабушку не быть дурой, и раз уж так ей, старой, втемяшилось, то запросить с этой учителки хотя бы двойную цену. Но бабушка, всегда такая мягкая и уступчивая, лишь грустно качала головой, молча слушала, а поступала по-своему… Потому-то и не было помощи от детей в этот сенокос. С дедом вдвоем скосили делянку, сами сено в стога сложили, только внук помогал ворошить. До конца лета не наведывались ни отец с матерью, ни дядька, старший бабушкин сын. А теперь наезжали, как прежде, и везли в город набитые продуктами сумки.
Он вспомнил другое и покраснел, стыдясь за родителей и за деревенских, которые так плохо всегда говорили об учительнице. За что они ее не любили? Злорадный, осуждающий голос матери… Зачем он звучит в голове? Стало совестно, точно учительница могла его слышать. Поглубже надвинул шапку, затянул капюшон… Заставил себя думать о приятном — об их первой встрече. Лето! Это было лето. Утро слепило красками первого июньского дня. Небо мелькало над головой — того же в точности цвета, что и бидончик учительницы; и облака плыли, белые, как молоко… Трава, листья в каплях дождя. Ночью был теплый ливень, все свежо, мокро, а под деревьями даже озноб пробирал по коже. Они только что вбежали сюда с поляны — с солнца, где зеркалом сверкало перед ними озеро, отражая потоки бившего с неба света, и все на бегу сливалось — яркое, синее, голубое. А тут, в тени, лишь вода синела через просветы береговых кустов. Они отдышались — это был первый день, когда они познакомились. А потом учительница показала дерево. И он увидел его… навсегда, среди буйной зелени леса — все объеденное, все в паутине, в белом, липком, душившем его чулке. И словно сразу забылось лето…
— Вот беда… — шептала учительница. — Как помочь?
Весь ствол, ветки оплетала шелковистая пленка. Кое-где зеленела скрученная, объеденная листва… И тогда учительница рассказала про гусениц.
Целый день думал малыш, как помочь дереву. А утром подкараулил учительницу на дороге.
— Смотри! Я придумал! Теперь ему станет легче… — и, подтягиваясь на носках, сколько мог достать, оборвал снизу липкие клочья пленки.
— Молодец! — похвалила учительница. — Ты помог ему! Дерево снова дышит.
Малышу понравилось, что его похвалили. Он с нетерпением ждал воскресенья. В воскресенье приехала мать.
Показавшаяся очень толстой в модном зеленом купальнике, она недовольно поплелась в тень. Ежась, ступала босиком по холодной лесной дороге.
— На дрова присмотрел бабе с дедом? — бросила взгляд на дерево и, равнодушно зевнув, продолжала рассматривать красную от загара кожу на животе. Мальчик этого не замечал.
— Смотри! — не терпелось ему похвастаться. — Я помог ему, понимаешь?
— Кому? — искренне удивилась мать и подозрительно посмотрела по сторонам.
— Дереву! Оно снова дышит…
— Дурила! Батьке скажи, пока деревенские не углядели. Сухое-то тащить не штука…
Тогда еще дерево сухим не было, и молодые листочки, что потом еще раз показались из-под паутины, долго оставались несъеденными.
Матери надоело стоять в тени.
— Марш домой, пока гадости какой не набрался!
— А учительница сказала, что помог… Похвалила! — сын, подпрыгивая на носках, обнимал грязный ствол и пытался сорвать белевшую наверху, гадкую и липкую паутину. — Достань, ты выше! Видишь, как я ее оборвал внизу?
— Батька ему топором поможет! — прикрикнула мать построже и вдруг разозлилась: «И так дурак, в бабку! А тут еще эта…» — Дура твоя учительница! — крикнула на весь лес. — Слушай ее побольше!..
Опешив, он не мог вымолвить ни слова. А мать еще больше злилась:
— Дура, раз так сказала! Умные в городе пооставались, устроились. А эта по распределению прикатила! В чертову глухомань!
Малыш съежился, как тогда. Только теперь было хуже, и не потому, что осень — все желтое, опадающее. Листья мокрые, но не как раньше, после теплого ночного ливня; а теперь уже до самого снега будет лить и лить этот дождь, потому что несет ветром с моря серые тучи, и будет гнать, пока не ударит мороз. А дереву так и не помогли. Не выросли молодые листочки, показавшиеся потом, когда кончили косить сено. Съели и их прожорливые гусеницы, и не заложатся на зиму новые почки, как надеялась учительница. Хорошо еще, не срубили дерево тогда же, летом. Мать кричала, ругалась, но отец все-таки не согласился. С бабушкой вместе уговорили, сказали — и учительница жалеет дерево…
И сейчас рядом с нею малыш молчал. Что говорить? Зря только ее расстраивать. А так хотелось рассказать о лете: о рыбалке и сенокосе, о зайце, что каждое утро выбегает к хутору на дорогу… Они молча шли по дороге. Шли медленно, чтобы белые капли не выкатывались из-под крышки бидона. И он был готов идти так до самой ночи, хотя они только молчали, глядя в землю, а не беседовали, как раньше, обо всем на свете. Лето не виделись, а мальчик помнил каждый их разговор, особенно тот, последний, когда начались каникулы и учительница засобиралась в город.
— Если умная, не воротится, из отпуска не вернется! — говорила мать. — Дура, что ли, в городе не остаться?
Бабушка только качала головой, как всегда, а малыш не знал — вдруг в впрямь не вернется учительница? И не будет он тогда у нее в первом классе… Потому и решил задать свой вопрос. Утро было такое солнечное. Жара. А они взбираются вдвоем на холм, по самому солнцепеку. Не тропою, а напрямик, мимо старой ивы через молодой сосняк. Сосны — маленькие, ему по пояс, это теперь они вытянулись за лето. Пахнет хвоей и чаборком, густая трава путается под ногами. Идти трудно, он отстает, но не из-за усталости, а оттого, что думает: как лучше задать свой вопрос? Просто так: «Есть ли бог на свете?» Или иначе: «Кто прав?..» Отец, который объяснить не умеет, а только кричит, что бога нету и не может быть, а верят в него только темные и отсталые? Или, может быть, тетка Ядя, всегда усталая и больная, которая приносит с фермы ворованное молоко, а на укоры бабушки зло отвечает, что бога-то все равно нет, если ей на морозе тридцать коров доить, а председателю только бы языком болтать на собраниях, и нечего потому на том свете грехов бояться?! Или прав дядька, старший бабушкин сын, что деньги все пропивает и хитро твердит: «На том свете все равно не дадут! Пей! Нету там никакого свету, а умрешь — и черви тебя съедят!..» И только одна бабушка всякий раз перед сном просит бога одними и теми же словами… «обо всех нас, больных, страждущих, плавающих и путешествующих…».
Он хорошо помнил, как растерялась учительница и не знала, что отвечать. Тогда он помог ей вопросом:
— Вот бог… Разве может он жить на небе и просто так спускаться оттуда на землю? Прав отец — ведь там только облака?
— Но там есть и звезды! — не хотела соглашаться учительница. — И такие же планеты, как наша. Возможно, там жили люди, прилетали сюда, и их считали богами…
— Ну… То другие — тоже, как мы… — возражал малыш. — А есть ли тот бог, в которого верит бабушка?
Учительница смутилась и, опустив глаза, начала объяснять что-то не очень понятное. Тогда малыш опять ее перебил:
— А ты сама веришь в бога? — он прямо посмотрел ей в глаза, но вдруг понял, как больно учительнице: она пугается — отвечать по правде и не хочет — говорить как должна… И он не стал спрашивать «почему», догадывался, что из-за бабушки, из-за деда… Лишь ощутил в себе ее мысль: «Мне нельзя… И обижать — нельзя… Когда вырастешь, поймешь сам…»
И сейчас, под дождем, как в тот миг, он быстро взглянул на учительницу. А вдруг и она теперь поняла, что он думает?
Та остановилась, прислушалась, взяла бидончик в другую руку.
До укромной поляны было еще довольно далеко — малыш всегда провожал ее до поляны, и с полдороги возвращаться совсем не хотелось… Но учительнице показалось, что дождь усилился, хотя это просто налетел ветер и закапало с веток…
Он стоял и смотрел, как она скрывается в орешниковой аллее. Сегодня аллея была совсем-совсем желтой, словно солнце вышло из-за дождевых туч. И, казалось, листья над головой вот-вот зазвенят от ветра, точно сделаны из тонкой золотой фольги и светятся…
Дождь сильнее застучал по листьям. С укромной поляны донеслись голоса. Летом там всегда останавливались туристы. По глинистой дороге, полем добирались с шоссе — это был один из немногих подъездов к озеру. Не всякий, правда, отваживался ночевать в этом глухом уединенном месте. Чаще ставили свои сверкающие машинки на большой поляне — и простор, и солнце, и хутор поблизости. Но с июня и до самого конца августа и укромная поляна редко когда пустовала, всегда находились любители уединения: пешие туристы с рюкзаками, бывалые мотоциклисты или молчаливые рыбаки, приезжавшие на какой-нибудь добитой «Победе» или видавшем виды «Запорожце». И обитатели этой поляны всегда почему-то больше нравились малышу… Но с приходом последнего августовского дня и их словно корова слизывала языком — дороги развозило, красная жирная глина разбухала так, что и ногу, казалось, не вытащить из колеи, и ни на каком вездеходе сюда уже было не добраться. Потому и казалось странным, что на укромной поляне кто-то есть…
Он быстро шел по аллее, высматривая на земле отпечатки резиновых бот учительницы. И вот уже прибрежные деревья расступались — пляжик, бухточка с торчащей из воды ничейной перевернутой лодкой. Слегка набегают на песок прозрачные волны. А слева через оголившиеся кусты просматривается поляна; мрачный высокий бор окружает ее с трех сторон, и там, на траве у самых сосен, одинокая палатка… Каких только он здесь не видел — красные, синие, разноцветные!.. А такую, маленькую, скособоченную, натянутую только двумя веревками, — в первый раз! И сделана из того самого вылинявшего брезента, что старая дедова плащ-палатка.
Костер слабо тлел, вспыхивал сиреневыми языками, будто в него набросали негодных электрических батареек. Дымок ровно поднимался вверх, словно не моросил дождь, не налетал порывами отрясавший деревья ветер…
В раздумье малыш простоял у поворота к поляне.
Трава там была зеленая, свежей, чем летом: отросла, погустела. И даже на крутом подъеме, где машины, поворачивая, буксовали, дорога была неразъезженной, колеи затягивались, как раны, которые заживали.
На поляне так и не появился никто — лагерь оказался пуст. И вещей не было никаких: ни топора, ни запаса дров, ни раскиданной у костра посуды. Только что-то, прислоненное к палатке, банка или, может быть, котелок, прикрыто наброшенным полотенцем… Греться у чужого костра — вот так, одному, — не хотелось, и малыш спустился к берегу.
Волна чуть плескала в берег. Облизывала носки резиновых бот, делала их черными и блестящими и снова отступала на миг, обнажая чистый речной песок. Он просвечивал впереди сквозь рябь, сквозь прозрачную ледяную воду, а дальше озеро было темным и неспокойным, как небо, которое в нем отражалось.
Малыш услыхал шаги — точно кто-то размашисто шагал по дороге в больших и тяжелых, не по размеру, сапогах. Оттуда, со стороны деревни, показался человек в штормовке, с непокрытой головой, быстрыми движениями и энергичной походкой напоминавший кого-то очень знакомого, но переодетого в другую одежду. Он спешил, сгребая листву большущими рыбацкими сапогами. Небольшая, коротко подстриженная борода и удлиненные волосы делали его похожим на геолога или туриста, но чем ближе он подходил, тем больше становился похож на того грустного человека с бабушкиного образка, что висел в углу, в хате… Если бы не деловая спешка и улыбка уверенности в лице… Широкая улыбка, хоть рядом и не было никого…
Заметив мальчика, он сбавил шаг и, рассматривая его, делался все серьезней, наконец, остановился у перевернутой лодки и снова дружески улыбнулся.
Ребенок смутился и отвел взгляд, но лицо незнакомца точно притягивало к себе. Так и хотелось посмотреть снова — как на озеро в ясный день, солнце на закате или на красивую божью матерь, что склоняется над своим младенцем на большой бабушкиной иконе.
Человек вновь посерьезнел и, глянув на другой берег, стал застегивать пуговицы штормовки. С озера задувал ветер — резковатый, холодный.
— Не показывался? — кивнул туда, на озерную рябь, и мальчик понял, что это он о товарище, наверное, подводнике или аквалангисте, который сейчас там, в озере, о нем-то он и беспокоится, поглядывая то на часы, то на воду, хмурую и холодную, как небо, что в ней отражалось. Или это с запада принесло чернильную тучу, или просто темнело прямо на глазах, как часто бывает осенью…
— Который час? — спросил мальчик, уставясь на большие часы незнакомца.
— Скоро шесть. Тебе ведь ни к чему точно? Малыш подумал, что до семи еще нужно пригнать коровку, чтобы было молоко на ужин. Дневное они все отдали учительнице.
Человек покраснел, будто ему вдруг стало совестно, поднес руку к глазам и сбоку на циферблате нажал какую-то кнопку.
— Шесть без четверти… — сказал он, чуть-чуть помедлив. — Времени тебе вполне хватит.
Можно было и удивиться. Вроде бы он не сказал о коровке вслух. А человек, понурившись, зашлепал по воде сапожищами к перевернутой лодке и уселся там на просмоленных досках, обхватив колени руками. Значит, тоже любил сидеть вот так, закрыв глаза, точно корабль среди бесконечного океана… Сидеть и, позабыв обо всем, слушать, как плещет вода о борт лодки. Это ведь совсем другое дело, и совсем не то, если ты просто на берегу… Когда вода со всех четырех сторон — совершенно иначе, и не важно, что до берега по колено… Малыш тоже направился за незнакомцем. Не дойдя двух шагов до лодки, изготовился прыгнуть, но не допрыгнул бы, это ясно, и если бы тот вовремя не подхватил, набрал бы все-таки в боты. Они уселись рядом.
— Вы геолог? — спросил малыш, с интересом вблизи рассматривая лицо бородатого.
— Геолог… — кивнул задумчиво человек, — это тот, кто изучает Землю…
Он правильно догадался, кем должен быть новый знакомый! В прошлом году уже видел геологов, их палатка стояла на берегу, где в озеро впадает ручей.
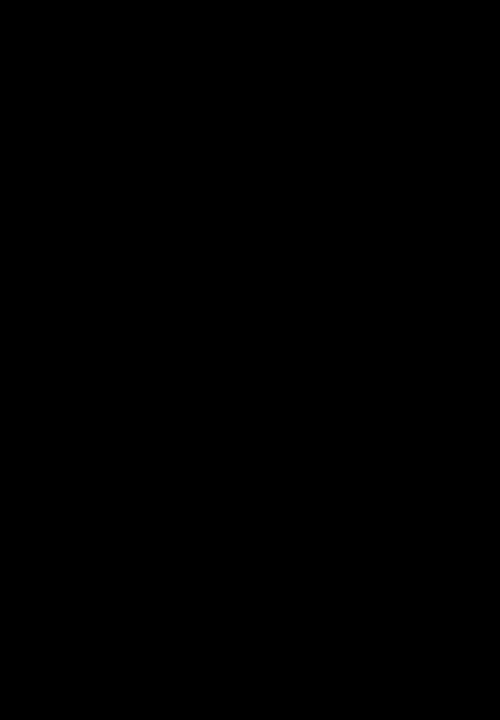 |
Вечерами варили уху, и далеко было слышно, как играют у костра на гитаре. Днем с лодок набирали бутылками воду, меряли глубину… А теперь вот и с аквалангами озеро изучают.
— И срочная, наверно, работа? — посочувствовал малыш.
— Да нет, мы не на работе! В отпуске, — засмеялся геолог. — Путешествуем просто так… Щук стреляем…
— И тот, второй… тоже? — огорчился малыш. — Которого вы ждете? — кивнул он разочарованно на часы и вдруг понял, что это нечто совсем другое… Три концентрические окружности светились одна в другой, как круги на мишени. На каждой пульсировала яркая красная точка. Все три круга имели деления, как на часах, но значки, которыми был исписан весь циферблат, малыш видел впервые.
— Это… не совсем часы, — признал человек. — По ним узнают много чего другого.
— И что же? Это секрет?
— К примеру… абсолютное время Земли, ее расположение — где мы с тобой находимся относительно… некоего условно принятого центра Вселенной… — бородатый умолк, глядя вдаль. Там, на самой середине озера, появилась голова человека. И вот уже, одетый в синее, всего лишь по пояс в воде, человек устремился к ним, да так быстро, точно кто-то подтягивал его на буксире.
Хотелось спросить — как же он дышит? Ни баллонов за спиной, ни трубки, ни маски… И глядя на темную, неспокойную рябь воды, малыш подумал, что костюм у этого водолаза, плотно облегающий тело, точь-в-точь такого же цвета, как эта вода, и как тучи, которые в ней отражались… А тот, лысый, высокий, стоял уже на мелководье и стряхивал с себя воду. Капли, раза в три крупнее обычных, как-то слишком уж быстро стекали со странной ткани. И подводное ружье, которое он держал в руках, похоже было скорей на телевизионную антенну… Вытянутая, как яйцо, голова оказалась не лысой, а гладко выбритой, и когда человек, склонив ее, быстро прошел мимо, он с бородатым обменялся только выразительными взглядами, вслух не было сказало ни слова…
Малыш и учительница тоже умели так разговаривать при посторонних. Казалось — просто смотрят в глаза друг другу, но так могли думать только бабушка или мама, которые ничего не знали… А им с учительницей было ясно, потому что думали они об одном и том же, и знали, что каждый об этом думает, и в этот миг… словно бы разговаривали… О том, что было их тайной.
У двух незнакомцев тоже была какая-то своя тайна… И от этого стало грустно. Он не знал, почему… Только было чего-то ужасно жалко. Точно во сне вдруг увидел солнечный вечер в удивительно красивом незнакомом месте… и был уверен, что больше никогда здесь не побывает… С горечью вспомнил он об учительнице, о том, что она похожа на Золушку, а мама почему-то ее не любит. Думал о бабушке, которая ходит уже с трудом на отекших ногах, тяжело дыша из-за своей полноты, да еще обожгла чугуном руку, и рана не заживает, каких только мазей из города не привозили… Думал про слабого совсем деда, про его больной помутневший глаз, который почти перестал видеть…
Бородатый рядом вздохнул — тяжело, грустно, и устремив виноватый взгляд на далекий берег, словно бы не хотел, чтобы глаза его кто-то видел.
За спиной раздались шаги. Бородатый не оборачиваясь прощально положил свою руку на плечо малыша.
— Я мешаю вам? — понял тот. — Мне уйти?
— Это нам приходится торопиться. До ночи хотим… поплавать в соседнем озере…
«Поплавать! — обиженно подумал малыш. — Не хотите, не говорите!.. Ясно, секрет… если нельзя отложить до лета…» И он представил, какая теплая будет вода опять следующим летом, и вдруг совершенно отчетливо — так бывало только с учительницей — уловил мысль бородатого: «Как знать, что с этими озерами будет через год! Не угадаешь, что с ними станется и завтра!»
«А что же может случиться?» — подумал было малыш и увидел перед глазами картинку. Словно смотрел с самолета на мертвый мир, в котором не было красок — только черный и серый цвет. Мутное небо без солнца, темные провалы озер; на изрытой трещинами земле — умерший лес, почерневшие, голые, сваленные друг на друга деревья… Обугленные стволы сосен…
Сзади зашлепали по воде. Малыш оглянулся на странного водолаза, одетого теперь в черный стеганый ватник и знакомые рыбацкие сапоги.
— А что вы делали там, на дне?
В голове закружилось. Лицо приближавшегося человека непрестанно менялось, что-то мелькало в глазах с невероятной скоростью, весь облик вибрировал, расплывался, нельзя было удержать его в восприятии.
Бородатый быстро поднялся, заслонив собой малыша.
— Завтра обо всем побеседуем.
— Сегодня, — тихо ответил тот, кто сзади. Голос был удивительно вкрадчивый и мелодичный, но такой убедительный и спокойный, точно звучал в душе малыша.
Бородатый ответил растерянно и с удивлением… И спорили они о чем-то важном, о чьей-то цивилизации, которая обречена, которая так и останется вне контакта, и тогда целая популяция окажется в одиночестве… И еще о ком-то, на кого они могут рассчитывать хотя бы в будущем, у кого достаточная широта мышления и хороший… прогноз… И если бы эти качества сохраняли взрослые…
Малыш запомнил, как тот, в черном стеганом ватнике, смотрел на них с берега кротким взглядом, и глаза его были ласковыми, но при встрече с ними вставал в памяти черный омут, только с виду спокойный, и быстрая воронка воды только казалась неподвижной… Бородатый взял малыша под мышки и, держа перед собой на весу, осторожно засеменил по воде огромными сапогами.
Когда вышли на берег, дождь, как на зло, усилился. Воду затягивало сеткой ряби. Даже рыбак-полковник, сидевший на дальнем берегу, отложил удочку и закутался в плащ-палатку. Но трое на дождь совсем не обращали внимания, не прерывали начатого разговора… Они стояли под старой ольхой, еще зеленой, как летом, — две взрослые, сгорбившиеся фигуры и детская, совсем маленькая, посередине. И дерево — прямой, почерневший ствол, к которому прислонялись они по очереди, то жестикулируя, то склоняясь над малышом, — было единственным свидетелем этого разговора… И если бы кто-нибудь решил подслушать, он все равно не разобрал бы ни слова. Но вокруг не было ни души. Только дождь, шурша, сыпал по листьям. Они хорошо понимали друг друга… И если бы старик рыболов, у которого снова стало клевать, решил понаблюдать за ними, он ждал бы долго, и ему показалось бы, что время тянется очень медленно… Даже солнце успело выглянуть из-за тучи и теперь садилось на верхушки сосен, над мостками старого рыбака.
Наконец разговор был кончен. Все трое медленно пошли к поляне. Вдруг мальчик остановился, схватил за рукав бородатого и что-то горячо зашептал, показывая рукой на дорогу к хутору.
Человек колебался, и тогда малыш взял за руку и второго и силою потащил за собой двух странных людей… Он вел их по орешниковой аллее, по шуршащим листьям, где лишь недавно брели они с учительницей. Он видел перед глазами черемуху в паутине и быстро шептал на ходу:
— Помогите… Помогите дереву! Потом будет поздно!
Дерево их удивило. Бородатый даже присвистнул:
— Как это мы могли не заметить?
— Хуже, чем думали, — согласился второй.
И опять они говорили о чем-то мало понятном: о распаде экосистемы, о нарушении биологического равновесия… о неизбежности и расплате… Но малыш желал, чтобы ему объяснили, и потянул бородатого за рукав.
— Есть тут еще больные деревья? — спросил тот хмуро, и малышу пришлось рассказать, что все черемухи у хутора и вдоль речки стояли в этот год в паутине, но сильно, вот так, пострадало лишь это, стоящее отдельно дерево.
— Все правильно, все типично… — кивал бородач. — Смена экологической ниши и отсутствие хищника — вторичного потребителя… Эти гусеницы, редкий вид шелкопряда, попали сюда случайно и вместо тутовых, привычных для них деревьев, начали объедать черемуху. И главное, беда в том, что тут не нашлось врагов, того вида птиц, кому они служат пищей.
— Куда же девались птицы?
— Исчезли… Вы их, может быть, и уничтожили… Распылили удобрения с самолета… И от этого гибнут птицы.
— А что теперь делать с гусеницами?
— Ничего! — невесело сказал бородатый и оторвал от ствола пласт белой пленки с телами высохших мертвых гусениц. — Видишь? Природа регулирует жизнь сама… Съели все и подохли сами, свою собственную популяцию обрекли на погибель! И это универсальный закон…
— А дерево оживет?
— Ну, как же ему ожить? — человек грустно покачал головой, словно не договаривая что-то очень важное.
«Это универсальный закон!» — стояли в ушах жестоко сказанные слова…
Бородатый молча обрывал оболочку, похожую на тончайший шелк, она разрывалась с противным звуком, как старая-старая истлевшая тряпка. Выше обнажался темневший ствол.
— Хотя… Соки еще движения не прекратили.
— Так помогите ему! — воскликнул малыш. — Вы же можете!
— А что толку? И есть ли смысл спасать одно дерево, если здесь такова… участь всей природы?
— Если и ей… — вкрадчиво сказал второй, — не помочь тоже…
— Ну так… сделайте! — попросил ребенок. — Пожалуйста!.. — Он вовсе не осознал сказанного в конце, просто вспомнил учительницу, насмешку матери… Ее горькую правду… А теперь знал — эти люди сумеют, должны помочь. Только надо их убедить, чтобы поняли, захотели! Он с надеждой смотрел в глаза бородатому, которые тот прятал, отводил в сторону. Но малыш готов был броситься ему на шею, если нужно, вцепиться в его рукав, не отпускать… пока не поймет, не захочет сделать!
— Мы поможем дереву! — сказал второй мягко и убедительно, и малыш сразу же успокоился и поверил, ловя себя снова на том, что не может толком разглядеть бесстрастное лицо говорившего. Оно только казалось невозмутимым! На нем сменялось множество выражений, и те мелькали с непостижимой скоростью, едва доступной глазу. Точно думал незнакомец о тысяче вещей сразу, и мысли эти отражались на лице…
И опять бородатый взглянул на товарища с удивлением. И вновь подслушал малыш их мысли. Крепко засело в памяти, как спорили они о чем-то важном — о каком-то жизненном поле и особой силе… О какой-то могучей энергии, способной ускорить время и вылечить дерево за три дня… Три раза за озеро сядет солнце, а для черемухи пройдет срок, как бы равный году, и заложатся на зиму новые почки… — если поле будет активным все эти три дня. Только понял малыш, что этих двоих завтра ночью уже здесь не будет… И некому станет поддерживать поле, затухнет оно без них… Так нужно ли оживлять дерево всего-то на день, начинать, чтоб сразу кончить? Потому и спорил бородатый, доказывал никчемность их стараний: некому ведь дело завершить, а поручить кому-нибудь случайному опасно — ну, как силу новую употребит во зло, корысти ради… И запомнил малыш, как сказал мягким и чистым голосом загадочный человек:
— Дай бог!.. — и через шапку и капюшон он почувствовал странное прикосновение его руки.
— Ты понял… все? — спросил бородатый, и малыш кивнул. Эти двое были все-таки молодцы!
Второй отнял руку и посмотрел на дерево.
— Завтра приди пораньше, — разрешил он. — А за ночь ничего интересного не случится.
— А сейчас беги! Тебя уже заждалась бабушка.
На следующий день была пятница. Нужно было пораньше сходить с дедом по грибы, до того, как вытопчут лес наезжающие из города грибники. Пока дед, кряхтя, собирался на печке, малыш что есть духу помчался к озеру.
У воды еще не рассеялся туман. Небо едва светлело. Зябкая, пробиравшая до костей сырость висела в воздухе. Рыбак-полковник уже сидел на том берегу.
Черемуха стояла по-прежнему в паутине, но на ветках набухли готовые распуститься почки…
Когда воротились из лесу, учительница уже ушла с дневным молоком. Малыш помчался вдогонку… и замер, добежав до черемухи. Листва зеленела: острые свернутые листочки тянулись вверх, маленькие кисти бутонов свешивались с веток.
«Вот-вот лопнут! Вот-вот зацветет!» — обрадовался он и сразу же заспешил к поляне, сам не зная, что его туда потянуло…
Над соснами поднимался дымок. У костра сидели три человека. Третьей была учительница. Дым задувало в ее сторону…
— Нет-нет, — возражала она кому-то, отворачиваясь от огня, — Вы действовали неосторожно. Природа здесь странная — редкостные растения и даже женьшень! Удивительно, что никто этого не заметил…
— А чего было, собственно, опасаться? Когда мы вернулись сюда в конце последнего оледенения, нам не нужно было заметать следы… Да и теперь… Не забывайте, что здесь имение. Паны сажали все, что угодно…
— В этом вам действительно повезло, — согласилась она, — но озеро…
— Метеоритного происхождения, — кивнул бородатый. — Ну и что? Что в этом странного? Мало ли таких в округе… А маяк вы пока еще…
— Не могли заметить? Но все же вы решили не рисковать…
— Совершенно верно. Нейтрино вы уже изучаете… — он заметил подошедшего малыша и повернулся к нему.
Мальчишка невольно покраснел, потому что все разом на него посмотрели, оторвав глаза от костра.
— Она зацветает… — прошептал он тихо, чувствуя, что помешал.
— Зацветает!.. — повторила учительница и, подвинувшись, усадила мальчика на бревне. — Спасибо вам за черемуху…
— Мы с ним вчера познакомились, — улыбнулся ободряюще бородатый, — когда на маяк наткнулись. С трудом, кстати, вытащили, столько наросло ила.
— Значит, он такой огромный? Значит, озеро — это воронка?.. Понятно… И как вы его вытащили один?
— То, что мы сделали с деревом, куда сложнее. А маяк пока еще лежит на дне, просто ближе к отмели его подтащили. Ночью… отправим его подальше.
— Зачем? — с грустным предчувствием спросил малыш.
Бородатый, улыбаясь, пожал плечами.
— Техника всегда стареет… Сам он давно не нужен. Мы его нашли случайно. Лежал бы, и не было б большой беды… Но раз уж на глаза попался, надо убрать. Это, как вы, допустим, пришли бы сюда когда-нибудь в последний раз и увидели — валяется на траве ржавая консервная банка, которую сами бросили… Захочется же вам, на прощание, очистить место?..
«Почему на прощание? — не поверил малыш. — Почему же в последний раз?»
— Потому что вы сами этого хотите… — неожиданно сказал бородатый и стал смотреть на огонь. Тот вспыхивал синеватыми языками, точно в костер набросали негодных электрических батареек. Пламя, совсем прозрачное на свету, колыхалось щупальцами медузы.
Малыш вдруг понял, что в костер они ничего не подкладывают. Не было, как и вчера, ни топора, ни запаса дров. У палатки стоял знакомый голубой бидончик, только сегодня он не был прикрыт наброшенным полотенцем… И учительница сидела среди них как своя, близко склонившись к огню в мокром дождевике, так что в складках его отражалось пламя. Выгоревшие за лето волосы выбились из-под капюшона, и глаза ее, устремленные на огонь, были грустными…
— Надо же! — улыбнулась учительница, словно что-то вспомнила про себя. — Так в детстве хотелось, чтобы кто-нибудь прилетел! Казалось, дождешься… и можно умирать спокойно!.. — она вздохнула и замолчала, не отрывая глаз от огня, и два странных человека тоже молчали.
Мальчику стало жалко учительницу. И отчего-то тех, двоих, — тоже… Ведь вот же прилетели, а спокойно не стало, и радости тоже не было… Что-то висело над ними всеми — тяжкое и точно от них не зависящее, чего мальчик понять не мог… Он взглянула на учительницу и понял, что она мучительно раздумывает о чем-то, колеблется — хочет сказать и сердится на себя за нерешительность. Наконец губы ее шевельнулись, она умоляюще посмотрела на бородатого:
— И все-таки объясните мне сейчас… как ребенку… Чтобы без домыслов и догадок, а знать от вас — почему вы отказываетесь от контакта?
— От контакта? С кем? — подчеркнул бородатый, будто давно ждал этого вопроса.
— С людьми, с нами…
— А с кем, по-вашему, мы разговариваем сейчас?.. Наверное, речь все-таки идет о другом? — он вопросительно смотрел на учительницу.
Учительница покраснела, как школьница, не решаясь ответить.
— Ну так, чтобы про вас говорили по радио… или писали в газетах! — подсказал малыш. Как же они этого не понимают?
— Вот именно! Речь идет не просто о встрече с людьми… С ними такая встреча уже есть — сейчас, здесь. Контакты же устанавливаются не с отдельными личностями и даже не со странами и правительствами. Контакты устанавливаются с человечествами. А вы пока еще не стали человечеством в истинном смысле слова.
— Но это ведь только мы! — прижала она руку к груди и с горечью повторила: — Мы! Только здесь — на шестой части Земли… Вам ли не знать, что есть остальной мир, живущий совсем иначе?
— Вот вы-то его и задерживаете, — сказал бородатый. — Вы его тормозите… Лишь когда вы перестанете быть этой самой одной шестой частью, берущейся всегда отдельно от целого мира, тогда, быть может… А пока что вы еще не стали… человечеством на все сто процентов. Контакт только повредит…
— Это значит, — впервые заговорил второй, — что не каждый из заявленных вами самими ста процентов стал настоящей личностью. Не каждый располагает условиями и свободой, чтобы сделаться такой личностью, способной представлять человечество через самого себя.
Эх, не о том они говорили!.. Малыш посмотрел на учительницу. Ну почему же она не объяснит, не скажет, что их разговор с ним… или даже с нею, хоть она и учительница, совсем ничего не значит! Ни мама, ни бабушка не поверят! И совсем другое дело, если пришельцев покажут по телевизору!
— Так вы по-прежнему желаете повторить свой вопрос?
Учительница не ответила бородатому, только горько про себя усмехнулась, точно этим все было сказано.
— Не желаете, — кивнул бородатый. — Ведь надо… — продолжал он медленно, выделяя ударением каждое слово, — чтобы каждый, каждый из вас для себя на этот вопрос ответил — признал и задумался над этой правдой. И пока человек не почувствует, что надо задуматься — обо всем этом и еще об очень многом, что огромным вопросом стоит сейчас перед человечеством, — он не слишком будет отличаться от гусеницы или муравья. Вы пользуетесь техникой, добывая пищу и блага, и несмотря на это, существование большинства не выплескивается за пределы муравьиного русла. Пусть даже и гусеница страдает, имеет душу… Но ведь и тогда вы не поставите себя на одну с ней доску, ибо человеку дано больше, чем гусенице и муравью! И воистину, его муравейник — это вся планета! От него зависит теперь судьба всех других, существующих на ней маленьких муравейников!
— Нет, над этим как раз задумываются, — не хотела соглашаться учительница. — Даже здесь…
— Единицы! И те, кто задумываются, понимают, что человечество только стоит на распутье — дошло до критической точки своего развития и еще не сделало выбор: измениться или исчезнуть. Исчезнуть, если не совершить перемен… Пока на одной шестой планеты… дело обстоит вот так, миру грозит опасность навсегда вернуться назад… и оттуда себя вечно догонять!.. Но тогда лишь произойдут перемены, когда сами люди, все мужчины и женщины, живущие на Земле, отвлекутся от суеты, от неглавного в своей жизни, состоящего из мелочей, и взглянут на себя со стороны как на человечество, которому угрожает гибель. А когда еще это может произойти?..
Нет, малыш не хотел, чтобы бородатый закончил вот так, ни на чем, на полуслове, лишь грустно покачав головой…
— Это когда много-много революций победит во всех странах?! — пришел он ему на помощь и посмотрел на учительницу.
Бородатый тоже внимательно взглянул на нее:
— Есть только две революции, которые должны совершиться — первая в человеке, вторая в человечестве. Одни социальные перемены не в силах помочь, нельзя надеяться на революции… Судьба человечества — вот что поставлено сейчас на карту. Человечества как вида… живого, совершенствующегося или вырождающегося. Измениться должен сам человек, его сущность, его душа, и развиться в нем должны лучшие человеческие качества и способности, пусть неведомые вам сегодня, но слагающиеся в единое и всеобъемлющее понятие — духовность. Вот тогда он сумеет вылечить свою слишком однобокую цивилизацию, ориентированную пока совсем на другое, на то, что вы так косноязычно называете материальными ценностями… Спасти культуру, которая вот-вот собьется с пути…
— Вы сгущаете краски, — улыбнулась учительница, и малыш вслед за нею взглянул на лес, на траву — зеленую, словно вернулось лето.
— Краски сгущать ни к чему. Даже здесь, вокруг нас, человеком нарушено биологическое равновесие. Возьмите дерево: уничтожили птиц — размножились гусеницы… И это лишь следствие глобальной болезни, которую возбудил человек в природе, став лидером земной эволюции. Он регулирует эволюцию жизни, истребляя целые виды, но сам рискует привести к гибели свой собственный вид — не выживет в том страшном вакууме, в котором окажется, когда исчезнет природа.
— Если не поймет главного, — добавил второй.
— Главного? — переспросила учительница. Но человек в ватнике вновь замолчал.
— Именно, — подтвердил бородатый. — Того, что, став силой, направляющей эволюцию, человек, увы, не поднялся еще по своим качествам до этой роли…
— Не имеет права решать?
— Не умеет, а потому не имеет права; не стал еще тем, кто всегда решит хорошо.
И как-то горько, совсем по-новому усмехнулась учительница. Малыш догадался, что вспомнилась ей давняя уже история… Спор с председателем. Обработали все-таки поле дустом, жук на картошке сдох, урожай был… но птицы! Черемуха!.. Мог ли тогда председатель решить иначе? Разве что-нибудь зависело от него?
— Все и всегда зависит от человека.
«Ах, если бы…» — вздохнула про себя учительница.
«Главное — от какого, — не соглашался малыш. — От какого человека зависит!» Разве она забыла, что этим летом зерно не созрело вовремя, но везде, чтоб как положено рапортовать о сроках, косили жито зеленым… И только в соседнем колхозе… Дед же ей сам рассказывал — выставил председатель для всех комиссий работающий комбайн, у самой дороги… Неделю стоял, не глуша мотора, на начатой полосе…
«И в том колхозе скосили только одну полоску неспелой ржи…» — учительница уже не чувствовала себя школьницей и смотрела на двух взрослых людей с сочувствием, как на первых учеников, изучивших весь список литературы, но не знающих по данной теме дальше выученного урока… Потому что нет в списке самого главного… Она слушала теперь бородатого и, кивая, терпеливо соглашалась: да, срочно нужна переоценка ценностей… И судьба всего человечества в самом деле зависит от качеств составляющих его существ, это так… И смогут ли измениться к лучшему эти средние качества миллиардов людей — разумеется, это очень важно… И сможет ли каждый из них стать лучше — это, действительно, большой вопрос. И надо, надо, чтобы они этого захотели, иначе человечество просто не доживет до того момента, когда с ним положено устанавливать контакты… Все, безусловно, так. И констатировать легко. Особенно со стороны… Только ведь, того главного, скрытой внутри смертоносной опухоли, со стороны не видно…
Бородатый увидел, как улыбается учительница, и замолчал. И снова висело над ними что-то незримое и давящее — так гнетет людей не зависящее от них несчастье, и тогда бывает им всего тяжелей.
Малыш многого не понимал, но почувствовал вдруг, как изменилось настроение учительницы. Она не смотрела теперь на траву, не смотрела на лес, который по-прежнему молчал неподалеку. Хоть вечер был тих и потеплело, она склонялась к огню, точно ей было холодно.
Бородатый тоже глядел на нее, задумавшись, а потом улыбнулся чему-то вдруг и, подняв столб оранжевых искр, помешал в углях своей костровой палкой.
Головешки вспыхнули, жаром полыхнуло и загудело пламя. Учительница не отпрянула от огня и тоже чему-то про себя улыбнулась, совсем как раньше. Глаза ее не отрывались от костра, и огненные языки плясали в складках плаща, и лицо у нее было такое же, как тогда, вначале, словно ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь прилетел.
«Чтобы каждый… — повторяла она про себя, снова сделавшись учительницей, — каждый человек на земле, каждый мужчина и каждая женщина захотели… стать лучше…»
На глазах сумраком окутывало поляну. За мостками старого рыбака, за кромкой прибрежных сосен исчезала в тучах алая полоса — это за озеро садилось солнце. В первый, предсказанный раз…
В субботу утром должен был приехать отец — помочь с дровами. В хате было накурено, две бутылки — одна без наклейки, а другая, из магазина, выпитая наполовину, — стояли на столе среди грязной посуды. Бабушка, неловко управляясь у печки одной рукой, сказала, что батька, позавтракав, пошел по грибы.
У озера, согнувшись и приглядываясь к чему-то на берегу, стоял дед. Траву и песок у воды устилали глубинные красноватые водоросли, как бывает всегда, если тянут сетку. Но такого не видывал даже дед — точно ночью тащили по всему озеру одни огромные сети.
— Во… мать их душу… браконьеры! Чтоб им пусто было! — шептал он, тыкая палкой в водоросли, и щурил больные глаза. Да только не видел ни внука рядом, ни чудака на другом берегу, ни призрачных браконьеров…
Дерево стояло в белом, будто за ночь затянуло паутиной крону, но запах был тот, который ни с чем не спутаешь, — черемуха цвела.
В тот день учительница не пришла за молоком: уехала в город на выходные… Малыш один брел по аллее. Черемуха невероятно быстро отцвела, и листья успели поблекнуть и пожелтеть, и теперь она не отличалась от других деревьев.
Укромная поляна опустела — ни костра, ни палатки. Он сразу спустился к озеру. И здесь бурые плети водорослей покрывали весь берег, их чуть покачивало волной. Лес за спиной молчал, только откуда-то издалека раздавался стук топора.
Малыш устроился на перевернутой лодке и долго сидел просто так, зная, что никто не придет, и что сделал правильно, никому ничего не сказав. Отец все равно б не поверил и дерево б смотреть не стал, ясная отговорка — дров на зиму успеть бы запасти… Топор застучал где-то совсем близко.
Двумя отчаянными прыжками малыш перемахнул на берег. Издали узнал синюю куртку отца.
— Не руби! — закричал что есть силы. Топор продолжал стучать.
— Подожди, это же то самое дерево! Отец выпрямился с топором в руках.
— Ну чего? Чего жалеешь, дурак? Ведь — сухое.
— Сядь!
Отец, закуривая, присел рядом. Глаза мальчика засветились.
— Это дерево только кажется, что сухое. Ученые его оживили. Утром оно цвело, и листья уже осыпались… Ягоды тоже были…
— Ну, хватит! — грубо прервал отец, туша папиросу. — Наслухался всяких сказок. Чтобы ягоды тебе на сухом полене выросли, далеко до этого тем ученым!
— Конечно, про них ты можешь не поверить, — надеялся еще на что-то малыш. — Они улетели и, может быть, не вернутся на Землю… Но не руби его… просто так, ну я очень тебя прошу…
— Во-о-о! — грубо захохотал отец. — Не слашал, чтобы из космоса-то прилетали… Может, царь небесный с неба пожаловал? Бабку-то, дуру, слухай, она научит… — Он взял топор в правую руку и, примериваясь к дереву, замахнулся. Топор вонзился с глухим звуком, отлетела щепка… Малыш бросился к дереву.
— Стой, щенок! На хутор беги. Бабе скажешь, чтоб шла сюда с дедом.
— Не пойду! — Малыш прижался к черемухе, обхватил обеими руками ствол. Другого способа остановить отца он не видел.
— Зови, чтобы помогать шли! Или твои ученые дров старикам нарубят?
Малыш сомкнул руки в кольцо.
— Прочь! — гаркнул отец со злобой, и все случилось в одно мгновение. Алым окрасило руку и ствол дерева.
Малыш оглох на миг и не почувствовал боли. Только видел, как кровь впитывается в желтую древесину, а отцу показалось, что прошла вечность, пока сообразил вытащить, наконец, вонзенный топор.
«Что же… Что же он сделал? Руку отрубил или палец? — дико стучало в висках, кровь прилила к лицу. — Как же он так мог?»
В страшном испуге, даже не чувствуя еще толком боли, мальчик зажимал рану здоровой ладонью; удар пришелся между указательным и большим пальцем.
Издали кисть показалась отцу целой, и тут его залила бешеная, лютая злоба.
«Как он смел ослушаться, этот щенок?!» — захотелось наброситься и избить, чтобы знал, чтоб понял… но словно что-то его держало, он не мог пошевелиться.
А малыш смотрел на изуродованный ствол дерева, будто ждал: вот сейчас этот свежий рубец затянется, зарастет… Ведь срок еще не прошел, солнце еще не село в последний раз, и действует же поле, которое питает, оживляет дерево!.. Он не чувствовал по-прежнему никакой боли, только теплая кровь намочила рукав и капала на сапоги. Но и кровь, наконец, остановилась. Он крепче сжал края раны, и те сошлись, на глазах затянулись нежным беловатым рубчиком, точно кто-то невидимо склеил их…
Желто-алая полоса на стволе сужалась, сглаживалась. Темные края коры сблизились и, наконец, сомкнулись.
«Просто здорово! — удивился малыш и тотчас же вспомнил бабушку. — Вот бы и ее ожог…»
Отец слабо пошевелил губами и открыл рот, словно собрался судорожно глотнуть воздух, как рыба, которую только что сняли с крючка. Вместо этого из груди вырвался хриплый, неразборчивый крик… Он выронил из рук топор; два раза поскользнувшись на листьях, взобрался вверх на дорогу и побежал прочь.
Мальчик долго, с трудом плелся следом — нес тяжелый топор. За озером собирались плотные холодные тучи, в их сугробы зловеще садилось красное солнце. Изо рта шел пар. Рыбак-полковник все сидел на мостках.
Продрогший на ледяном ветру, малыш добрался до хутора по темноте. В хате висел тяжелый самогонный дух. Чугунок с остывшей картошкой и остатки рыбных консервов в банке еще стояли на столе, а рядом — большая бабушкина бутылка, заткнутая тряпочкой вместо пробки и наполовину пустая. Слышно было, как за стенкой храпит отец.
Поев, мальчик долго не мог заснуть и видел из своего закутка на печке уже чисто прибранный стол и бабушку, сматывающую бинты. Она подносила к коптящему язычку керосинки свою разбинтованную руку и долго рассматривала ее, покачивая недоверчиво головой.
Малыш проснулся от шепота стариков и понял, что это уже воскресенье. Бабушка в новой косынке и своей праздничной кофте собиралась в церковь. Отец уехал в город первым же автобусом, а из деревни явился дядька, старший бабушкин сын — тоже помочь по хозяйству. Вкусно пахло драниками и солеными огурцами. Бутылка, заткнутая тряпочкой, была пуста.
Погода переменилась. Небо затянули низкие облака. До самого обеда шел дождь. Малыш не выходил из хаты. Когда он увидел в окне деда с коровкой, вспомнил учительницу, и так захотелось, чтобы сегодня она поскорей вернулась. Он потеплей оделся и пошел навстречу. Сбежав с крыльца, чуть было не наступил на дядьку — тот спал мертвецким сном под козлами на земле… Малыш знал: его теперь не разбудишь… Уже не удивлялся этому и только не мог понять бабушку, которая всегда со слезами горько качает головой, глядя на спящего на земле сына, и каждый раз по его приезде ставит на стол заткнутую тряпочкой бутылку…
Что-то тяжелое нашло на мальчика, как там, у костра, когда висело это над учительницей и над пришельцами и не было радости, что они прилетели…
Он обошел дядьку и козлы с не распиленным до конца бревном. Только сейчас разглядел он это бревно с налипшею паутиной… А там, у кучи наколотых дров, разветвляясь двумя короткими обрубками, как обломанная рогатка, валялся ствол черемухи…
Еще никогда не испытывал он такой, невыразимой боли — горькой, нескончаемой, вдруг подступившей к горлу… боли — от ощущения бессмысленности всего на свете!
Стало безразличным все, хотелось только дойти до леса и проплакать там в самой чаще до темноты, чтобы никто не видел… Разве можно помочь, исправить?.. Но он остановился и внезапно повернул назад, туда, к озеру, мимо дядьки, мимо козел… только туда, к черемухе, пусть будет еще больнее, еще хуже…
Он брел не разбирая дороги и видел перед глазами пень… эту страшную живую пустоту, этот свежий сруб, засыпанную желтыми щепками траву…
Издали заметив черемуху на прежнем месте, сперва подумал, что дядька срубил не то дерево… Но подошел ближе — и понял…
Это была совсем другая черемуха! Крепкая, стройная, молодая! Как юный гигантский росток, поднималась она выше других деревьев. От места недавнего сруба поблескивала гладкой светло-коричневой кожицей молодая кора. Ниже сруба кора была темная и застарелая.
Дерево еще росло: вытягивались, распрямлялись ветки, на глазах набухали почки. Словно засняли когда-то на пленку и гнали сейчас на волшебном аппарате… Миг — и зеленью облило крону, раскрылись листья. Снежным салютом рассыпались лопнувшие бутоны — и стала черемуха душистым сугробом!
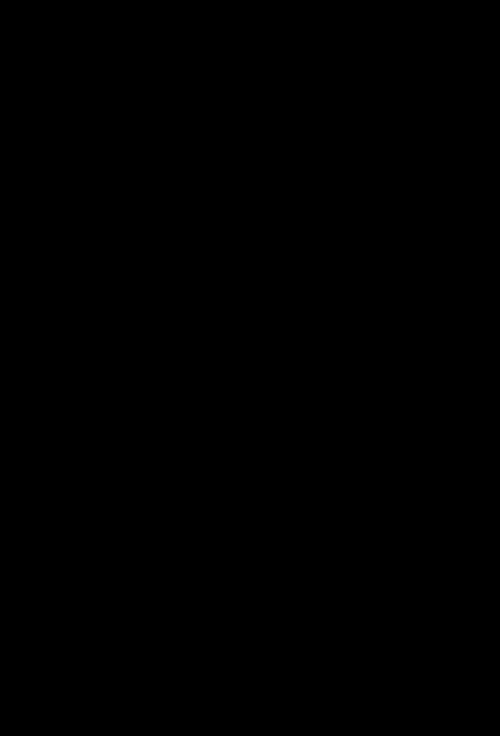 |
Малыш не знал, не помнил, сколько прошло времени. Только резкая боль в животе, появлявшаяся всегда на голодный желудок, напомнила ему посмотреть на небо. К западу оно прояснилось. Берег до самой воды засыпала метель лепестков. Красным шаром над озером низко висело солнце — вечернее, чуть сплюснутое сверху и снизу.
Дерево стояло с прижатыми к упругим веткам тугими почками — сильное и молодое, готовое к зиме.
Дядька еще лежал на земле, и бабушка с заплаканными глазами, только вернувшаяся из костела, горько склонив голову набок, стояла над сыном и прижимала к груди концы праздничной, съехавшей на лоб косынки… Губы ее шевелились беззвучно, и малыш знал наизусть, что шепчет она в эту минуту. Только это не помогало!
Он подошел, прижался к ее руке. Рука была влажной и соленой от слез… а раны не было — лишь бледно-розовый, еле заметный рубчик, как на его ладони.
— Прошло, слава богу, внучек… С божьей помощью загаилось, — кивнула бабушка. — Мазь, наверное, помогла…
И тогда он вспомнил загадочного человека в ватнике и свою жалеющую мысль о бабушке, о ее ране, мелькнувшую там, у дерева, когда зажила ладонь… Разговор между незнакомцами о биополе, о трех заветных днях и еще о чем-то таинственном — недосказанном и сохраняющем надежду… И как неожиданно тот, многоликий, с чистым голосом, погладил его по голове…
Дядька перевернулся на другой бок и громко запел во сне хриплым срывающимся басом… Бабушка снова принялась его уговаривать и поднимать, но он ее по-прежнему не понимал…
Малыш отвернулся. Солнце, как огромная, налитая кровью капля, тяжело опускалось над лесом. Казалось, оно тоже вот-вот лопнет от боли. Оно садилось! В третий, в последний раз, о котором говорили странствующие волшебники!
Он бежал по орешниковой аллее, он спешил и шептал про себя, задыхаясь, словами бабушкиной молитвы, потому что не знал еще собственных, нужных для этого слов:
«Помоги… Помоги нам всем, больным, страждущим, не умеющим понимать друг друга, не желающим становиться лучше — измени всех нас! Сделай же… Сделай так, чтобы мы… стали другими! Чтобы все всё понимали… Чтобы хотели понять!»
Он спешил повторить это все там, у дерева, пока за озером, над мостками старого рыбака, в последний раз не зашло солнце; и черемуха, отражая гладким стволом красноватый свет, стояла в его лучах, как большой молодой росток, готовый к самой суровой зиме.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |