"Приключения капитана Робино" - читать интересную книгу автора (Маркуша Анатолий Маркович)
Глава вторая
АВТОР: Первое, что я должен сказать — Америка оказалась вполне приличной страной. Может быть по незнанию языка никакого особенного звериного оскала капитализма я там не заметил. Люди, невзирая на военное время, улыбались друг другу, и каждый был готов помочь иностранцу, когда тот попадал в затруднительное положение. Первое время без языка мне приходилось, конечно, туго. Хорошо хоть на базе, куда меня прикомандировали, было довольно много наших. Публика собралась, понятно, разная, большинство ходили с прижатыми ушами, озирались опасливо и не очень торопились в объятия к новенькому, хоть и соотечественнику. Правда, один мужик мне сразу приглянулся. Инженер Жгентия занимался проверкой и отстрелом бортового оружия, контролировал прицелы и, в отличие от большинства, совершенно свободно говорил по-английски. Посмеиваясь, он уверял меня, будто местные девушки просто сами падают в руки, когда слышат его английский с налетом грузинского акцент.
Когда я начал летать на «Каталинах», американские парни показывали мне все на пальцах. Никто не пытался задавать лишних вопросов, вроде того, а какой у тебя налет на «гидрах» или что-нибудь в таком духе. Наше молчаливое сотрудничество очень, я скажу, способствовало моему быстрому вживанию в чужую среду. Когда командир лодки показал мне откляченный большой палец, что на международном языке всех летающих означает — о'кэй, когда он, махнув рукой, давая понять — лети самостоятельно, полез вон из кабины, я совсем приободрился и почувствовал себя почти дома.
Чего не хватало, чтобы избавиться от этого «почти»? Пожалуй, родного матерка, прочно оккупировавшего наши аэродромы. Трудно было привыкать к милям и футам, а сама лодка мне еще дома пришлась по душе. Площадки гонять показалось сперва сложновато из-за этих самых милей и футов… Выхожу на заданный режим, стрелочки замерли на положенных местах, и вдруг в голову стукает — а я ничего не перепутал? Правильно перевел мили в километры? Но постепенно втянулся, понял, как проверяют управляемость и устойчивость, привык выполнять «дачи рулей»; досталось и на «потолок» полазать, и замеры расходов топлива проводить, словом, потихоньку-полегоньку из меня начал складываться летчик-испытатель. Верно, это дело я осваивал главным образом вприглядку, но получалось.
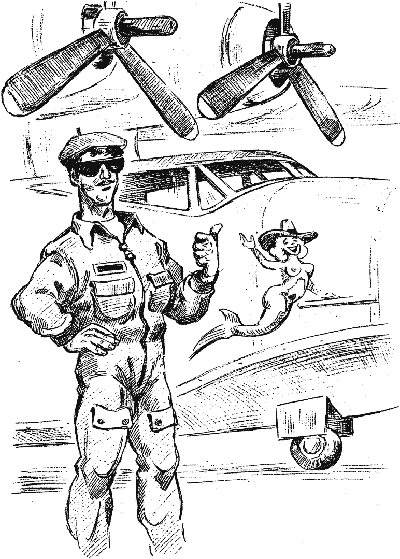 |
Так прошло месяцев шесть, я уже начал понимать и кое-что выговаривать по-английски и однажды отважился — попросил: дайте слетать на «Кобре». Этот истребитель американцы рекламировали, как лучший в мире боевой самолет. В Россию «Кобру» поставляли крупными партиями. Между прочим, на «Кобре» летал сам Александр Иванович Покрышкин.
В первом же полете, когда мне разрешили испробовать истребитель, я сразу вспомнил ту машину, на которой тикал от немцев. Без брехни должен сказать — «Кобра» мне показалась посильнее, но… совсем не на так уж много.
Через некоторое время наш надзирающий, как между собой мы называли незаметного майора, кидает мне вроде бы между прочим, на ходу:
— Почему, не предупредив, не согласовав, полез на «Кобру»? Ты ж «лодочник», как мне известно?
— Мне там, — я энергично ткнул пальцем в американское небо, — в Москве еще велено было осваивать все, что только удастся освоить, чем больше, тем лучше.
Майор поглядел на меня подозрительно, ничего не запретил, ничего не отменил, только неопределенно нукнул:
— Ну-ну!
Как уж получилось не знаю, после «Кобры» меня стали то на том, а то на другом самолете планировать. Словом, за год я и на истребителях налетался и вторым пилотом к «летающей крепости» примерился.
Летал я на всю катушку и мне это очень нравилось. Какое обо мне у американцев впечатление сложилось, понятия не имею, а вот я себя, не скрою, — зауважал. От ничтожного аэроклубного налета ведь почти самостоятельно, можно сказать, эвон куда поднялся. А было в ту пору всего-то двадцать три года. Самое бурление.
Скажу прямо, как ни здорово — летать, только одними полетами не обойтись. Живой человек. Мужик… По моим понятиям самообслуживание — занятие унизительное, чтобы по этому поводу не вякали ученые сексологи. Как у нас со Жгентией разговор вокруг этой деликатной темы закрутился, не помню, но он дал мне понять: наши надзирающие интернациональных связей не одобряют, так что, если устанавливать контакты с местными дамами, надо это делать аккуратно, и не следует прилипать к одному объекту надолго. Засекут непременно! Ну, а сами по себе американки ничем особенно от наших девиц не отличаются. Пожалуй, только моются чаще. Разговаривать с ними много не требуется. Подарки принимают не жеманясь. И под конец своей информации, улыбнувшись на все тридцать два ослепительных зуба, Жгентия предложил:
— Желаешь, дам провозной полетик? — и он стал излагать свои основополагающие взгляды на «женский вопрос». — Баб принимаю, как явлэние природы, как неизбэж-ность. Но тэрпэть не могу, хотя наощупь эти стэрвы бывают очэн приятные… Мой закон — дэлай ей хорошо, получай свое удоволствие и ничего нэ обещай, никаких разговоров про любов нэ заводи… глупости это!
Тогда все это было очень интересно слушать, немного боязно узнавать, тем более — соглашаться со Жгентией. И когда дошло до конкретики, все я сделал наоборот, совсем не так, как рекомендовал старший коллега, ходок и мастер охмуряжа. Он, как и обещал, вывел меня на цель. Девушка оказалась такая белая-белая, будто ее кожу покрыли белилами, при том она была рыжеволосая, рыжей морковки. На нижней губе, изнутри у нее была очень впечатляющая припухлость. Короче говоря, я врезался в это чудо природы по самые, как говорят, уши и вовсе не испытывал никакого желания заметать следы, менять «цель», как советовал многопытный Жгентия. Днем я обычно летал, а освободившись от работы, чуть ли не ежедневно сматывался к Молли.
Разговаривали мы мало, хотя я уже кое-чему научился и с пилотами или механиками мог объясниться не только на служебные темы. А вот с Молли жалко было терять время на болтовню. Судя по ее поведению и она придерживалась примерно такого же мнения.
Жгентия, от острого взгляда которого ничего не укрывалось, месяца через два такой жизни сказал озабочено:
— Посмотри на себя в зеркало, ты жэ нэ человэк, ты — ободранный кот. У тэбя нос больше моего носа стал! Прекрати эти пэрэгрузки, пока тэбя не прекратили здэсь.
Он как в воду смотрел. Молча, тихо меня перенацелили. Из Америки не поперли, но назначили в перегонную группу. С точки зрения познавательной это было даже любопытно — мы пролетали своим ходом от Аляски до Мурманска. Не слабо? Часовые пояса так и отскакивали за спину. Такие сверхдальние перелеты на истребителях — великолепная шлифовка мастерства, тем более что погода на трассе — капризней не выдумать.
Поверь на слово, не однажды приходилось снижаться в такой неизвестно откуда наползавшей облачности, что идешь к земле и хоть молись — ну, боженька… покажи землю-матушку… на высотомере у меня ноль, боженька… сделай, чтобы не случилось по анекдоту: нет земли, нет земли, нет земли… полный рот земли!
«Кобра» была надежной машиной, ничего не скажешь, только в те годы оборудования для слепой посадки еще не существовало. И приходилось продираться сквозь глухую белую муть, когда и горючее уже на исходе, в буквальном смысле на честном слове…
Приказали, и я исправно гонял «Кобры», мне не хватало Молли, но больше всего думал в ту пору: когда же это все кончится? Не может война тянуться вечно. Думал и переживал, пока не завалился на вынужденную, не долетев до Тикси километров сорок. Учитывая, что я — не Джек Лондон, прошу прощения, и рассказывать, как тащился эти окаянные километры, как сам себя готов был похоронить, не стану. В итоге я сильно обморозился тогда, но выжил, хотя на какое-то время маленько, по-моему, трехнулся. Еще отлеживаясь в госпитале, случалось, мучался какими-то дикими бессвязными видениями, мне слышались голоса, чудилось, будто из снега поднимаются незнакомые лица, они пытаются разговаривать со мной, зовут куда-то, смеются и плачут…
Лежу, обрастаю новой кожей, обновление идет очень медленно, все чешется, хочется ободрать себя до самых костей, и тут вроде изменяется освещение, в голове возникает мерный шум, но не моторный, вроде бы — это море стонет. И из голубоватых сумерек появляется Молли. Или не она? Она! Не могу понять, где я — в Америке или дома? Мы ведь подлетали к Тикси, когда у меня разнесло винт… И снега кругом были наши, российские.
— Это ты? — спрашиваю я Молли.
— А кто же? Я…
— Как ты меня нашла?
— Очень просто. Ты же в своей палате.
— Скажи, мы разговариваем по-английски или по-русски, я что-то не могу уловить…
Слышу ее смех. Ласково, хорошо так смеется. И мне кажется, будто я становлюсь маленьким. Я живу на берегу моря. И кругом песок, песок, песок, мягкий, как мука и белый, как снег, только теплый… Потом я куда-то проваливаюсь. И ничего не помню больше.
На другой день меня утешает доктор: «В конце концов все будет хорошо, — уверяет он, — после таких травм и потрясения, что тебе достались, нервишки нормальным порядком отказывают.
А вечером все начинается сначала, только теперь не сестра и не доктор, не Молли видятся мне, а бравые ребята из ведомства «Самого».
— Здравствуй, капитан! Узнаешь? — Капитан он произносит с усмешкой и угрозой. Знает — перед ним самозванец и аферист.
— Скорость отрыва «Каталины»? Та-ак, а теперь быстренько — давай-ка крейсерский режим Р-39, та-ак, а если на «Кинг-кобре» летишь? Хорошо. Быстренько — скорость, обороты, давление масла, температура? Кто тебя свел с рыжей? Быстро. Она немка…
— Какая немка? — пытаюсь я возражать. — Чушь собачья — немка.
— Не очень шуми, капитан! Генерал, что забросил тебя в Америку, обрезав фамилию, прошел через нас по пятьдесят восьмой… так не стоит тебе возникать. Поправляйся пока. Привет от «Самого», он тебя ждет, вроде работку подобрал…
От бесконечного лежания у меня болели уже бока, раскалывалась башка от мыслей, я мучительно старался понять, где кончается явь и начинается сползание в бред. Меня напрочь замучило это «мишугирование», как говорила бабка, когда бывала особенно недовольна мной. И отец, если только слышал, непременно вмешивался:
— Вы могли бы, мама, сказать тоже самое по-французски или по-немецки… Вы же владеете, мама, разными языками, а не только еврейским.
— Куш мир ин тохес, француз паршивый, — оскорблялась бабка и требовала раздобыть ей подпольной мацы — скоро пасха!
— Мама, девятьсот тринадцатый год давно кончился, — недовольно ворчал отец, — пора менять привычки.
Но запрещенную мацу ей все-таки доставали. Бабка жирно мазала ее маслом, приклеивала ветчину и, перевернув свой кощунственный бутерброд ветчиной вниз, ела его с выражением торжествующей Бабы-Яги. И ничего, еврейский бог ее почему-то не наказывал.
Как же я не любил часы, когда ко мне возвращались картинки из моего насквозь фальшивого детства. То есть детство было, понятно, подлинное, а фальшь пропитывала все кругом. Раньше, чем я узнал, что означает слово «мимикрия», я познакомился с этим явлением во множестве его вариантов. Да-а, эти картинки были еще неприятнее, чем воспоминания о Гальке, о том, как я дрожащими руками расстегивал на ней пуговицы, как оттягивал тугие резинки и… капитулировал. Трусил.
Теперь уже почему-то не стыдно признаться, я много раз трусил. Перед отцом, перед школьным директором, перед дворником, перед инструктором в аэроклубе, перед Галькой, перед парашютными прыжками и, когда попал в кабинет «Самого», тоже трусил… И все-таки я не стал бы клеймить себя позорным клеймом — трус. Когда шестилетним я проснулся от странного шума на фоне освещенного уличным фонарем окна и разглядел мужскую фигуру на подоконнике, я не поднял крика, а сел в кровати и спросил: «Куда ты идешь, дядя?» Дядя удалился, не удостоив меня ответом. Позже мне объяснили — дядя был вором… В семь лет я запросто подходил к любой собаке. Мне говорили: укусит! Не лезь так близко! Но я лез и почему-то знал — меня собака кусать не будет. Подростком я съездил сволочи-учителю по морде, и хотя после этого мне пришлось покинуть школу-десятилетку и перейти в техникум, никогда не сомневался — поступил правильно. В конце концов я сам сделал себя летчиком, а на исходе войны превратился даже в летчика-испытателя.
Так важно ли: трусил я или не трусил? Важно совсем другое — что в конце концов из человека получилось. Бывало — штопорил, но всякий раз благополучно выходил из очередного штопора, хотя он вполне мог бы закрутить меня глубоко в землю… Страх — защитное чувство, способствующее самосохранению. И вся штука в том, чтобы не поддаваться панике, когда тебя прижимает, преодолевать страх силой разума, силой воли, предыдущим опытом.
A.M.: Здесь я снова попробовал напомнить Автору, что для цельности и занимательности повествования все-таки не хватает боевых эпизодов. Очень требуется красочка военного времени, а то люди стали уже забывать имена героев «пятого океана», что дрались в небе и по прежнему достойны восхищения и памяти.
АВТОР: Ты — просто «смола», ну, что пристал со своими эпизодами? Пойди в любую библиотеку и погляди, сколько километров книг про войну там выстроены в колонны. Погляди, потом поинтересуйся, а сильно ли эти книги читатель требует? Про войну людям давно надоело, больно уж много вранья развели вокруг этого времени… А ты опять свое: эпизодики давай, красочку добавь… Ладно, вот тебе эпизод и на нем — ша!
Когда я еще с первым моим командиром корабля летал на «Дугласе», был у нас один особо впечатляющий рейс. Везли мы за линию фронта деятеля международного масштаба! Понятно, ни фамилии, ни имени его нам тогда не открывали, операция проводилась в глубокой тайне, но по самому маршруту можно было кое-что предположить. В далекой от места вылета точке нам предстояло колыхнуть того деятеля с парашютом. Мужик был в приличных уже годах, к парашютному спорту явно не приобщенный, почему он на такое проникновение к своему народу согласился, сказать не берусь.
Летим час, другой, третий, ночь лунная, прозрачная, можно сказать хрустальная ночь. И вдруг мой командир говорит:
— Как считаешь, Максим, а что если присесть? Жалко мне старика выкидывать…
— Сесть, почему не сесть: видимость «колоссаль», только как потом взлетать будем?
— Нет в тебе куража, Максим! Трусы в карты не играют. Не взлетим, так накроемся. Война! И война без жертв не бывает…
Никак я такой выходки от моего командира не ожидал. Очень до этого момента он представлялся мне респектабельным, сверхдисциплинированным. Но, видать и впрямь, чужая душа — потемки.
И ведь сел командир! Старика выгрузил и тут же пошел на взлет. Чуть позже парашют выкинули. Еще в полете командир предупредил экипаж: кто протреплется, из-под земли достанет и на шашлык пустит, а потом как рявкнет:
— Благодарю за службу, орлы!
Такой военный эпизодик тебе подходит? И не приставай, не спрашивай, где садились? Никто не знает, сколько времени действуют подписки о неразглашении.
Или ты ожидал эпизода со стрельбой, а еще лучше — с тараном?! Про безногих героев писатели больно любят распускать слюни. Еще в цене у них бабы в роли командира корабля. Чего мне повторять кого-то? Все, перехожу на другую волну. Не надо всерьез относиться к самой говенной литературе о нашем благородном ремесле.
После войны я вернулся в институт, из которого был откомандирован в Америку. Начальник сменился. Меня, понятно, никто не помнил, я тоже едва кого-то узнавал. Проболтался я месяца два фактически без дела, жил в гостинице, порой меня назначали в наряды — то дежурным по гарнизону, то в офицерскую столовую дежурным. Для изучения нравов тоже, между прочим, не бесполезно. Чего, например, стоит мода на отдельные начальственные кабинеты в офицерских столовых?! Воевали вместе, командир — друг, товарищ и брат — сам погибай, а товарища и тем более, брата — выручай. Правильно? А по мирному времени начальнику рядом с подчиненным принимать пищу сделалось вдруг зазорно. С чего бы? Авиация вседа отличалась своим демократизмом, я на войне называл полковника «батей» (если он того стоил!) и ничего, считалось нормально. А тут что-то пошло вкось. И!
Ходил я ходил по нарядам, да и решил — будя! Проявив инициативу, пошел в кадры осведомиться, что же со мной дальше будет? Очкарик-кадровик спрашивает тоненьким таким, почти женским голоском:
— Как ваша фамилия, капитан? — и смотрит на меня, будто удав.
— Капитан Робино, фамилия.
— Француз? — то ли спрашивает, то ли констатирует подполковник. — Скажить, месье, а у вас случайно не осталось американских защелок для шинельных пуговиц?
Тут я вспоминаю: на военных плащах американцы пуговиц, действительно не пришивают, а сажают их на аккуратные, очень практичные металлические защелки.
— Откуда, — простодушно говорю я, — мы в Америке постоянно ходили в штатском.
— Раз нет, так нет, хотя жаль… Зайдите в понедельник, капитан, мне надо относительно вас посоветоваться кое с кем.
Мне, дураку, и в голову не пришло, что в понедельник следовало являться к нему не с пустыми руками, взяток по-нахальному тогда, правда, еще не брали, но «знаки внимания» — ценили. И ведь мог я приличную зажигалку захватить, были у меня в запасе атласные игральные карты с голыми бабами на рубашках, вполне бы подошли. Но я не допер.
В назначенное время снова появился в кадрах, ничего дурного не ждал, хотя с незапамятных времен в авиации понедельник считают не лучшим днем. Может предрассудок это, а может и нет. Не знаю.
— Есть мнение, направить вас на повышение квалификации в академию. Там формируют как раз специальные курсы. — Объявил мне подполковник. — Считайте, капитан, вам крупно повезло: берут вас без экзаменов.
Плохо понимая на что мне этот спецкурс, но чисто интуитивно я решил не возражать. Принял предписание, вовсе не предполагая, как здорово мне опять улыбнулась госпожа удача. При академии я пересидел самое бурное время борьбы с космополитизмом, шумное дело «врачей-убийц» и, возможно, только благодаря этому удержался на летной работе.
Учился без особого рвения, но с твердым намерением усовершенствовать мой самодеятельно освоенный английский язык.
Мысленно я еще пытался порой беседовать с рыжей Молли, нашептывал ей всякую чушь. И до того увлекался, что случалось порой заговаривал по-английски с моими случайными подругами. Чаще всего приводил их в полное недоумение, им и в голову не могло придти, кого я представлял себе в такие моменты на их месте. А одна дурочка даже настучала «куда следует» — не шпион ли (она Куприна читала!), а другая оказалась съездовской синхронной переводчицей и напротив оценила мое рвение весьма высоко. Около нее я долго барражировал и по части английского языка получил отличный тренаж. Про себя я называл эту переводчицу — «Рязань», такая курносая была у нее внешность. То, что «Рязань» замужем, да еще за адмиралом, я долго понятия не имел. А когда меня вызвали в политотдел по подозрению в прелюбодеянии, так сказать, меня это сильно задело. Адмиральша ты или не адмиральша, какая в конце концов разница, женщин надо ублажать, полагал я, тем, которые не склонны к блуду, следует помочь и отважиться. При этом следует блюсти заповедь военного времени: советские офицеры с женщин денег не берут. В политотделе мне грозили множеством неприятностей, и это решило дело — я ринулся в решительную атаку на «Рязань», твердо решив не отступать, чтобы все угрозы, черт возьми, не оказались напрасными.
Как раз в это время, еще до того, как «Рязань» пала, я получил выговор за аморалку. Выглядело такое вполне юмористически — я был беспартийным. Как тогда острили: я — ВКП(б) — вроде как партийный — в скобках — беспартийный. Куда они тот выговор записали, зарежьте — не представляю.
А «Рязань», спустя самое короткое время, шикарный номер отколола. Звонит мне и сообщает:
— Мой муж, подлец, собирается подложить под тебя свинью. Когда я ему сказала, что он не мужчина, а вареная морковка… Понимаешь? Он вскипел, как самовар, и потребовал, чтобы я ему показала мужчину, который удостоен моим вниманием, он хочет знать… — тут она замолчала.
— Что знать? — спросил я.
— На кого я его променяла.
— И?
— Естественно я обещала вас познакомить.
— Очень любезно с твоей стороны. Я просто мечтаю предстать перед твоим Нахимовым.
— Надо быть джентельменом, — переходя на английский, сказала «Рязань». — Тем более, что устроить тебе неприятности он вполне, я уверена, способен… с его связями и характером.
— Выходит, мне не мешает очаровать этого человека, ну, а как минимум — понравиться ему, втереться в приятели, да?
— Не знаю, не знаю, но встречу я обещала.
A.M.: Должен признаться, тут я повел себя бестактно, попытавшись ускорить повествование. Все мы, мужики, падки на подробности, когда речь заходит об адюльтере. Но Автор проявил завидную стойкость.
АВТОР: Не суетись. А то меня может хватить инфаркт от рецидива переживаний. Дай мне собраться с мыслями. Самое-самое еще впереди, ты должен меня беречь, мастер слова! Убери-ка форсаж, сбрось обороты и налей нам по пятьдесят граммов… Чтоб ты был здоров, летописец!
То, что я сейчас наговорю, наверное, следует считать отступлением. Но я же имею право на такой ход, правда? Так слушай сюда!
Иду по улице, вижу, около магазина привязан к витринному ограждению пес. Лохматый, крупный, непонятной породы, но весьма свирепого вида. Останавливаюсь, смотрю. Он тоже мне в глаза уставился. Даю слово, я понимаю собаку — она в тоске и тревоге. Спрашиваю:
— Плохо тебе, брат?
И она отвечает мне взглядом, ушами, всей шерстью — очень! Тут из магазина выходит мужик. Соображаю — как не спрашивай — мужик идет к собаке. Сейчас отвяжет ее и поведет. И точно. Отвязывает, да так хамски дергает поводок и тихо матерится, аж противно смотреть. Я — к нему:
— Продай собачку.
— Осторожно! Она и разорвать может: мой зверь таких не любит.
— Каких?
— Именно
— Интересно рассказываешь, только меня твой зверь в жизни не тронет.
— Очень храбрый? Попробуй, прикоснись ко мне. Ну! Спорнем — не прикоснешься.
— А на что поспорим?
— Да хоть на бутылку «Столичной».
— Можно и на «Столичную», а на него не желаешь?
— На кого?
— Как собаку зовут?
— Зовут — Лорд. — Стоит мужику произнести ее кличку, собака поджимается и в ее желтых выразительных глазах, даю слово, светится мука.
— Значит так: я тебя трогаю и собаку тоже трогаю. Если он меня после этого жрать станет, к тебе никаких претензий, а с меня бутылка, если жрать не станет, ты отдаешь мне собаку. Годится?
Мужик смотрит на собаку и хрипловатым голосом командует:
— Сидеть, гад! Чужой! Голос, Лорд, голос!
Лорд лает густым устрашающим голосом. А я говорю:
— Славный ты парень, не сердись, не надо сердиться. Я тоже хороший. Спокойно, малыш, спокойно, мы обязательно поладим с тобой, — и тут я беру одной рукой мужика за пуговицу пиджака, а другой тихонечко глажу Лорда по холке. Собака дрожит мелкой дрожью и эта нервная дрожь входит в меня, проникает через кончики пальцев. В какой-то момент я слегка отталкиваю мужика от собаки и осторожно перебираю поводок.
— Видишь, не разорвал меня зверь? — Тут я присаживаюсь на корточки перед псом, прикасаюсь к его мохнатой голове щекой. — Теперь ты будешь у меня Тимой. Понял? Тима, Тимошенька…
Не поднимаясь с корточек, вытаскиваю из заднего кармана сотенную, чуть комкаю ее и бросаю к ногам мужика.
— Что швыряешь, сволочь, я по-твоему не человек?!
— Не ори! Скажи спасибо. Это тебе премия, нагнешься, не переломишься, я не хочу, чтобы Тима подумал, будто я его купил. Ясно? Нет, этого тебе не понять… Можешь выпить за его и мое здоровье, это будет исключительно справедливо.
Как он отошел от нас, не помню. Сохранилось ощущение — был, был, был… и, наконец, исчез.
Таким странным образом осуществилась голубая мечта моего миновавшего детства — иметь собаку. Мне не разрешали держать в доме пса. Говорили — от собак глисты заводятся, еще какую-то муру городили…
Вот теперь я могу, если интересно, рассказать про рандеву с «Рязанью» и ее опасным адмиралом.
Сначала мы договорились о месте этого дурацкого свидания. Ресторан я отклонил сразу. Не с руки мне гулять с адмиралом за одним столиком, тем более, что пить с ним на брудершафт я не собирался. И потом, кто бы стал расплачиваться? Он — за меня? Я — за него? «Рязань» — за нас? Любой вариант представлялся мне по меньшей мере смешным.
— На Страстном бульваре есть не худшая в Москве забегаловка на открытом воздухе. Знаешь? — спросил я «Рязань». — Правильно, это совсем близко от Петровских ворот. В шестнадцать ноль ноль я буду ждать тебя там.
В четырнадцать тридцать я зашел к дежурному по факультету, наврал, что заступаю в наряд и взял пистолет. Дома, вспомнив лбов из кабинета «Самого», я присобачил кобуру к подтяжкам. Убивать я никого, понятно, не собирался, но, знаешь, когда телом чувствуешь оружие, очень многое в человеке меняется, и на душе становится спокойнее, и голова начинает работать лучше, прибавляется решительности. Немного подумав, я надел на Тимошу выходной ошейник, и мы отправились на это идиотское рандеву. Пришли, как я и рассчитывал, за пятнадцать минут до назначенного срока. Взяв бутылку шампанского, три пирожных я поставил на столик соответственно три бокала и стал ждать.
Они опоздали минут на десять.
Что сказать о первом впечатлении? Постараюсь быть объективным и признаю — они смотрелись со стороны вполне нормальной, хорошо притертой парой. Он был, пожалуй, лет на десять старше «Рязани» из породы мелкокалиберных жилистых мужиков, о таких говорят: маленькая собачка — до старости щенок. На свиданку адмирал пришел в штатском и больше напоминал провинциального бухгалтера, чем бравого кадрового вояку. А она… сказать тут особенно нечего: «Рязань» и есть «Рязань».
Они приблизились. Я встал.
— Здравствуйте, — почему-то официально сказала она, — знакомьтесь, мой муж.
— Здравствуйте, — ответил я и поклонился. — Я так и догадался, что это твой муж.
— Догадливость украшает человека, — прокомментировал он, не подавая мне руки, спросил начальственно: — А для чего при вас собака?
— Тимоша вывел меня прогуляться, с вашего позволения…
— Он у тебя недавно? — поинтересовалась «Рязань».
— Недавно: я плохо переношу одиночество, а Тимоша отличный друг. Он никогда не возражает, всегда внимательно слушает, почти меня не перебивает и старается помочь… Кроме того, его тоже предали, так что получается — два сапога — пара. — Я открыл шампанское и разлил по бокалам. — Мне кажется, тост за тобой, — сказал я, обращаясь к «Рязани».
— Ну, что ж. За мужчин — бывших и будущих!
— Браво! — отреагировал адмирал и почему-то по-английски скомандовал: — Полный вперед!
Тут я допустил явную промашку, спросил у Тимоши:
— Ну, как тебе это нравится, паренек? — У него взъерошилась шерсть на загривке, он устрашающе обнажил клыки, и мне вдруг показалось, что пес готов кинуться на мужчину, объявленного «Рязанью» бывшим.
— Тихо, Тимоша, спокойно, мой хороший, — на всякий случай я перехватил его ошейник. Пиджак на мне распахнулся, и адмирал успел разглядеть пистолет, прикрепленный к подтяжкам.
— Вот вы по какому ведомству, значит! — И дальше, обращаясь исключительно к «Рязани», он сказал брезгливо: — Благодарю за доставленное развлечение, но сидеть за одним столом с собаководом, даже если он ученый кинолог, — слишком много чести! — Он встал и, косясь с опаской на Тимошу, направился к выходу. Пожилой военный в штатском, таким он мне запомнился.
— Догони! — Велел я «Рязани». И она затрусила вслед за ним. Мы остались вдвоем. Было тихо. В деревьях беззаботно чирикали птички. Жизнь продолжалась. Тимоша слопал пирожные, я допил шампанское — не пропадать же добру, и мы отправились восвояси. Тимоша шагал в ногу со мной и время от времени заглядывал мне в лицо, словно хотел понять, — так как у нас дела?
Задачу я выполнил, летописец: адмирала изобразил, чем закончилась оккупация чужой жены — тоже и собаку-умницу не забыл. Ты доволен, надеюсь? Чего хочешь еще услышать теперь? Как я летал после войны? Вопрос понят. По-разному летал, с переменным успехом, с большими или меньшими отклонениями от норм, так могу сказать, если коротко. Но сперва ты дорисуй главу по своему усмотрению, а я буду шевелить извилинами и соображать, из чего делать текст дальше, чтобы было нескучно!
A.M.: Исполняя волю Автора, дописываю конец второй главы. Вероятно, читатель, если дело дойдет до такого, захочет представить, как выглядит Автор. Он кряжист, широк в плечах, у него большие и беспокойные руки — все время что-нибудь теребят или перебирают. Автор совершенно седой, хотя выглядит весьма моложаво. Мы знакомы с ним очень давно, и я могу свидетельствовать: он совершенно не умеет сидеть без дела. При всякой возможности хлопочет по дому, не считает зазорным заниматься, как он любит говорить: «половым вопросом», и паркет в его доме блестит, словно зеркальный! Он охотно исполняет всякую починочную работу в квартире, вполне может также и борщ сварить и сациви приготовить. По его стойким убеждениям мужчина должен быть универсалом. И, если, допустим, академик оказывается не в состоянии толком забить гвоздь в стену, такого академика он просто не признает достойным уважения.
Понимаю — я не объективен к Автору, слишком долго мы дружим, слишком, что называется, спелись, поэтому не стану продолжать его развернутое описание, а попробую выразить формульно кратко, что же он собой представляет.
Автор еще очень живой и не очень занудный…
(support [a t] reallib.org)