"Прощенный Мельмот" - читать интересную книгу автора (Бальзак Оноре де)
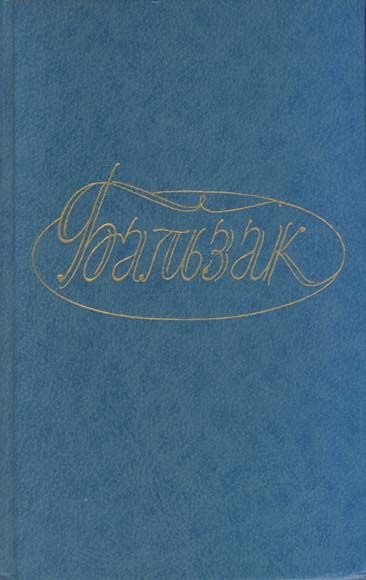 |
Оноре де Бальзак Прощенный Мельмот
Есть такая порода людей, которую в мире общественном выращивает цивилизация, подобно тому как в мире растительном цветоводы тепличным способом создают гибридную породу, не поддающуюся размножению ни путем посева, ни отводками. Мы имеем в виду кассира — некое человекообразное растение, которое поливают религиозными идеями, подпирают гильотиной, обстригают пороком, — и растет себе оно на четвертом этаже вместе с почтенной супругой и надоедливыми детьми. Многочисленные парижские кассиры всегда останутся загадкой для физиолога. Понял ли кто-нибудь задачу, где иксом является кассир? Как отыскать человека, который спокойно созерцал бы чужое богатство, отданное ему в руки, — ведь это все равно, что кошку посадить в одну клетку с мышью! Как отыскать человека, который согласится в течение семи восьмых года по семь-восемь часов в день сидеть в плетеном кресле, за решеткой в каморке, не более просторной, чем каюта морского офицера? Человека, у которого таз и ноги не одеревенеют от подобного ремесла? Человека, у которого достаточно величия для такого маленького места? Человека, который, постоянно имея дело с деньгами, проникся бы отвращением к ним? У любой религии, моральной системы, школы или института затребуйте это растение и предложите им Париж — этот город-искуситель, этот филиал ада, в качестве среды, где должен произрастать кассир! И вот проследуют перед вами религии одна за другой; школы, институты, моральные системы, все законы человеческие, великие и малые придут к вам, как приходит друг, к которому вы обратились с просьбой о тысячефранковом билете. Они примут скорбный вид, они прибегнут к гриму, они сошлются на гильотину — совершенно также, как ваш друг укажет вам жилище ростовщика — одну из сотни дверей ведущих в больницу для бедных. Впрочем, сама нравственная природа не лишена капризов, она позволяет себе то там, то здесь создавать честных кассиров. Потому-то разбойники, которых мы прикрасы ради именуем банкирами и которые приобретают лицензию за тысячу экю как пират — разрешение на выход в море, проникнуты таким почтением к этим редким существам, выращенным в инкубаторе добродетели, что заключают их в каморку, содержа их так же, как правительство содержит редкостных животных. Если кассир не лишен воображения, наделен страстями, если кассир, пусть даже безупречный, любит свою жену, а она скучает, страдает от неудовлетворенного честолюбия или просто тщеславия, — тогда кассир развращается. Поройтесь в истории кассиров: вы не приведете ни одного случая, когда кассир добился бы, что называется
Таков точный баланс отношений, в которые вступают талант и внутренние достоинства с правительством и обществом в эпоху, почитающую себя прогрессивной. Без этих предварительных замечаний случай, недавно происшедший в Париже, показался бы неправдоподобным, а сопровождаемый этим кратким введением, он, может быть, даст пищу умам, достаточно высоким для понимания истинных язв нашей цивилизации, которая после 1815 года принцип «честь» заменила принципом «деньги».
В пасмурный осенний день, часов в пять вечера, кассир одного из самых крупных парижских банков еще сидел за работой при свете лампы, зажженной уже довольно давно. Как это заведено в коммерческом мире, касса помещалась в самой темной части тесных и низких антресолей. Чтобы до нее добраться, нужно было пройти коридором, который освещали лишь тусклые оконца и вдоль которого, как в банном заведении, тянулись перенумерованные комнаты. Следуя инструкции, швейцар уже с четырех часов флегматически произносил: «Касса закрыта». В это время канцелярии уже опустели, курьеры были отосланы, чиновники разошлись по домам, жены директоров ожидали своих любовников, оба банкира обедали у своих сожительниц. Все было в порядке. Окованные железом денежные сундуки стояли позади каморки кассира, занятого, вероятно, подсчетом кассы. Сквозь решетку каморки можно было видеть шкаф из кованого железа, который благодаря изобретениям современного слесарного ремесла был так тяжел, что воры не могли бы его утащить. Его дверца открывалась лишь по воле того, кто умел составить пароль из букв замка, хранящих тайну и не ведающих подкупа, — прекрасное осуществление сказки о Сезаме из «Тысячи одной ночи». Но это еще не все. Замок стрелял из пищали в лицо тому, кто, овладев паролем, не знал последнего секрета, ultima ratio[2] этого дракона механики. Дверь в комнату, стены комнаты, ставни в комнате — вся комната была обита листами железа толщиною почти в полдюйма, замаскированными легкой деревянной обшивкой. Ставни были закрыты, дверь заперта. Если кто мог считать себя пребывающим в полном уединении, недоступным ничьему взору, то, конечно, кассир банкирской конторы «Нусинген и K°»[3] на улице Сен-Лазар. И так, полнейшее молчание царило в этом железном погребе. Угасшая печка дышала жаром, вызывающим муть в голове и тошноту, как бывает наутро после кутежа. Печка усыпляет, одуряет; она необычайно способствует превращению сторожей и чиновников в кретинов. Комната с печкой — колба, в которой разлагаются энергичные люди, слабеет их способность к движению и изнашивается воля. Канцелярии — огромная фабрика посредственностей, необходимых правительствам для поддержки того особого, основанного на деньгах, феодального режима, на который опирается нынешний общественный договор (см. «Чиновники»). Зловонная теплота, испускаемая собравшимися вместе людьми, занимает немалое место среди причин прогрессирующего вырождения умов: мозг, выделяя особенно много азота, в конце концов отравляет другие мозги.
Кассиру было лет сорок, на его круглой, как шар, голове при свете лампы Карселя, стоявшей на столе, сияла лысина, а в черных волосах, уцелевших с боков, блестела седина. Цвет лица у него был кирпично-красный. Около голубых глаз залегли морщинки. Как у всякого толстого человека, руки его были пухлыми. Фрак синего сукна, уже немного побелевшего на швах, и лоснящиеся панталоны приобрели потертый вид, с которым тщетно борется щетка и который в глазах людей мало наблюдательных — служит верным признаком, говорит о том, что перед вами бережливый, честный человек, достаточно философски настроенный или достаточно аристократичный для того, чтобы носить старый костюм. Но не редкость встретить людей, которые, экономя на пустяках, неустойчивы, расточительны или бесхарактерны в главном. Петлицу кассира украшала ленточка Почетного легиона, так как во время Империи он служил командиром драгунского эскадрона. Г-н де Нусинген, первоначально поставщик, впоследствии банкир, имел когда-то случай оценить щепетильность своего кассира, занимавшего тогда высокий пост, потом утраченный из-за неблагоприятных обстоятельств, и в знак уважения положил ему пятьсот франков в месяц. Воин сделался кассиром в 1813 году, — тогда он уже залечил свои раны, полученные в сражении при Студзянке, во время беспорядочного бегства из Москвы, но до этого он протомился шесть месяцев в Страсбурге, куда по приказанию императора посылали некоторых старших офицеров для особо тщательного лечения. Этот бывший офицер, по фамилии Кастанье, имел чин полковника в отставке и две тысячи четыреста франков пенсии.
Кастанье, в котором за десять лет кассир уничтожил воина, пользовался таким доверием банкира, что, кроме всего прочего, заведовал перепиской в его личном кабинете (расположенном позади кассы), куда барон спускался по потайной лестнице. Там решались дела. Это было решето, сквозь которое просеивались предложения, место переговоров, где изучалось положение на бирже. Отсюда посылались аккредитивы; здесь, наконец, находились главная книга и ежедневные записи, где подытоживалась работа всех отделений банка. Закрыв дверь, выходившую на лестницу, которая вела во второй этаж особняка, в парадные приемные обоих банкиров, Кастанье снова уселся и некоторое время рассматривал аккредитивы на имя банкирского дома Уотскильдена в Лондоне. Потом он взял перо и подделал внизу каждого из них подпись
— Мне нужно получить по этому векселю, — сказал он Кастанье голосом, заставившим кассира затрепетать всеми жилками, как будто по ним прошел сильный электрический разряд.
— Касса закрыта, — ответил Кастанье.
— Она открыта, — сказал англичанин, указывая на кассу. — Завтра воскресенье, а ждать мне некогда. Сумма — пятьсот тысяч франков, у вас в кассе она имеется, а мне она необходима для уплаты долга.
— Но как же вошли вы сюда, милостивый государь?
Англичанин улыбнулся, и Кастанье оцепенел от его улыбки. Не могло быть ответа полнее и категоричнее, чем презрительная и властная складка губ у незнакомца. Кастанье повернулся, взял пятьдесят пачек банковских билетов, по десяти тысяч франков каждая, и, когда он подавал их незнакомцу, бросившему в обмен вексель, акцептированный бароном Нусингеном, его охватила какая-то конвульсивная дрожь при виде багровых лучей, исходивших из глаз этого человека и падавших на фальшивую подпись аккредитива.
— Вашей… расписки… здесь… нет, — сказал Кастанье, посмотрев вексель на обороте.
— Позвольте перо, — ответил англичанин. Кастанье протянул перо, только что служившее ему для подделки. Незнакомец поставил подпись
— К черту! что я за дурак! Сам бог мне покровительствует, ведь адресуйся этот скот завтра к хозяевам, я бы попался! — произнес Кастанье, бросая в печь ненужные поддельные аккредитивы, которые и сгорели.
Нужный ему аккредитив он запечатал, взял в кассе пятьсот тысяч франков билетами и банкнотами, запер ее, все привел в порядок, взял шляпу, зонт, зажег свечу в подсвечнике, а затем погасил лампу и спокойно вышел, чтобы один из двух ключей от кассы отдать г-же Нусинген, как делалось всегда, если сам барон отсутствовал.
— Какой вы счастливец, господин Кастанье, — сказала жена банкира, увидав его, — в понедельник праздник, вы можете уехать за город, в Суази.
— Будьте так добры, сударыня, передайте господину Нусингену, что сейчас получен запоздавший вексель Уотскильденов. Пятьсот тысяч франков выплачено. Итак, я буду здесь не раньше вторника, к полудню.
— Прощайте! Желаю вам приятно провести время!
— Равно как и я вам! — ответил старый драгун, бросив взгляд на молодого человека по фамилии Растиньяк, который пользовался тогда в свете большим успехом и слыл любовником г-жи де Нусинген.
— А знаете, — сказал после его ухода молодой человек, — этот толстяк словно собирается проделать с вами что-то неладное.
— Ну нет! быть не может, он так глуп.
— Пикуазо, — сказал кассир, входя в каморку швейцара, — что это ты пропускаешь в кассу после четырех часов?
— С четырех часов я сидел у дверей и покуривал трубку, — ответил швейцар, — никто не входил в контору. Да и вышли только господа…
— Ручаешься, что это так?
— Честное мое слово. Прошел в четыре часа один только приятель господина Вербруста, молодой человек, служащий у господ Тийе и компания, на улице Жубер.
— Ладно! — произнес Кастанье и поспешно вышел.
У него все усиливался тошнотворный жар, появившийся, когда он после незнакомца взялся за свое перо.
«Тысяча чертей! Все ли я предусмотрел? — проносилось у него в голове, когда он шел по Гентскому бульвару. — Посмотрим! Два свободных дня, воскресенье и понедельник; потом день сомнений, прежде чем начнут поиски, таким образом, у меня сроку три дня и четыре ночи. Я запасся двумя паспортами и двумя различными костюмами, в которых трудно будет меня узнать, — разве этого не достаточно, чтобы сбить с толку самых ловких полицейских? Получу в Лондоне миллион во вторник утром, когда еще не возникнет ни малейшего подозрения. Свои здешние долги перевожу на своих кредиторов, которые надпишут „погашено“, — и остаток своих дней проведу счастливо в Италии, под именем графа Ферраро: ведь я единственный свидетель смерти этого несчастного полковника в Зембинских болотах, я его шкуру и надену… Тысяча чертей! если я потащу за собой эту женщину, она может меня выдать! Мне, старому вояке, волочиться за юбкой, прилипать к бабе!.. к чему брать ее с собой? Нужно ее бросить. Да, на это у меня хватит духу. Но знаю я себя, такой я дурак, что опять к ней вернусь. Акилину никто ведь не знает. Взять ее с собой? или не брать?»
— Ты ее не возьмешь! — произнес голос, потрясший его до глубины души.
Резким движением Кастанье обернулся и увидел англичанина.
— Э! сюда сам черт сует свой нос! — воскликнул кассир вслух.
Мельмот уже обогнал свою жертву. Хотя первым движением Кастанье было потребовать к ответу человека, до такой степени читавшего у него в душе, все же в нем боролось столько противоречивых чувств, что в результате возникла какая-то внезапная инертность; и он пошел дальше, снова испытывая ту умственную лихорадку, которая так естественно возникает у человека, поддавшегося страсти настолько, чтобы совершить преступление, но недостаточно сильного, чтобы потом справиться с жестокой тревогой. Вот почему, уже собираясь пожинать плоды преступления, наполовину совершенного, Кастанье колебался, доканчивать ли ему начатое дело, как это и бывает у людей половинчатых, в одинаковой степени то сильных, то слабых, которых можно склонить к преступлению и удержать от него, в зависимости от самых ничтожных обстоятельств. Среди множества людей, набранных Наполеоном в свои войска, встречалось немало таких, которые, подобно Кастанье, на поле битвы были мужественны физически, но вместе с тем лишены были духовного мужества, при котором человек столь же велик в преступлении, сколь велики бывают люди в подвигах добродетели. Аккредитив был написан так, что Кастанье, приехав в Лондон, получил бы двадцать пять тысяч фунтов стерлингов у Уотскильдена корреспондента Нусингена, — уже уведомленного о платеже самим бароном; каюта на имя графа Ферраро была случайным лондонским агентом заранее заказана на корабле, перевозившем богатое английское семейство из Портсмута в Италию. Предусмотрены были малейшие обстоятельства, Кастанье так устроил, что, пока он плыл бы по морю, искать его стали бы одновременно и в Бельгии и в Швейцарии. А потом, когда Нусинген напал бы на его след, кассир доехал бы уже до Неаполя, где рассчитывал жить под чужим именем, замаскировавшись до такой степени, что даже изменил бы лицо и подделал на нем при помощи кислот следы оспы. Все эти меры предосторожности обеспечивали, казалось, полную безнаказанность, но совесть его мучила. Он боялся. Давно уже ведя тихую и покойную жизнь, он очистился от солдафонских привычек. Он был еще честен и пачкался теперь неохотно. Итак, последний раз он отдавался воздействию своей доброй натуры, еще сопротивлявшейся в нем.
«Ба! — подумал он на углу бульвара и улицы Монмартр, — вечером после спектакля фиакр отвезет меня в Версаль. Почтовая карета ожидает меня у моего прежнего вахмистра, который сохранит тайну моего отъезда даже перед дюжиной солдат, готовых его расстрелять, если он откажется ответить. Итак, против меня ни одного шанса. Возьму с собой малютку мою Наки и уеду!»
— Не уедешь! — сказал ему англичанин, от странного голоса которого вся кровь прилила к сердцу кассира.
Мельмот сел в ожидавшее его тильбюри и умчался так быстро, что Кастанье еще не успел прийти в себя и не подумал задержать тайного своего врага, а тот уже в ста шагах несся крупной рысью по проезду Монмартрского бульвара.
«Однако, честное слово, со мной происходит нечто сверхъестественное! — решил Кастанье. — Будь я таким дураком, что верил бы в бога, я подумал бы, что он велел святому Михаилу следовать за мной по пятам. Может быть, дьявол и полиция позволяют мне все проделывать, чтобы вовремя меня схватить. Виданное ли дело! Да ну, все это чепуха…»
Кастанье направился по улице Фобур-Монмартр, замедляя шаг по мере того, как приближался к улице Рише. Там, в новом доме, в третьем этаже корпуса, обращенного к садам, жила девушка, известная по соседству под именем г-жи де Лагард, невольно оказавшаяся причиной преступления, совершенного Кастанье. Чтобы объяснить этот факт и окончательно обрисовать переживаемый кассиром кризис, необходимо вкратце сообщить о некоторых обстоятельствах прежней ее жизни.
Госпожа де Лагард, скрывавшая настоящее свое имя от всех, даже от Кастанье, выдавала себя за пьемонтку. Она была из числа девушек, вынужденных — то ли глубочайшей нищетой, то ли безработицей или страхом смерти, а нередко — изменой первого возлюбленного, — взяться за ремесло, которым большинство из них занимается с отвращением, многие — беспечно, некоторые подчиняясь требованиям своей натуры. Когда она, шестнадцати лет от роду, прекрасная и чистая, как мадонна, готова была броситься в пучину парижской проституции, она встретила Кастанье. Настолько неказистый, что рассчитывать на успех в свете ему не приходилось, утомленный шатаньем по бульварам в поисках любовных побед, что покупаются за деньги, отставной драгун уже давно желал ввести некоторый порядок в свое беспутство. Его поразила красота бедной девчушки, случаем брошенной ему в объятия, и он решил спасти ее от порока, но себе на пользу, с целью не менее эгоистической, чем благотворительной, как то нередко бывает и у самых лучших людей. Природные склонности могут быть хорошими, общественный строй к ним добавляет злые, отсюда происходит та смешанность в намерениях, к которым судья должен отнестись снисходительно. У Кастанье хватило ума настолько, чтобы схитрить, когда дело шло об его интересах. Так вот он и решился на филантропию без риска и прежде всего сделал девушку своей любовницей.
«Эге! Как бы овечка не поджарила меня, старого волка, — сказал он себе на солдатском жаргоне. — Дядюшка Кастанье, собираясь устраивать свой домашний очаг, произведи-ка сначала разведку насчет нравственных устоев девчонки, разузнай, привязчива ли она!»
В первый год их связи, незаконной, но ставившей пьемонтку в положение, наименее порицаемое изо всех тех, которые общество клеймит своим презрением, она взяла себе боевую кличку Акилина — имя одной из героинь «Спасенной Венеции», случайно прочитанной ею английской трагедии. Ей казалось, что она схожа с этой куртизанкой, то ли ранним развитием чувств, уже напоминавших о себе ее сердцу, то ли чертами лица или общим обликом. Когда Кастанье убедился, что поведение ее пристойно и добродетельно более, чем можно было ожидать от женщины, брошенной по ту сторону общественных законов и приличий, он выразил желание поселиться с нею вместе. Тогда она сделалась г-жой де Лагард, с тем, чтобы жить на положении законной жены, в той мере, как это позволяли парижские нравы. В самом деле, большинство этих несчастных созданий озабочено главным образом тем, чтобы их принимали за настоящих мещанок, тупо соблюдающих верность своим мужьям, способных стать превосходными матерями семейств, записывать расходы и чинить белье. Подобное желание порождается чувством столь похвальным, что обществу следовало бы с ним считаться. Но общество, конечно, окажется неисправимым и по-прежнему будет смотреть на замужнюю женщину как на корвет, которому флаг и документы дают право плаванья, а на содержанку — как на пирата, которого можно повесить, раз у него нет бумаг. В тот день, когда г-жа де Лагард захотела подписываться «мадам Кастанье», кассир рассердился.
— Ты, значит, не настолько меня любишь, чтобы жениться на мне? — спросила она.
Кастанье не ответил, погрузившись в задумчивость. Бедняжка уступила. Отставной драгун был в отчаянии. Наки, тронутая его отчаянием, готова была его утешить, — но можно ли утешать, не зная причины огорчения? И вот, когда Наки захотелось узнать секрет, она добилась этого без особых расспросов: кассир жалобно признался в существовании некоей г-жи Кастанье, законной супруги, тысячу раз проклятой, небогато и безвестно жившей в Страсбурге, которой он два раза в год писал, храня о ней столь глубокое молчание, что никто не считал его женатым. Откуда такая скрытность? Хотя ее причина известна многим из военных, которые могли оказаться в таком же положении, все же небесполезно о ней сообщить. Настоящий «служака» (если позволительно употребить здесь слово, обозначающее в армии людей, которым суждено умереть в чине капитана), прикрепленный к полку, как крепостной к земле, является существом глубоко наивным, вроде Кастанье, и обречен на любой стоянке полка стать жертвой тех козней, что строят матери семейств, обремененные дочерьми, засидевшимися в девицах. И вот в Нанси, во время краткого перерыва, когда императорские войска отдыхали во Франции, Кастанье имел несчастье обратить внимание на барышню, с которой он танцевал на балу, одном из тех, что именуются в провинции «общественными» и частенько даются либо городом в честь гарнизонных офицеров, либо наоборот. Любезный капитан тотчас же стал предметом обольщений, для которых матери находят себе сообщников в самом сердце человеческом, нажимая на все его пружины, и в друзьях, вступающих в общий заговор. Уподобившись тем, кто одержим одной-единственной мыслью, матери все силы отдают своему великому проекту, долго и тщательно созидая нечто вроде той конусообразной ямки в песке, на дне которой сидит муравьиный лев. Быть может, никто не вступит в этот превосходно построенный лабиринт, быть может, муравьиный лев умрет от голода и жажды. Но если уж войдет туда какая-нибудь легкомысленная тварь, она там и останется. Тайный расчет на сокращение расхода, присущий всякому, кто собирается жениться, надежда на наследство, тщеславие — словом, все нити, движущие «капитана», были затронуты у Кастанье. Себе на беду, он расхвалил матери ее дочь, когда после вальса отвел ее на место; последовала беседа, заключившаяся вполне естественным приглашением бывать у них. А когда драгуна залучили к себе, тут уж он был ослеплен простодушием, царившим в доме, где, казалось, под притворной скудостью прячется богатство. Его ловко обошли, и все принялись расхваливать находившиеся здесь сокровища. Обед, весьма кстати сервированный на серебре, которое взяли у дяди, знаки внимания со стороны единственной дочери, городские сплетни, богатый подпоручик, делавший вид, что готов подставить ему ножку, — словом, тысяча ловушек, известных провинциальным муравьиным львам, была так искусно пущена в ход, что пять лет спустя Кастанье говорил:
— До сих пор не могу понять, как все это произошло!
Драгун получил пятнадцать тысяч франков приданого и барышню, по счастью оставшуюся бездетной, которая после двух лет брачной жизни стала уродливейшей, а следовательно, и сварливейшей женщиной на свете, Кожа этой девицы, белая лишь благодаря суровому режиму, покрылась красными пятнами; лицо, яркие краски которого свидетельствовали о соблазнительной невинности, расцвело прыщами; стан, казавшийся таким стройным, искривился, — ангел оказался брюзгливым и подозрительным созданием, приводившим Кастанье в ярость; в довершение всего, улетучилось богатство. Видя, что женщина, с которой он заключил брачный союз, изменилась до неузнаваемости, драгун назначил ей для жительства домик в Страсбурге, в ожидании, когда богу будет угодно украсить ею рай. Она была из тех женщин, добродетельных поневоле, которые изводят ангелов своими стонами, повергают в скуку господа бога, если только он слушает их молитвы, и нежнейшим голоском рассказывают соседкам всякие гадости про мужей, заканчивая вечером партию в бостон. Когда Акилина узнала о злосчастье Кастанье, она искренне привязалась к нему и, постоянно обновляя наслаждения по подсказке своего женского таланта, щедро их расточая, но вместе с тем разнообразя, дала столько счастья кассиру, что незаметно для себя стала причиной его гибели. Подобно многим женщинам, как будто самою природой предназначенным познать любовь до последних ее глубин, г-жа де Лагард отличалась бескорыстием. Она не требовала ни золота, ни драгоценностей, не заботилась никогда о будущем, жила настоящим и, главным образом, удовольствиями. Богатые уборы, туалет, экипаж, предметы столь пламенных желаний у женщин такого сорта, она принимала только как гармоничное добавление к общей картине жизни. Она желала их иметь не из тщеславия, не ради возможности блеснуть, а лишь для того, чтобы лучше себя чувствовать. Впрочем, она могла и обойтись безо всего этого легче, чем кто бы то ни было. Когда человек щедрый — а почти все военные щедры встречается с женщиной такого закала, он приходит в неистовство при мысли, как бы не остаться у нее в долгу. Он способен тогда напасть на дилижанс, чтобы добыть денег, если у него их нехватает на новые безумные траты. Так уж создан мужчина. Иной раз он идет на преступление ради того, чтобы сохранить величие и благородство в глазах женщины или узкого круга людей. Любовник подобен игроку, который почтет себя обесчещенным, не вернув лакею игорного зала занятых у него денег, ко совершает чудовищные поступки, разоряет жену и детей, крадет и убивает, лишь бы пред глазами постоянных посетителей этого рокового дома предстать с полными карманами и не запятнать своей чести. Так случилось и с Кастанье. Первоначально он поселил Акилину в скромной квартире на пятом этаже и подарил ей лишь самую простую мебель. Но, обнаруживая в девушке столько красоты и достоинств, получая от нее неслыханные наслаждения, которых никакие слова не в силах передать, он голову потерял и пожелал принарядить идола своего сердца. Тогда костюм Акилины оказался в столь комическом контрасте с дрянной квартирой, что оба они убедились в необходимости ее переменить. На эту новую квартиру ушли почти все сбережения Кастанье, который обставил свой, так сказать, семейный дом с роскошью, характерной для содержанок. Красивая женщина не потерпит около себя ничего уродливого. Из всех женщин ее выделяет это стремление выдерживать стиль, наименее изученная потребность нашей натуры, сказывающаяся в том, что старые девы окружают себя одной лишь старой рухлядью. Поэтому-то прелестной пьемонтке понадобились вещи самые новые, самые модные, все самое кокетливое, что только нашлось у торговцев: штофные обои, щелк, драгоценности, легкая и хрупкая мебель, красивый фарфор. Она ничего не требовала. Но когда нужно было выбирать, когда Кастанье спрашивал: «Что бы ты хотела?», она отвечала: «Вот это будет получше!» Любовь, подсчитывающая расходы, — не настоящая любовь, поэтому Кастанье покупал лишь самое лучшее. А раз принята была такая мерка, то стало необходимым, чтобы все в хозяйстве пришло в гармонию: белье, серебро, тысяча принадлежностей благоустроенного дома, кухонная утварь, хрусталь… и черт в ступе! Хотя Кастанье хотелось бы, как говорится, устроиться тихо-мирно, он все более и более входил в долги. Одна вещь вызывала необходимость в другой. К часам понабилась пара канделябров. К изукрашенному камину потребовалась особого устройства топка. Драпри, обои были такими чистенькими, что обидно было закоптить их, пришлось завести изящные камины, недавно изобретенные искусными составителями проспектов и снабженные приспособлением, которое якобы вполне устраняло дым. А затем Акилине так понравилось бегать в своей комнате по ковру босиком, что Кастанье всюду положил ковры, чтобы резвиться вместе с Наки; наконец, он устроил ей ванную — все для того, чтобы ей было «получше». Парижские торговцы, ремесленники, фабриканты обладают неслыханным искусством расширять дырку в чужом кошельке: когда захочешь к чему-нибудь прицениться, они ответят, что еще не знают цены, а лихорадочно разгоревшееся желание никогда не терпит промедлений, — в результате заказы делаются вслепую, по приблизительной смете; счетов поставщики не дают и вовлекают потребителя в вихрь новых поставок. Все восхитительно, очаровательно, все довольны. Несколько месяцев спустя эти любезные поставщики появляются вновь, как неумолимое воплощение общей суммы долга; они нуждаются в деньгах, у них срочные платежи, они даже объявляют себя, так сказать, банкротами; они плачут — и получают! Тогда разверзается пропасть, изрыгая колонну цифр по четыре в ряд, хотя следовало бы им итти скромно по трое. Пока еще Кастанье не знал суммы расходов, он возымел обыкновение предоставлять своей возлюбленной, если она выезжала, наемную карету вместо простого извозчика. Кастанье любил покушать, и вот была нанята превосходная кухарка; чтобы ему угодить, Акилина угощала его первинками, всякими деликатесами, изысканными винами, которые покупала сама. Но своих средств у нее не было, эти подарки, продиктованные драгоценным вниманием, чуткостью, расположением, периодически истощали кошелек Кастанье, не желавшего, чтобы его Наки оставалась без денег, а она постоянно бывала без денег! Итак, стол сделался источником значительных расходов, совсем не по средствам кассиру. Чтобы добывать деньги, отставной драгун был принужден прибегнуть к коммерческим уловкам, так как неспособен был отказывать себе в удовольствиях. Страстная любовь не позволяла ему противиться фантазиям любовницы. Он был из тех людей, которые то ли из самолюбия, то ли по слабости характера, не умеют ни в чем отказать женщине и из ложного стыда готовы лучше разориться, чем произнести: «Не могу… Мне средства не позволяют… Денег нет». И вот настал день, когда Кастанье понял, что он скатился в пропасть и что, если думать о спасении, необходимо бросить Акилину и сесть на хлеб и воду, чтобы расквитаться с долгами. Но он уже настолько привязался к этой женщине, к этой жизни, что со дня на день стал откладывать задуманную реформу. Понуждаемый обстоятельствами, сначала он обратился к займам. Его положение и его прошлое обеспечили ему доверие, которым он стал пользоваться, комбинируя систему займов соответственно своим нуждам. Затем, чтобы не обнаруживать, до каких сумм дошли его долги, он прибег к тому средству, которое в коммерции зовется «циркуляция». Оно заключается в векселях, не гарантированных ни товарами, ни взносом денежных ценностей; первое лицо, делающее передаточную надпись, оплачивает их вместо какого-нибудь любезного векселедателя; это — своего рода подлог, на который смотрят сквозь пальцы, так как в нем невозможно никого уличить и вовлечение в невыгодную сделку обнаруживается только в случае отказа в уплате. Когда, наконец, Кастанье убедился в невозможности продолжать свои финансовые маневры, из-за возрастающей ли суммы займов, или из-за чрезмерных процентов, то он столкнулся с необходимостью объявить себя банкротом. Раз на его долю выпало бесчестие, он предпочел обычному банкротству — злостное, проступку — преступление. Он решил дисконтировать доверие, заслуженное его прежней честностью, и увеличить число своих кредиторов, позаимствовав подобно Матео, кассиру королевского казначейства, сумму, достаточную для того, чтобы остаток дней своих счастливо прожить за границей. Как мы только что видели, он это сделал. Акилина не подозревала о его житейских заботах, она жила весело и, подобно многим женщинам, не спрашивала себя, откуда получаются деньги, вроде тех людей, которые едят румяную булочку, не спрашивая себя, как растет хлеб; между тем за печью булочника скрываются обманутые надежды и хлопоты земледельца, точно так же как заурядная роскошь большинства парижских семейств покоится на тяжких заботах и непомерном труде.
Пока Кастанье переживал муки сомнений, размышляя поступке, от которого изменилась вся его жизнь, Акилина спокойно сидела у камелька, лениво погрузившись в кресло, и, беседуя с горничной, поджидала его. Подобно всем горничным у дам такою сорта, Дженни стала ее наперсницей, после того как убедилась, что власть ее хозяйки над Кастанье неоспорима.
— Как нам быть нынче вечером? Леон хочет непременно прийти, — произнесла г-жа де Лагард, читая письмо на серой бумаге, исполненное страсти.
— Вот и барин! — сказала Дженни.
Вошел Кастанье. Нисколько не смущаясь, Акилина свернула письмо, взяла его щипцами и сожгла.
— Вот как ты поступаешь с любовными записками! — сказал Кастанье.
— Ах, боже мой, конечно так, — ответила ему Акилина — Разве это не лучший способ уберечь их от чужих рук? К тому же не должен ли огонь устремляться к огню, как вода течет в реку?
— Ты так говоришь, Наки, точно это и вправду любовная записка.
— Что же, разве я недостаточно красива, чтобы их получать? — отвечала она, подставляя для поцелуя лоб с такой небрежностью, которая мужчине менее ослепленному дала бы понять, что, доставляя кассиру удовольствие, Акилина лишь выполняет своего рода супружеский долг; но Кастанье, вдохновляемый привычкой, дошел до таких степеней страсти, что уже ничего не замечал.
— На сегодня у меня ложа в театре Жимназ, — продолжал он, — сядем за стол пораньше, а то придется обедать впопыхах.
— Отправляйтесь с Дженни. Мне надоели театры. Не знаю, что со мной нынче, хотелось бы посидеть у камелька.
— Все-таки пойдем, Наки; уже недолго буду я тебе надоедать. Да, Кики, нынче вечером я уезжаю и довольно долго не вернусь. Оставляю тебя здесь полной хозяйкой. Сохранишь ли ты мне свое сердце?
— Ни сердца, ни чего другого, — ответила она. — Но ты вернешься — и Наки всегда будет твоею Наки.
— Вот это откровенность! Значит, ты со мной не поехала бы?
— Нет.
— Почему?
— Но, — сказала она, улыбаясь, — как же я могу покинуть любовника, который пишет такие милые письма?
И полунасмешливо она показала на сгоревшую бумагу.
— Может ли это быть? — спросил Кастанье. — Неужели ты завела любовника?
— Как? Значит, вам ни разу не случалось взглянуть сак следует на самого себя, милый мой? — ответила Акилина. — Во-первых, вам пятьдесят лет. Потом, лицо у вас такое, что если положить вашу голову на прилавок зеленщицы, она свободно продаст ее за тыкву. Подымаясь по лестнице, вы пыхтите, как тюлень. Живот у вас трепыхается, как бриллиант на голове у женщины… Хоть ты и служил в драгунском полку, все же ты старый урод. Черт побери! Если хочешь сохранить мое уважение, то не советую тебе к этим достоинствам добавлять еще глупость и полагать, что такая девушка, как я, откажется скрасить впечатление от своей астматической любви при помощи цветов чьей-нибудь прекрасной юности.
— Акилина, ты, конечно, шутишь?
— А ты разве не шутишь? Ты думаешь, я, как дура, поверю в твой отъезд? «Нынче вечером я уезжаю», — передразнила она. — Ах, мямля, да разве так ты говорил бы, покидая свою Наки? Ты ревел бы не хуже теленка.
— Ну, а если я уеду, ты приедешь ко мне? — спросил он.
— Скажи сначала, не глупая ли шутка все это твое путешествие?
— Серьезно, я уезжаю.
— В таком случае серьезно я остаюсь. Счастливого пути, дитя мое! Буду тебя ждать. Скорее я расстанусь жизнью, чем с миленьким моим Парижем.
— И ты не захочешь отправиться в Италию, в Неаполь, зажить там приятно, спокойно, роскошно со своим толстячком, который пыхтит, как тюлень?
— Нет.
— Неблагодарная!
— Неблагодарная? — сказала она, вставая с кресла. — Сию же минуту уйду я отсюда в чем мать родила. Я отдала тебе все сокровища юности и то, чего не вернуть даже ценой всей крови твоей и моей. Если бы возможно было как-нибудь, хоть бы заплатив спасением своей души, вернуть девственность моему телу, как вновь обрела я, может быть, девственность души, если бы я могла тогда отдаться любовнику чистая, как лилия, — я не колебалась бы ни минуты! Чем ты вознаградил меня за мою жертву? Ты меня кормил и устраивал мне жилье, руководясь тем же самым чувством, с которым кормят собаку, отводят ей конуру, потому что она — хороший сторож, потому что она принимает побои, когда мы не в духе, и лижет нам руку, едва мы ее позовем. Кто же из нас двоих более щедр?
— Дитя мое, разве ты не видишь, что я шучу? — возразил Кастанье. — Я предпринимаю небольшое путешествие; оно не затянется. А в театр ты со мной поедешь: в полночь я отправлюсь в дорогу, по-хорошему распростившись с тобой.
— Котеночек ты мой, значит, и вправду уезжаешь? — сказала она, притягивая его к себе за шею, чтобы спрятать его голову у себя на груди.
— Задушишь! — кричал Кастанье, уткнувшись носом в грудь Акилины.
Наша девица наклонилась к уху Дженни.
— Пойди скажи Леону, чтобы он приходил в час, не раньше. Если его не застанешь и он придет, пока мы тут будем прощаться, задержи его у себя… Ладно, прекраснейший из тюленей, продолжала она, подняв голову Кастанье и теребя его за нос, — пойду с тобой нынче в театр. А теперь — за стол! Обед не плох, все твои любимые кушанья.
— Нелегко покидать такую женщину, как ты, — сказал Кастанье.
— Чего же ради ты уезжаешь? — спросила она.
— Чего ради? чего ради? Чтобы все объяснить, понадобилось бы рассказать о многом, и ты увидела бы тогда, что моя любовь к тебе доходит до безумия. Коли ты подарила мне свою честь, то ведь и я продал свою, мы квиты. Разве это не любовь?
— Все это пустяки, — сказала она. — Нет, если бы ты сказал мне, что, заведи я любовника, ты все-таки по-прежнему будешь отечески меня любить, вот это была бы любовь! Скажите так сейчас же и дайте лапку.
— Я убил бы тебя, — улыбаясь, ответил Кастанье.
Они уселись за стол, а пообедав, отправились в Жимназ. После первой пьесы Кастанье решил показаться кое-кому из своих знакомых, замеченных им в зале, чтобы как можно дольше не возникали подозрения, что он бежал. Он оставил г-жу де Лагард в ложе (согласно их скромным привычкам, взята была ложа в бенуаре) и пошел пройтись по фойе. Едва сделал он несколько шагов, как увидал Мельмота, от взгляда которого у него возникло уже знакомое чувство тошноты и ужаса; они столкнулись лицом к лицу.
— Мошенник! — крикнул англичанин.
Услыхав это восклицание, Кастанье взглянул на прогуливавшихся кругом людей. Казалось ему, он видит у них на лицах удивление и любопытство, ему захотелось сию же минуту отделаться от англичанина, и он поднял руку, намереваясь нанести пощечину, но почувствовал, что его парализовала неодолимая сила, овладевшая им и пригвоздившая его к полу; чужеземец, не встретив сопротивления, взял его под руку, и они вместе пошли по фойе, как два друга.
— Кто настолько силен, чтобы противиться мне? — сказал англичанин. Разве ты не знаешь, что здесь, на земле, все должно мне подчиняться, что я все могу сделать? Я читаю в сердцах, вижу будущее, знаю прошлое. Я нахожусь здесь, но могу оказаться где угодно! Я не завишу ни от времени, ни от места, ни от расстояния. Весь мир мне слуга. Я обладаю способностью вечно наслаждаться и вечно давать счастье. Мой взор пронизывает стены, видит сокровища, и я черпаю их полными пригоршнями. Кивну головой — воздвигаются дворцы, и строитель мой не знает ошибок. Захочу — и всюду распустятся цветы, нагромоздятся кучи драгоценных каменьев, груды золота, все новые и новые женщины будут моими; словом, все мне подвластно. Я мог бы играть на бирже наверняка, если бы человек, знающий, где скупцы хоронят свое золото, нуждался в чужом кошельке. Так ощути, жалкое существо, объятое стыдом, ощути же мощь держащих тебя тисков. Попытайся согнуть эту железную руку! смягчи крепкое, как адамант, сердце! попробуй укрыться от меня! Даже спрятавшись в глубине проходящих под Сеной подземелий, разве ты перестанешь слышать мой голос? Разве, спустившись в катакомбы, перестанешь ты меня видеть? Мой голос громче громов, ясный свет моих глаз соперничает с солнцем, ибо я равен
Кастанье слушал эту ужасную речь, не будучи в силах ничего возразить, и шел рядом с англичанином, не имея возможности отойти от него.
— Ты мне принадлежишь, ты только что совершил преступление. Наконец-то я нашел себе сотоварища, которого давно искал. Хочешь узнать свою судьбу? Ты собирался посмотреть спектакль, он от тебя не уйдет, ты увидишь два спектакля. Идем! представь меня госпоже де Лагард как лучшего своего друга. Разве не во мне — последняя твоя надежда?
Кастанье вернулся в ложу, его сопровождал чужеземец, которого он, повинуясь только что полученному приказу, поспешил представить г-же де Лагард. Акилину как будто нисколько не удивило появление Мельмота. Англичанин отказался занять переднее место в ложе, он пожелал, чтобы Кастанье сидел рядом со своей возлюбленной. Простейшее желание англичанина являлось приказом, которому следовало повиноваться. Начиналась последняя пьеса. Тогда в маленьких театрах давалось только по три пьесы в вечер. В Жимназ играл тогда актер, который создавал своему театру большой успех. На этот раз Перле должен был играть в «Этампском комедианте», водевиле, где он исполнял четыре различных роли. Когда занавес поднялся, чужестранец простер руку над залом. Кастанье испустил бы крик ужаса, если бы у него не перехватило горло: Мельмот пальцем указал ему на сцену, давая понять, что по его приказу спектакль изменен. Кассир увидал кабинет Нусингена; его патрон совещался со старшим чиновником полицейского управления, который истолковывал ему поведение Кастанье, сообщив, что из кассы похищена некоторая сумма денег, что ущерб нанесен банкиру при помощи подделки, что кассир сбежал. Тотчас же была составлена жалоба, подписана и направлена королевскому прокурору.
— Вы думаете, еще не поздно? — спрашивал Нусинген.
— Нет, — отвечал агент, — он сейчас в Жимназ и ничего не опасается.
Кастанье заерзал на стуле, собираясь уйти; но рука Мельмота опустилась ему на плечо и принудила его остаться на месте — с той ужасающей силой, действие которой мы ощущаем в кошмарном сне. Сам этот человек был воплощенным кошмаром и оказывал гнетущее действие на Кастанье, как насыщенная ядом атмосфера. Когда бедный кассир обернулся с мольбой к англичанину, он встретился с огненным взглядом, излучавшим электрические токи. Кастанье чувствовал себя так, как будто в него вонзились металлические иглы, проткнув его насквозь и пригвоздив к месту.
— Что я тебе сделал? — говорил он в изнеможении, задыхаясь, как загнанный олень на берегу ручья. — Что тебе от меня нужно?
— Гляди! — крикнул ему Мельмот.
Кастанье взглянул на сцену. Декорация уже переменилась; Кастанье увидал на сцене самого себя после спектакля, он и Акилина сходили с экипажа, но когда он входил во двор своего дома на улице Рише, декорация вдруг еще раз переменилась, она изображала теперь внутренность его квартиры. У камина, в комнате хозяйки, Дженни разговаривала с молодым армейским сержантом из парижского гарнизона.
— Уезжает, — говорил сержант, по-видимому человек из состоятельной семьи, — теперь я буду счастлив без помех! Я так люблю Акилину, что не стерплю, чтобы она принадлежала этой старой жабе! Нет, я женюсь на госпоже де Лагард! — восклицал сержант.
«Старая жаба!» — скорбно подумал Кастанье.
— Барыня с барином приехали, прячьтесь! Вот сюда, господин Леон, — говорила ему Дженни. — Барин, должно быть, недолго останется.
Кастанье видел, как сержант живо прятался за платья Акилины в ее гардеробной. Вскоре и сам кассир появился на сцене, он прощался с возлюбленной, которая потешалась над ним, подмигивая Дженни, а ему говорила самые сладкие, самые ласковые слова. Обращаясь к нему — она плакала, обращаясь к горничной — смеялась. Зрители требовали повторения куплетов.
— Проклятая баба! — кричал Кастанье у себя в ложе.
Акилина хохотала до слез, восклицая:
— Боже мой, как потешен Перле в роли англичанки! Что же это? Вы один во всем зале не смеетесь? Смейся, мой котеночек! — говорила она кассиру.
Мельмот так захохотал, что кассира бросило в дрожь. Этот английский хохот выворачивал ему все внутренности и отзывался в мозгу так больно, точно хирург раскаленной сталью трепанировал ему череп.
— Они смеются! Смеются! — конвульсивно произносил Кастанье.
Вместо стыдливой леди, которую так комично представлял Перле, что от ее англо-французского говора готов был лопнуть со смеху весь зал, кассир видел самого себя: он бежал по улице Рише, возле бульвара садился на извозчика, нанимал его в Версаль. Декорация еще раз переменилась. Он увидел плохонькую гостиницу, которую содержал бывший его вахмистр на углу Оранжерейной улицы и улицы Францисканцев. Было два часа утра, царило полнейшее молчание, никто за ним не шпионил; подъехал экипаж; в упряжке были почтовые лошади, и его подали сначала к дому на Парижском авеню, так как из осторожности он был нанят от имени какого-то англичанина, проживавшего там. Кастанье садился в экипаж и ехал. Но, смотря на сцену, Кастанье у заставы увидал пеших жандармов, поджидавших экипаж. Он готов был испустить крик ужаса, но подавил его, встретившись со взглядом Мельмота.
— Смотри дальше и молчи! — сказал англичанин. Вслед за тем Кастанье увидал, как его бросили в тюрьму Консьержери. Потом в пятом акте этой драмы, озаглавленной «Кассир», он увидал себя через три месяца: он выходил из суда, приговоренный к двадцати годам каторги. Еще раз у него вырвался крик, когда он увидал, как его выставили напоказ среди площади Дворца правосудия и как палач клеймил его раскаленным железом. Наконец, в последней сцене он стоял во дворе Бисетра среди шестидесяти каторжников, ожидая, когда до него дойдет очередь и его закуют в кандалы.
— Боже мой! Я больше не в силах смеяться! — говорила Акилина. — Котеночек мой, вы так мрачны! Что с вами? Ваш приятель ушел.
— Два слова, Кастанье, — сказал ему Мельмот в тот момент, когда по окончании пьесы г-жа де Лагард приказала капельдинерше подать манто.
Коридор полон был народу, бегство было невозможно.
— Что скажете?
— Ты проводишь Акилину домой, отправишься в Версаль и там подвергнешься аресту. Нет такой власти человеческой, которая помогла бы тебе избегнуть этого.
— Почему?
— Потому что рука, держащая тебя, не даст тебе уйти, — сказал англичанин.
Кастанье пожалел, что не наделен способностью произнести такие слова, от которых уничтожился бы он сам, исчез бы в глубинах ада.
— Если демон потребует твою душу, не отдашь ли ты ее в обмен на власть, равную божьей власти? Достаточно одного слова, и ты вернешь в кассу барона Нусингена взятые тобой пятьсот тысяч франков. Да и твой аккредитив будет разорван, и исчезнут всякие следы преступления. Наконец, золото потечет к тебе рекой. Ты ни во что не веришь, не правда ли? Ладно, если все это произойдет, ты поверишь по крайней мере в черта?
— Ах, если бы было возможно! — радостно воскликнул Кастанье.
— Тебе порукой тот, — ответил англичанин, — кто может сделать вот это…
И, стоя в ту минуту с Кастанье и г-жой де Лагард на бульваре, Мельмот протянул руку. Моросил мелкий дождь, земля была грязной, атмосфера тяжелой, а небо — черным. Едва простерлась рука этого человека — и солнце осветило Париж. Кастанье казалось, что сияет прекрасный июльский полдень. Деревья были покрыты листьями, по-праздничному расфранченные парижане весело прогуливались в два ряда. Продавцы «кокосового напитка» кричали: «А вот освежающий! А вот прохладительный!» Катясь по мостовой, сверкали экипажи. Кассир испустил крик ужаса. И тогда бульвар снова стал серым и мрачным. Г-жа де Лагард села в экипаж.
— Да скорей же, друг мой, — сказала она, — садись или уж оставайся. Право, нынче ты скучен, как этот дождь.
— Что же нужно сделать? — сказал Кастанье Мельмоту.
— Хочешь со мной поменяться местами? — спросил у него англичанин.
— Да.
— Прекрасно. Через несколько минут буду у тебя.
— Что же это, Кастанье? Ты не в духе, — говорила ему Акилина. — Ты затеваешь что-то неладное, в театре ты был так мрачен и задумчив… Милый друг, не нужно ли тебе чего? Не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Ну, скажи хоть словечко!
— Я подожду, пока мы вернемся домой, — тогда узнаю, любишь ли ты меня.
— Нет нужды ждать, — ответила она, бросаясь ему на шею, — вот как люблю!
Она обнимала его, казалось, очень страстно, осыпала ласками, но в этом у подобных созданий проявляются профессиональные навыки, как у актрисы — в сценической игре.
— Откуда музыка? — сказал Кастанье.
— Ну вот! Дошел уж до того, что слышишь какую-то музыку.
— Небесная музыка! — продолжал он. — Можно подумать, что звучит где-то в вышине.
— Ты никогда не хотел брать ложу в Итальянский театр, говорил, что терпеть не можешь музыку, а теперь вдруг стал меломаном, и еще в такой час! Да ты с ума сошел! Это у тебя в башке музыка, повредилась дряхлая твоя головушка! — сказала она, обхватывая руками его голову и укладывая ее себе на плечо. — Скажи, папаша, быть может, запели колеса кареты?
— Наки, прислушайся! Если бы ангелы играли на струнах для благого творца, их музыка звучала бы так, как звучат эти аккорды. Я впиваю их слухом, они проникают во все мои поры… Не знаю, как тебе описать; это сладостно, точно медовый напиток!
— Конечно, ангелы играют на струнах для благого творца, ведь ангелов всегда рисуют с арфами.
«Честное слово, он сошел с ума», — подумала она, видя, что Кастанье застыл, словно курильщик опиума, погруженный в экстаз.
Приехали домой. Кастанье, поглощенный всем только что виденным и слышанным и не зная, верить или сомневаться, похож был на пьяницу, утратившего разум. Он пробудился в комнате Акилины, куда его возлюбленная вместе со швейцаром и Дженни перенесла его, потому что, сходя с экипажа, он потерял сознание. — Друзья мои, друзья мои, он сейчас придет! — сказал он в отчаянии, бросаясь в глубокое кресло возле камина.
В эту минуту Дженни услыхала звонок, пошла открывать и сообщила о приходе англичанина, — или, как она доложила, «какого-то господина, которому барин назначил свидание». И сразу же предстал Мельмот. Воцарилось молчание. Он взглянул на швейцара — швейцар ушел. Он взглянул на Дженни — Дженни ушла.
— Сударыня, — сказал Мельмот куртизанке, — позвольте нам закончить дело, не терпящее отлагательства.
Он взял Кастанье за руку, Кастанье встал. Идя в гостиную, они не захватили с собою свечи, ибо взгляд Мельмота осветил бы самый глубокий мрак. Зачарованная странным взглядом незнакомца, Акилина чувствовала, что силы покинули ее, она не могла позаботиться о тайном своем любовнике; впрочем, как она полагала, Леон должен был спрятаться у горничной, между тем Дженни, захваченная врасплох быстрым возвращением Кастанье, заперла его в гардеробной, совсем как в сцене из той драмы, которую в театре играли для Мельмота и его жертвы. Дверь гостиной с силой захлопнулась, и вскоре снова явился Кастанье.
— Что с тобой? — в ужасе вскричала его возлюбленная.
Кассир преобразился. Красноватый цвет лица сменился той же странной бледностью, которая придавала чужеземцу зловещий и холодный вид. Глаза метали мрачный пламень, причинявший боль невыносимым своим блеском. Уже не добродушие, а деспотизм и гордость сквозили в его облике. Куртизанка заметила, что Кастанье стал худее, лоб его казался ей величественно ужасным, от драгуна исходило то страшное влияние, которое подавляло других, как тяжкая атмосфера. С минуту Акилина ощущала какую-то стесненность.
— Что сейчас произошло между тобой и этим дьявольским человеком? — спросила она.
— Я продал ему свою душу. Чувствую, что я уже не тот. Он взял себе мое бытие, а свое отдал мне.
— Как это?
— Тебе ничего не понять… А! он был прав, этот демон, — холодно продолжал Кастанье. — Я вижу все и все знаю. Ты меня обманывала!
От таких слов Акилина оцепенела. Кастанье зажег свечу и пошел в гардеробную. Несчастная девушка последовала за ним, и как же велико было ее изумление, когда Кастанье, раздвинув платья на вешалке, обнаружил сержанта!
— Выходите, милый мой, — сказал он и, взяв Леона за пуговицу сюртука, повел его за собой в спальню.
Растерявшись, побледневшая пьемонтка бросилась в кресло. Кастанье уселся на диванчике у камина, предоставив любовнику Акилины стоять перед ним.
— Вы бывший военный, — сказал Леон, — я готов дать вам удовлетворение.
— Как вы глупы, — сухо ответил Кастанье. — Мне нет нужды в дуэли, кого хочу, я убью взглядом. Дитя, я расскажу вам вашу историю. К чему мне вас убивать? У вас на шее я вижу красную полосу. Вас ждет гильотина. Да, вы умрете на Гревской площади. Вы — достояние палача, ничто не может вас спасти. Вы принимаете участие в венте карбонариев.[4] Вы участвуете в заговоре против правительства.
— Об этом ты мне не говорил! — крикнула пьемонтка Леону.
— Так, значит, вы не знаете, — продолжал кассир, — что министерство нынче утром решило принять меры против вашего сообщества? Генеральный прокурор получил ваши списки. Предатели на вас донесли. В настоящий момент собираются материалы для обвинительного акта.
— Так это ты его предал? — сказала Акилина, взревев как львица, и поднялась, готовая растерзать Кастанье.
— Ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы этому поверить, — ответил Кастанье с хладнокровием, заставившим оцепенеть его возлюбленную.
— Как же ты об этом узнал?
— До того как я вошел в гостиную, я ничего не знал, но теперь я все вижу, все знаю, все могу.
Сержант остолбенел.
— Тогда спаси его, мой друг! — воскликнула Акилина, бросаясь перед Кастанье на колени. — Спасите его, раз вы все можете сделать! Я буду вас любить, обожать, не любовницей, но рабой буду я. Самым разнузданным прихотям вашим я буду покорна… будешь делать со мной, что захочешь. Да, больше чем любовь к вам я обрету в себе; то будет дочерняя покорность и вместе с тем… Но… пойми же, Родольф! Словом, какие бы страсти ни владели мной, я всегда буду твоей! Какими еще словами можно тебя растрогать?.. Я изобрету наслаждения… я… Боже мой! Чего бы ты от меня ни потребовал, хотя бы выброситься в окно, тебе достаточно будет напомнить: Леон! и я ринусь в ад, готова буду претерпеть всяческие мучения, всяческие болезни, всяческие горести, все, что ты мне прикажешь.
Кастанье оставался невозмутимым. В ответ он лишь указал на Леона, произнеся с адским хохотом:
— Его ждет гильотина.
— Нет, он отсюда не уйдет, я его спасу! — воскликнула она. — Да, я убью того, кто к нему прикоснется! Почему ты не хочешь его спасти? — кричала она звенящим голосом; глаза ее пылали, волосы растрепались. — Ты можешь это сделать?
— Я все могу.
— Почему же ты не спасешь его?
— Почему? — крикнул Кастанье, и от его голоса задрожал пол. — Я мщу! Злые дела — это мое ремесло.
— Как? Он умрет? — восклицала Акилина. — Умрет мой возлюбленный? Возможно ли?
Она бросилась к комоду, схватила лежавший в корзинке стилет и подошла к Кастанье, который только рассмеялся.
— Ты отлично знаешь, что сталь меня не берет… Рука Акилины ослабла, как вдруг у арфы слабеет перерезанная струна.
— Уходите, милый друг, — сказал кассир, обращаясь к сержанту, занимайтесь своим делом.
Он протянул руку, и военный был принужден подчиниться необоримой силе, исходившей от Кастанье.
— Здесь я у себя дома, я мог бы послать за полицейским комиссаром, выдать ему человека, забравшегося ко мне, но предпочитаю вернуть вам свободу: я демон, а не шпион.
— Я уйду с ним! — сказала Акилина.
— Иди, — ответил Кастанье. — Дженни, Дженни! — Появилась Дженни. — Пошлите швейцара нанять им извозчика. — Вот тебе, Наки, — сказал Кастанье, вытаскивая из кармана пачку банковых билетов. — Ты не уйдешь нищенкой от человека, который еще любит тебя.
Он протянул ей триста тысяч франков. Акилина схватила их, швырнула на землю, плюнула на них и, в бешенстве отчаяния топча их ногами, сказала:
— Мы с ним уйдем пешком, не возьмем от тебя ни гроша. А ты, Дженни, оставайся.
— Прощайте, — ответил кассир, подбирая деньги. — Ну, а я вернулся из своей поездки… Дженни! — сказал он, взглянув на остолбеневшую горничную, — мне кажется, ты славная девушка. Ты осталась без хозяйки, иди ко мне! На нынешний вечер у тебя будет хозяин.
Всего опасаясь, Акилина быстро направилась вместе с Леоном к одной из своих подруг. Но он был на подозрении у полиции, за каждым его шагом следили. Спустя короткое время его арестовали вместе с тремя его товарищами, как сообщали о том газеты.
Кассир чувствовал, что он совершенно изменился, и духовно и физически. Того Кастанье, который когда-то в прошлом был влюбленным юношей, храбрым военным, одураченным и разочарованным мужем, кассиром, преступником из-за страстной любви, — больше не существовало. Его внутренний облик был разрушен. Мгновенно раздался в ширину его лоб, обострились ощущения. Его мысль объяла весь мир, он все видел, точно его поместили на необычайные высоты, Перед тем как пойти в театр, он испытывал безумнейшую страсть к Акилине; он был готов закрыть глаза на ее измены, только бы не расставаться с ней; это слепое чувство исчезло, как облако тает от солнечных лучей. Довольная тем, что заступила место своей хозяйки и завладела ее богатством, Дженни исполняла все желания кассира. Но Кастанье, получивший способность читать в душах, открыл истинную причину ее покорности, чисто физической. Он насладился этой девушкой с коварной жадностью — так ребенок съедает сочную мякоть вишни, а косточку бросает. На следующий день, за завтраком, когда Дженни чувствовала себя барыней и хозяйкой дома, Кастанье повторил ей слово за словом, мысль за мыслью, все, о чем она размышляла, прихлебывая кофе.
— А знаешь, малютка, что ты думаешь? — сказал он, улыбнувшись. — Вот что: «Прекрасная мебель палисандрового дерева, о которой я так мечтала, и прекрасные платья, которые я примеряла, стали, наконец, моими! И стоили они мне какую-то ерунду, в которой почему-то барыня ему отказывала. Честное слово, чтобы разъезжать в карете, получать дорогие уборы, занимать ложу в театре да сколотить себе ренту, — ради этого я дала бы ему столько наслаждений, что он сдох бы, не будь он крепок, как турок. Никогда не встречала подобного мужчины!» Ведь верно? — продолжал он таким тоном, что Дженни побледнела. — Да, дочь моя, это тебе не по силам, для твоего блага отпускаю тебя, ты бы себя замучила насмерть. Ладно, расстанемся друзьями.
И он равнодушно ее отослал, уплатив ей весьма незначительную сумму.
Ужасную власть, купленную ценою вечного блаженства, Кастанье прежде всего решил всецело употребить на полное удовлетворение своих инстинктов. Приведя дела свои в порядок и без труда сдав счета г-ну де Нусингену, назначившему в преемники ему какого-то честного немца, он захотел устроить вакханалию, достойную лучших дней Римской империи, и с отчаянием предался наслаждениям, как Валтасар на последнем своем пиру. Но, подобно Валтасару, он ясно видел излучающую свет руку, которая в самый разгар наслаждений чертила ему приговор, только не на стенах тесной залы, а на тех беспредельных сводах, где выступает радуга. В самом деле, его пир был не оргией, ограниченной рамками какого-нибудь банкета, а расточительной игрою всех сил и всяческих наслаждений. Праздничным чертогом была как бы вся земля, уже сотрясавшаяся у него под ногами. То был последний пир расточителя, который ни о чем уже не думает. Полными пригоршнями черпая в сокровищнице человеческого сладострастия, ключ от которой вручил ему демон, он быстро опустошил ее до дна. Сразу захваченная, неимоверная власть сразу же была испытана, обречена и обессилена. Что было всем, стало ничем. Нередко случается, что обладать, значит — убить самые грандиозные поэмы, созданные желанием, так как достигнутая цель редко соответствует мечтам. Такую плачевную развязку, свойственную некоторым страстям, таило в себе и всемогущество Мельмота. Тщета природы человеческой вдруг открылась его преемнику, которому наивысшая власть принесла с собою в дар ничтожность. Чтобы лучше понять то удивительное положение, в котором очутился Кастанье, следовало бы мысленно рассмотреть все пережитые им внезапные изменения и понять, сколь часто они совершались, — обо всем этом трудно составить себе понятие людям, скованным законами времени, места и расстояний. Возросшие его способности изменили прежний характер связей между миром и им самим. Подобно Мельмоту, Кастанье мог в несколько мгновений очутиться в цветущих долинах Индостана, мог пронестись, как крылатый демон, над пустынями Африки и скользить по морям. Как ясновидение позволяло ему постигать любой материальный предмет и самые сокровенные мысли любого человека, лишь только Кастанье устремлял на него свой взор, — точно так же его язык сразу как бы схватывал все вкусовые ощущения. Его желания подобны были топору деспота, срубающего дерево для того, чтобы достать плоды. Для него не существовало больше никаких переходов, никаких чередований, которые горе сменяют радостью и вносят разнообразие во все наслаждения человеческие. Его небо, ставшее непомерно чувствительным, вдруг пресытилось, налакомившись всем. Два наслаждения — женщиной и вкусной пищей — были до такой степени им изведаны с тех пор как он мог лакомиться ими до пресыщения, что ему не хотелось больше ни есть, ни любить. Зная, что ему подвластна будет любая женщина, какую он ни пожелал бы, зная, что он наделен силой, не знающей поражений, он более не желал женщин; заранее видя их покорными самым беспутным прихотям, он ощущал в себе ужасную жажду любви, он желал такой любви, которой женщины ему не могли дать. Единственное, в чем отказал ему мир, — это вера и молитва, два вида любви, умиленной и целительной. Ему покорялись. Какое ужасное состояние! Потоки скорби, мыслей и наслаждений, потрясавшие его тело и душу, одолели бы самую могучую человеческую натуру, — но в нем заключалась жизненная сила, соответствующая мощи обуревавших его чувствований. Он ощущал в себе какую-то беспредельность, удовлетворить которую земля уже не могла. Он проводил целые дни в томлении, простирая свои крылья, желая пронестись через сияющие сферы, которые он воспринимал интуицией, отчетливой и полной отчаяния. Он внутренне иссох, ибо взалкал и возжаждал того, чего не едят и не пьют, но что влекло его неудержимо. Его губы, как у Мельмота, пламенели от желаний, он задыхался от тоски по
— Нет нужды спрашивать, почему вы явились сюда, — обратилась к Кастанье старая привратница, — так вы похожи на дорогого нашего покойника. Но если вы и впрямь его брат, слишком поздно пришли вы, чтобы проститься с ним. Славный джентльмен умер позавчера ночью.
— Как он умирал? — спросил Кастанье у одного из священников.
— Будьте спокойны, — отвечал ему старый священник, приподнимая черное сукно покрова.
Кастанье увидал перед собой одно из тех лиц, которым вера придает возвышенный характер, тех лиц, в которых как бы светится душа, озаряя других людей и согревая их чувством непрестанного милосердия. Священник был духовником сэра Джона Мельмота.
— Завидна кончина вашего почтенного брата, — продолжал священник, ангелы возликуют. Вы знаете, какой радостью исполняются небеса при обращении грешной души. По милости божией слезы раскаяния текли у него, не иссякая, одна лишь смерть могла их остановить. Дух святой почил на нем. Его речи, пылкие и живые, достойны были царя-пророка. Ежели за всю мою жизнь я не слышал ничего ужаснее, чем исповедь этого ирландского дворянина, то никогда не слыхивал я и молитв более пламенных. Как ни глубоки его прегрешения, своим раскаянием в одну минуту он до краев заполнил эту бездну. Рука господня явственно простерлась над ним, ибо черты лица его изменились до неузнаваемости, столь святая красота обнаружилась в них. Его суровые глаза смягчились от слез; его голос, устрашавший своими раскатами, приобрел нежность и мягкость, свойственные речам людей смиренных. Его слова так возвышали души окружающих, что особы, привлеченные зрелищем сей христианской кончины, падали на колени, слушая, как он прославляет бога, как говорит о его бесконечном величии и повествует о жизни на небесах. Ежели и ничего не оставил он своим родственникам, зато, конечно, они получили такое благо, выше которого нет ничего для семьи усопшего, — святого заступника, который бдит над всеми вами и приведет вас на путь праведный.
Такие слова оказали столь сильное действие на Кастанье, что он немедленно ушел и направился к церкви св. Сульпиция, подчиняясь какому-то року: раскаяние Мельмота его ошеломило. То были годы, когда знаменитый своим красноречием священник в установленные дни произносил по утрам проповеди, поставив себе целью доказать истины католической веры современному юношеству, о чьем безразличии к вопросам религии провозгласил другой, не менее красноречивый оратор. Проповедь была приурочена к похоронам ирландца. Кастанье явился как раз в тот момент, когда проповедник с чарующей умилительностью, с той проникновенностью, которой он и обязан был своей славой, уже подводил итог доказательствам предстоящего нам блаженства. Отставной драгун, в которого вселился демон, находился в состоянии, особенно благоприятном для того, чтобы не бесплодно упало семя божественных слов, истолкованных священником. В самом деле, разве нельзя считать установленным нравственное явление, именуемое в народе «верой угольщика»? Сила веры находится в прямой зависимости от того, какое дал человек употребление своему разуму. Это видно по людям простым, по солдатам. Кто всю свою жизнь брел под стягом инстинкта, тот более способен воспринять свет истины, чем люди, утомившие ум и сердце тонкостями мира сего. С шестнадцати лет почти до сорока Кастанье, по происхождению южанин, служил французскому знамени. Простому кавалеристу, обязанному сражаться и нынче, и вчера, и завтра, приходилось больше думать о своем коне, чем о самом себе. Пока он обучался военному делу, не много оставалось у него времени для размышления о предстоящем человеку будущем. Став офицером, он занялся солдатами, он перекочевывал с одного поля битвы на другое, никогда не думая о том, что будет после смерти. Особой работы ума военная служба не требует. Люди, неспособные подняться до высших соображений, объемлющих взаимные связи наций, планы политические не менее, чем план кампании, военную тактику и тактику администратора, — живут в таком же невежестве, как самый грубый крестьянин самой отсталой французской провинции. Они наступают, покорно повинуются голосу командира и убивают людей, оказавшихся на их пути, как дровосек рубит деревья в лесу. Они постоянно переходят то к схваткам, требующим полного применения физических сил, то к отдыху, во время которого восстанавливаются их силы. Они разят и пьют вино, они разят и едят, разят и спят, для того чтобы еще лучше разить. В этом вихре духовные способности изощряются мало. Душевная жизнь сохраняет у таких людей свою природную простоту. Когда они, столь энергичные на поле битвы, возвращаются в цивилизованную среду, то оказывается, что в большинстве случаев те, кто оставался в низших чинах, не обнаруживают ни выработанных взглядов, ни способностей, ни значительности. Вот отчего юное поколение и удивлялось тому, что люди, принадлежавшие к нашим грозным и славным армиям, по развитию своему стоят не выше приказчика, что они простоваты, как дети. Капитан императорской гвардии, поражавшей врагов, едва способен выписывать квитанции в конторе газеты. Ветераны сохраняют девственность в области умозаключений, зато душа их покоряется сильным импульсам. Преступление, совершенное Кастанье, относится к фактам, возбуждающим столько вопросов, что моралисту, обсуждая его, следовало бы его расчленить (если воспользоваться словечком парламентского языка). Это преступление было внушено страстью, женским колдовством, которое бывает иногда таким непреодолимым и жестоким, что если сирена вступит в борьбу и изощрит свое обаяние, она доводит мужчину до галлюцинаций, он ни о чем не может сказать: «Этого я никогда не сделаю». Итак, живое слово было воспринято сознанием человека, еще незнакомого с религиозными истинами, которыми в условиях Французской революции и своей военной профессии Кастанье не интересовался. Ужасная фраза: «Вас ждет блаженство или муки на веки веков!» — поразила его с особенной силой, так как земля уже ничего ему не давала, словно он тряс дерево, лишенное плодов, а он, всемогущий в своих желаниях, стремился лишь к тому уголку земли или неба, который был для него запретен. Если позволительно сопоставлять столь высокие явления с нелепостями общественной жизни, то он походил на некоторых банкиров-миллионеров: все доступно им в обществе, но, раз их не принимает знать, они только и думают о том, как бы с ней свести знакомство, и ни во что не ставят все добытые ими социальные привилегии, если им отказано только лишь в одной. Человек более могущественный, чем все короли вместе взятые, человек, способный, подобно сатане, бороться с самим богом, стоял, прислонившись к пилястру церкви св. Сульпиция, согнувшись под бременем чувства, и погружался в мысль о будущем — мысль, до него поглотившую и Мельмота.
— Счастливец! — воскликнул Кастанье. — Он умирал в уверенности, что пойдет на небо.
Мгновенно величайший переворот произошел в мыслях кассира. Побыв несколько дней демоном, он был теперь лишь человеком, воплощением того первородного греха, о котором повествуют все космогонии. Но, снова став малым по видимости, он приобрел основу величия, он закален был созерцанием бесконечности. Обладая адским могуществом, он постиг могущество божественное. Он сильнее жаждал небесного блаженства, чем прежде алкал земных наслаждений, исчерпанных так быстро. Обещаемые демоном удовольствия это те же земные удовольствия, только в большем размере, тогда как наслаждения небесные беспредельны. И вот он поверил в бога. Слово, предоставлявшее ему сокровища мира, потеряло для него всякое значение, и сами сокровища показались ему такими же ничтожными, как булыжники в глазах знатока бриллиантов; они представлялись ему стекляшками, в сравнении с вечными красотами иной жизни. Мирские блага были в его глазах проклятием. В пучину мрака и скорбных мыслей погрузился он, слушая отпевание Мельмота. «Dies irae»[5] его устрашило. Он постиг во всем его величии этот вопль кающейся души, трепещущей перед всемогуществом божьим. Его испепелял святой дух, как пламя испепеляет солому. Слезы потекли у него из глаз.
— Вы родственник покойника? — спросил причетник.
— Наследник, — отвечал Кастанье.
— Пожертвуйте на причт! — обратился к нему привратник.
— Нет, — отвечал кассир, не желавший давать церкви дьяволовы деньги.
— На бедных!
— Нет.
— На обновление храма!
— Нет.
— На часовню девы Марии!
— Нет.
— На семинарию!
— Нет.
Кастанье отошел в сторону, чтобы не привлекать раздраженных взоров служителей церкви.
«Почему, — подумал он, оглядывая церковь св. Сульпиция, — почему люди воздвигли эти гигантские соборы, встречавшиеся мне во всех странах? Чувство, разделяемое массами во все времена, должно быть на чем-то основано».
«Для тебя бог — „что-то?“ — кричало ему сознание. — Бог! бог! бог!»
Отозвавшись внутри, слово это угнетало его, но ощущение страха смягчилось далекими аккордами сладостной музыки, которую он неявственно слышал и прежде. Эти гармонические звуки он принял за церковное пение и окинул взглядом портал. Но, прислушавшись внимательнее, он заметил, что звуки доносились к нему со всех сторон; он выглянул на площадь — музыкантов там не оказалось. Эта мелодия несла его душе поэзию лазури и дальние лучи надежды, но вместе с тем она усиливала и угрызения совести, мучившие проклятого грешника, который побрел по парижским улицам, как бредет человек, подавленный горем. Он смотрел на все невидящими глазами, он шел, как праздношатающийся; беспричинно останавливался, сам с собой разговаривал, не заботился о том, как бы его не ударило доской, не зацепило колесом экипажа. Раскаяние неприметно погружало его в чувство благодати, заставляющее сердца человеческие трепетать от нежности и страха. В его лице, как и у Мельмота, вскоре появилось нечто величественное и вместе с тем какая-то рассеянность; холодное выражение печали, как у человека, предавшегося отчаянию, и беспокойный трепет, возбуждаемый надеждой; но более всего его охватывало отвращение ко всем благам этого ничтожного мира. В глубине его глаз, пугавших своим блеском, таилась смиренная молитва. Он страдал из-за своей власти. От страстных волнений его души согбенным сделалось его тело — так порывистый ветер сгибает высокие ели. Подобно своему предшественнику, он не мог расстаться с жизнью, ибо не хотел умереть подвластным аду. Муки его становились невыносимы. Наконец, однажды утром он подумал: ведь Мельмот, достигший теперь блаженства, предложил ему некогда обмен, и он на это согласился; вероятно, и другие поступили бы, как он; в эпоху рокового равнодушия к религии, провозглашенного теми, кто унаследовал красноречие отцов церкви, не трудно будет ему встретить человека, который подчинится условиям договора, чтобы воспользоваться его выгодами.
«Есть такое место, где котируется королевская власть, где прикидывают на весах целые нации, где выносится приговор политическим системам, где правительства расцениваются на пятифранковые монеты, где идеи и верования переведены на цифры, где все дисконтируется, где сам бог берет взаймы и в качестве гарантии оставляет свои прибыли от душ человеческих, ибо у папы римского имеется там текущий счет. Если где покупать душу, то, конечно, там».
Радостно Кастанье направился к бирже, думая, что приторгует себе душу, как заключают сделку на государственные процентные бумаги. Всякий обыватель побоялся бы, не подымут ли его на смех, но Кастанье знал по опыту, что человек отчаявшийся все принимает всерьез. Как приговоренный к смертной казни выслушает сумасшедшего, когда тот будет ему говорить, что, произнеся бессмысленные слова, можно улететь сквозь замочную скважину, — так и страдающий человек становится легковерным и отвергает какой-нибудь замысел только в случае полной его неудачи, подобно пловцу, уносимому течением, который отпускает веточку прибрежного куста, если она оторвется. К четырем часам дня Кастанье появился среди людей, которые по окончании котировки государственных бумаг собираются в группы, заключая сделки на частные бумаги и производя операции чисто коммерческие. Дельцы его знали, и он, прикинувшись, что кого-то разыскивает, мог подслушивать, не говорят ли где о людях, запутавшихся в делах.
— Ни за что, милый мой! Бумагами Клапарона и компании не занимаюсь. Банковский рассыльный унес сегодня обратно все их векселя, — бесцеремонно сказал кому-то толстяк-банкир. — Если у тебя они есть, забудь о них.
Упомянутый Клапарон вел во дворе оживленную беседу с господином, про которого было известно, что он учитывает векселя из ростовщических процентов. Тотчас же Кастанье направился к Клапарону, биржевику, известному тем, что он ставил крупные куши, рискуя или разориться, или разбогатеть.
Когда Кастанье подошел к Клапарону, с ним только что расстался ростовщик, и у спекулянта вырвался жест отчаяния.
— Итак, Клапарон, вам сегодня вносить в банк сто тысяч франков, а теперь уже четыре часа: значит, времени нехватит даже на то, чтобы подстроить банкротство, — сказал ему Кастанье.
— Милостивый государь!
— Потише, — продолжал кассир. — А что, если я вам предложу одно дельце, которое даст вам потребную сумму?..
— Оно не даст мне покрыть мои долги, — ведь не бывает таких дел, которые можно состряпать сразу.
— А я знаю дельце, которое покроет их сию же минуту, — ответил Кастанье, — только оно потребует от вас…
— Чего?
— Продажи вашего места в раю. Чем это дело хуже других? Все мы акционеры великого предприятия вечности.
— Известно ли вам, что я могу дать вам пощечину? — сказал Клапарон, рассердившись. — Позволительно ли так глупо шутить с человеком, когда он в беде!
— Говорю вполне серьезно, — отвечал Кастанье, вынимая из кармана пачку банковых билетов.
— Имейте в виду, — сказал Клапарон, — я не продам свою душу дьяволу за гроши. Мне необходимо пятьсот тысяч франков, чтобы…
— Кто же станет скаредничать? — прервал его Кастанье. — Вы получите столько золота, что оно не вместится в подвалы банка.
Он протянул огромную пачку билетов, убедительно подействовавшую на спекулянта.
— Ладно! — сказал Клапарон. — Но как это устроить?
— Пойдемте вон туда, там никого нет, — ответил Кастанье, указывая на уголок двора.
Клапарон и его соблазнитель обменялись несколькими фразами, уткнувшись в стену. Никто из наблюдавших за ними не догадался о теме их секретной беседы, хотя все были живо заинтригованы странной жестикуляцией обеих договаривавшихся сторон. Когда Кастанье вернулся, гул изумления вырвался у биржевиков. Как на французских званых вечерах, где малейшее событие привлекает общее внимание, все обратили взор на двух людей, вызвавших этот гул, и не без ужаса увидали происшедшую в них перемену. На бирже все прохаживаются и беседуют, каждый участник этого сборища всем знаком, за каждым наблюдают, — ведь биржа — подобие стола, за которым играют в бульот, причем люди опытные всегда угадают по физиономии человека, каковы его игра и состояние кассы. Итак, все обратили внимание на лицо Клапарона и лицо Кастанье. Последний, подобно ирландцу, был мужчиной жилистым и крепким, глаза его сверкали, цвет лица отличался яркостью. Всякий дивился его лицу, величественно ужасающему, спрашивая себя, откуда оно взялось у добродушного Кастанье; но, лишившись власти, Кастанье сразу увял, покрылся морщинами, постарел, одряхлел. Когда он уводил Клапарона, он похож был на горячечного больного или же наркомана, который довел себя опиумом до экстаза; а возвращался он осунувшийся, точно после приступа горячки, когда больной готов испустить дух, или словно в состоянии ужасной прострации от злоупотребления наркотиками. Адское одушевление, позволявшее ему переносить разгульную жизнь, исчезло: тело, лишившись его, оказалось истощенным, без помощи и опоры против угрызений совести и тяжести истинного раскаяния. Напротив, когда появился Клапарон, тревоги которого ни для кого не составляли тайны, его глаза сверкали, а на лице была запечатлена гордость Люцифера. Банкротство перешло с одного лица на другое.
— Подыхайте с миром, старина, — обратился Клапарон к Кастанье.
— Умоляю, пришлите мне экипаж и священника, викария от святого Сульпиция! — ответил отставной драгун, присаживаясь на тумбу.
Слово «священника» донеслось до многих, и зубоскалы биржевики весело загалдели в ответ, — ведь если они во что и верят, то разве лишь в то, что клочок бумаги, именуемый записью, стоит поместья. Главная книга государственного казначейства — вот их библия.
— Хватит ли мне времени достойно принять кончину? — сам себе сказал Кастанье жалким голосом, поразившим Клапарона.
Извозчик увез умирающего. Спекулянт поспешил в банк заплатить по векселям. Впечатление от внезапной перемены в физиономии их обоих стерлось в толпе, как след от корабля расходился по морю. Внимание биржевого мира привлекла гораздо более важная новость. Когда вступают в игру все денежные интересы, тогда сам Моисей, появись он здесь со своими светящимися рогами, едва ли был бы удостоен даже каламбура, — люди, занятые репортами, отвергли бы его. После оплаты векселей Клапарона объял страх. Он уверился в своей власти, вернулся на биржу и предложил сделку людям, также запутавшимся в делах. «Запись в главной книге адского казначейства и связанные с пользованием оной права», по выражению нотариуса, ставшего преемником Клапарона, были куплены за семьсот тысяч франков. Свои права по дьявольскому договору нотариус переуступил за пятьсот франков подрядчику, который избавился от них за сто тысяч экю, передав договор торговцу скобяным товаром, а тот переуступил его за двести тысяч франков плотнику. Наконец, в пять часов уже никто не верил в этот удивительный контракт, и сделки остановились за отсутствием доверия.
В половине шестого держателем этой ценности оказался маляр, который стоял, прислонившись к двери временного здания биржи, в те годы находившегося на улице Фейдо. Маляр был человек простой и не знал, что с ним творится. «Со мной было этакое», — сказал он жене, вернувшись домой.
Как известно всем фланерам, улицу Фейдо обожают молодые люди, которые, за отсутствием любовницы, готовы сочетаться со всеми особами женского пола. Во втором этаже дома, отличавшегося отменной мещанской благопристойностью, жило очаровательное существо из числа тех, что награждены по милости неба редчайшей красотой, но, не имея возможности стать ни герцогинями, ни королевами, ибо хорошеньких женщин на свете гораздо больше, чем титулов и тронов, довольствуются биржевым маклером или банкиром, доставляя им счастье по установленной цене. За этой красивой и славной девушкой, по имени Ефрасия, волочится писец нотариальной конторы, карьерист свыше всякой меры. В самом деле, младший писец нотариуса Кротта влюбился в нее, как может влюбиться молодой человек двадцати двух лет. Писец зарезал бы папу и всю священную коллегию кардиналов из-за жалкой сотни луидоров, которая требовалась, чтобы приобрести Ефрасии шаль, вскружившую ей голову, в обмен на эту шаль горничная и посулила писцу свою хозяйку. Влюбленный молодой человек шагал взад и вперед под окнами Ефрасии, как в Зоологическом саду ходят по клетке белые медведи. Засунув руку за жилет, он приложил ее к левой стороне груди, готовый на части разорвать сердце, а пока что крутил эластические свои подтяжки.
— Как добыть десять тысяч франков? — вслух рассуждал он сам с собою. — Присвоить ту сумму, которую надлежит зарегистрировать в акте о продаже? Боже мой! неужели таким займом я разорю покупателя, обладателя семи миллионов!.. Отлично, завтра брошусь ему в ноги, скажу: «Милостивый государь! Я взял у вас десять тысяч франков, мне двадцать два года, я люблю Ефрасию, — вот повесть о моих деяниях. Отец у меня богатый, он вам возместит, не губите меня! Разве вам самим не было когда-то двадцать два года, разве не безумствовали вы от любви?» Подлые эти собственники, да есть ли у них душа? Мой миллионер не только не расчувствуется, а попросту напишет на меня донесение королевскому прокурору. Проклятие! если бы можно было продать душу дьяволу! Но нет ни бога, ни дьявола, все это чепуха, все только сказки да болтовня старух. Как быть?
— Если вам угодно продать душу дьяволу, — сказал ему маляр, подслушавший речи писца, — вы получите десять тысяч.
— Ефрасия будет моя, — сказал писец, поспешно заключая сделку, предложенную дьяволом, который принял облик маляра.
По заключении договора неистовый писец отправился за шалью и явился к Ефрасии; так как дьявольская сила была в его теле, он провел у нее безвыходно двенадцать дней, растратив свой рай целиком, думая лишь о любви и ее оргиях, в которых потонуло воспоминание об аде и его привилегиях. Так затерялась огромная власть, приобретенная благодаря открытию ирландца, сына достопочтенного Матюрена.
Востоковедам, мистикам и археологам, занимавшимся подобными вопросами, не удалось исторически установить, как можно вызвать демона. Произошло это вот почему.
На тринадцатый день после неистовых наслаждений несчастный писец лежал на одре в чердачном помещении дома на улице Сент-Оноре, принадлежавшего его патрону. Стыд, — эта тупая богиня, не дерзающая на себя смотреть, — овладел заболевшим молодым человеком; решил он лечиться сам и ошибся в дозе того целебного снадобья, которое составил ему некий гений, весьма популярный на окраинах Парижа. Таким образом, от тяжести ртути писец умер, и труп его был черен, как кротовая спина. Очевидно, один из дьяволов побывал здесь, но какой? Может быть, Астарот?
— Уважаемый юноша перенесен на планету Меркурий, — сказал старший писец немецкому демонологу, явившемуся исследовать это событие.
— Что ж, это вполне вероятно, — ответил немец.
— Вот как?
— Да, милостивый государь, подобное мнение находится в полном согласии с подлинными словами Якова Беме,[6] содержащимися в сорок восьмой пропозиции «Тройственной жизни человека», где сказано: «Ежели господь все произвел глаголом „да будет“, то, значит, это „да будет“ и есть сокровенное лоно, содержащее и объемлющее природу, образуемую духом, рожденным от Меркурия и бога».
— Как вы сказали?
Немец повторил ту же фразу.
— Нам это неизвестно, — сказали писцы.
— «Да будет», — произнес один из них, — «да будет свет!»
— В правильности приведенной цитаты, — продолжал немец, — вы можете убедиться, прочитав эту фразу на странице семьдесят пятой трактата о «Тройственной жизни человеческой», отпечатанного в тысяча восемьсот девятом году господином Миньере и переведенного философом, который был великим почитателем славного башмачника.
— Ах! он был башмачник? — спросил старый писец. — Вот так раз!
— В Пруссии! — ответил немец.
— И все шили у него сапоги за счет прусского короля?[7] — дурацки спросил писец второго разряда.
— Ему бы следовало прикинуть подметки к своим фразам, — сказал писец третьего разряда.
— Колоссально! — воскликнул писец четвертого разряда, указуя на немца.
Каким первоклассным демонологом ни был иностранец, он не знал, что за дьяволята эти писцы; он удалился, ничего не поняв в их шуточках, убежденный в том, что молодые люди признали Беме колоссальным гением.
— Есть во Франции образованные люди, — оказал он себе.
(support [a t] reallib.org)