"По найму" - читать интересную книгу автора (Хартли Лесли Поулс)
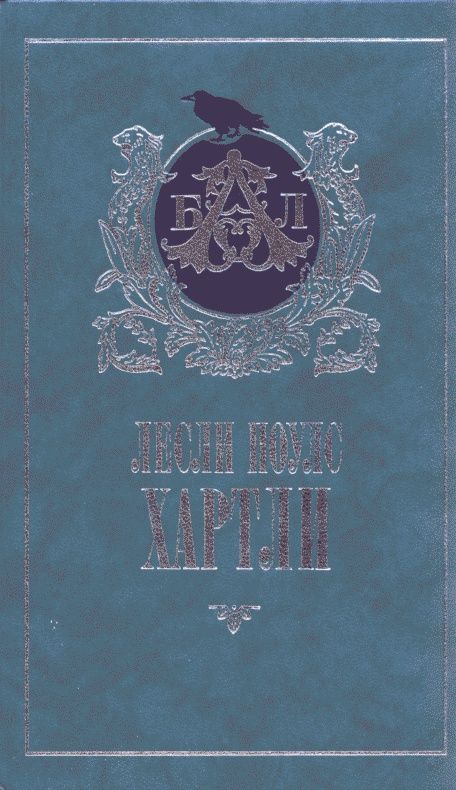 |
ГЛАВА 1
Водитель был высок, темноволос и хорош собой. В нем чувствовалась военная выправка — в свое время он служил в армии и воевал. Потом он перепробовал много занятий — «прошел огонь, воду и медные трубы», как любил говорить в минуты откровенности, но именно армия наложила на его внешность неизгладимый отпечаток. Внешность была неординарная, в этом не сомневался никто — и прежде всего он сам. Но он не важничал, а делал вид, словно это была вверенная его попечению общественная собственность. Он всегда был подтянут, щеголеват и неприступен. Большинство людей выглядит так, будто их набили ватой, в фигуре же водителя была гранитная монументальность. Стремясь к учтивости, он порой достигал изысканности. Материал, возможно, был плебейским, но зато покрой аристократическим. С непроницаемым лицом распахивал он дверцу автомобиля перед своими пассажирами, с непроницаемым лицом выслушивал инструкции (если не знал их заранее), с непроницаемым лицом распахивал дверцу опять, и пассажиры выходили. Те, кто успевал к нему присмотреться, начинали чуть-чуть его побаиваться, это, похоже, его вполне устраивало. Его манеры, безукоризненные, как и его внешность, были явно призваны ограждать его от посягательств любителей совать нос в чужие дела. Когда он говорил (как правило, отвечая на вопросы), его слова звучали убедительно. В нем не было ни напыщенности, ни высокомерия, и, казалось, к себе он относился с немалой долей иронии, но в его взгляде, который был чуть пристальней, чем того требовали вполне безобидные обстоятельства, таилось предостережение. «Стоп! — казалось, говорил этот взгляд. — Осади-ка назад!»
Таким его видели окружающие, да и он сам, когда, собираясь на работу (а это бывало в любое время дня и ночи), смотрелся в зеркало, напуская на себя безразлично-деловое выражение. Не таким, однако, задумала его природа, надо сказать, потратившая на это лицо немало изобретательных усилий. За тонкой кожей угадывался череп — узкий, изящный, но крепкий. Между скулами и висками пролегли впадины. Глубоко посаженные и широко расставленные глаза были цвета пушечной бронзы — серые с коричневым отливом — и недобро поблескивали, словно стволы орудий на солнце. Черные брови были сильно изогнуты, причем одна кустилась чуть больше другой. Через весь лоб, повторяя рисунок бровей, тянулась глубокая дугообразная морщина. Под прямым, немного удлиненным носом, словно перевернутый шеврон, чернела полоска усов. Эти изогнутые линии поддерживались вертикалями, выразительно прочерченными от скул к короткому, раздвоенному подбородку треугольной формы — он переходил в закругленное плато, которое отделялось от рта глубокой впадиной. Волосы, черные с легкой проседью, на макушке волнились, а на затылке казались приклеенными — настолько густо они росли. Лицо не отличалось особой смуглостью, но из-за рельефности черт даже при прямом освещении изобиловало тенями. В спокойном состоянии водитель был задумчиво грустен, смеясь (что случалось нечасто), сверкал белками глаз. Анфас он выглядел старше своих лет — столько былых переживаний отразилось на его лице, но в профиль и с затылка (а именно так обычно смотрели на него пассажиры) он казался моложе. Он не походил на чистокровного англичанина — вполне возможно, что среди его далеких предков были пикты.
Природа задумала его лицо выразительным, но у водителя на этот счет были свои соображения: выразительное лицо не умеет ничего скрывать, он же по натуре отличался немалой скрытностью. Болезненно самолюбивый, он легко обижался — даже когда никто и не думал его обижать. В молодые годы он, подвыпив, был не прочь затеять ссору. Искоса брошенного взгляда было достаточно, чтобы разжечь в нем воинственный пыл. Если дело доходило до рукопашной, то водитель, который бы одним из лучших боксеров в батальоне, а на состязаниях по перетягиванию каната неизменно выбирался капитаном, умел неплохо за себя постоять. Хулиганом он не был, просто временами его охватывало неодолимое желание драться со всеми подряд, но он быстро отходил и охотно пил мировую с недавними противникам. После драки дышалось привольнее мир казался не так уж плох. Впрочем, храбрость его имела свои пределы. Горожанин до мозга костей, он вдруг умолкал, если на загородной прогулке с очередной знакомой замечал приближающееся стадо коров, и обретал свою обычную словоохотливость, лишь когда опасность была далеко позади.
На плацу и в казарме, если того требовали обстоятельства, он не стеснялся в выражениях, но в спокойной обстановке и среди своих товарищей предпочитал изъясняться ироническими намеками, не столько чтобы позабавить себя, сколько в виде подсознательного напоминания окружающим, что, немало повидав на своем веку, он давно утратил способность ахать по пустякам.
«Бывает!» — небрежно ронял он в такие минуты.
Что касается его жизненной философии, то сам он считал себя циником. Не строя никаких иллюзий насчет мира и людей, он полагал себя разочарованным. Иногда, запершись в ванной, он распевал песни, среди которых была и такая, исполнявшаяся на мотив «Доброго старого времени»:
Вот, пожалуй, и все, во что он был готов поверить. Но он не хвастался: хвастовство, согласно его кодексу, было серьезным прегрешением, хвастунов он высмеивал беспощадно. «Взбиваем омлет помелом, да?» — вопрошал он в таких случаях, и в его голосе появлялись лениво-издевательские интонации, служившие для тех, кто его хорошо знал, верным сигналом надвигающейся опасности. «Ну-ка, ну-ка, — обращался он к неосторожному собеседнику. — Это занятно. Повтори-ка еще разок!» Но, считая себя циником, он со здравомыслием последнего умел сдерживаться: мало кто из его клиентов подозревал, какие мысли и чувства скрывались за бесстрастным выражением его красивого лица. Он же, внимательно присматриваясь к своим клиентам, прекрасно знал, с кем и как надо себя вести, чтобы им остались довольны. Он только избегал распространяться о себе, полагая, что клиентам это вряд ли будет интересно. Он произносил «милорд» и «миледи», а также «сэр» и «мадам» так, что в его устах эти обращения обретали особую торжественность. Он был безукоризненно пунктуален, — немалое достоинство для человека его профессии, и, если ему не удавалось приехать точно в срок или не получалось обслуживать клиента лично и надо было подыскивать замену, он всегда заблаговременно предупреждал об этом: звонил, а когда позволяло время, уведомлял письменно, при том что терпеть не мог писать письма. Подобная обязанность, резко контрастировавшая с его бесстрастными манерами, неизменно производила самое благоприятное впечатление, и клиенты охотно рекомендовали своим знакомым «на редкость услужливого и надежного шофера».
За это он говорил им спасибо, хотя особых поводов для признательности они ему не давали. Они обращались с ним куда менее предупредительно, чем он с ними. Не раз приходилось ему коротать ночи напролет у дансинга или клуба, а клиенты развлекались в свое удовольствие и не думали предложить ему бутерброд или чашку кофе. Не раз выгодный заказ отменялся в последнюю минуту, причем никому и в голову не приходило перед ним извиниться, не говоря уже о том, чтобы оплатить издержки. Случалось, его и вовсе забывали предупредить об отмене.
По бездумию они воспринимали его терпеливость как нечто само собой разумеющееся: им словно было невдомек, что они имеют дело с живым человеком, чьи планы они могут нарушить, а чувства задеть. Многие из них обсуждали при нем свои самые интимные дела так, словно были в машине одни. К этому он успел привыкнуть и научился отключаться. Когда же он изредка прислушивался, то поражался, какие глупости могут говорить взрослые люди. Некоторые из его клиентов были знакомы между собой, но не подозревали, что у них общий шофер. Лазутчик в нашем стане! Если были он принимал участие в их сплетнях (чего никогда не делал, потому что, во-первых, это было ему неприятно, а во-вторых, не сулило никаких выгод), он мог бы натворить бед, пересказывая неосторожно брошенные реплики. Ему часто приходилось развозить гостей после званых обедов и ужинов. Он слышал, как, прощаясь в дверях, они рассыпались в благодарностях, а чуть позже, в машине, в пух и прах разносили общество, угощение и хозяйку.
Не удивительно, что клиенты воспринимались им как чужеродное, если не сказать враждебное, начало — безликое «они», — скопище бездельников и склочников, то и дело меняющих свои планы и заставляющих его пренебрегать правилами уличного движения (например, ездить по улицам с односторонним движением в обратном направлении). Но в кругу своих, рассказывая о фокусах клиентов, он не давал воли неприязни и обидам, а говорил с интонациями последнего нормального человека на земле, снисходительно посмеивающегося над окончательно свихнувшимся миром.
При этом он был убежденным консерватором и на выборах неизменно голосовал за тех самых людей, над которыми смеялся, — и не только потому, что благодаря им зарабатывал свой хлеб: при всех своих изъянах они воплощали собой то, чего он страстно желал добиться.
Лишь две категории клиентов не вызывали в нем раздражения. К первой относились офицеры, под командой которых он в свое время воевал и которые теперь, по его выражению, «пользовались его машиной». В их обществе он чувствовал себя свободно, с ними не приходилось притворяться, быть все время настороже. При всех различиях в словаре они говорили на одном языке — языке товарищей по оружию. Не важно, что язык этот, как и их совместное прошлое, не отличался широтой и богатством, — они отлично понимали друг друга, и это было главное. В такие минуты скованность исчезала из его мощной фигуры, он с облегчением откидывался на спинку сиденья и вспоминал с пассажиром былые баталии.
Вторая категория была столь же малочисленной, но угадать ее было и вовсе не легко. В нее входили пожилые дамы, которым загадочным (в том числе и для самого водителя) образом удалось завоевать его расположение. Таксисты не любят таких пассажирок. Им надо помогать садиться и выходить из машины, их допотопные манеры, как осанка, чопорно-прямолинейны, распоряжения они отдают четким, безапелляционным тоном, вызывающим у многих желание нагрубить в ответ. Но в отличие от большинства своих коллег, водитель был с ними терпелив до бесконечности и — хоть ни за что в этом не сознался бы — послушно исполнял все их капризы. «Очень милая дама!» — говорил он в таких случаях слегка удивленным тоном. В его устах это было высшей похвалой: эпитетом «милая» он не разбрасывался направо и налево — собственно, он не удостаивал им никого кроме этих старых леди.
Но таких пассажирок можно было пересчитать по пальцам. Женщин в целом он не жаловал. Заводя романы (и довольно часто), он относился к ним как к малоприятной необходимости. «Женщины жестоки!» — говорил он. Как ни странно, это было его главным обвинением слабому полу. Трудно сказать, кто и как ухитрился проявить жестокость по отношению к нему — человеку, казавшемуся воплощением неуязвимости и скорее способному самому проявлять жестокость, а не страдать от него, но нет! «Женщины жестоки! — твердил он свое. — Они обожают делать больно».
Размышляя о женщинах, он нередко вспоминал мать с ее туфлями. Их у нее всегда было не меньше двадцати пар. Она тратила деньги и на многое другое, но именно очередная покупка туфель вызывала гнев отца. «Зачем тебе столько?!» — спрашивал он жену. «А что в этом дурного?» — в свою очередь, спрашивала она старшего сына, и ее голос звенел от слез. Он же, польщенный, что с ним советуются (что бывало крайне редко), тоже не понимал, почему это нехорошо, и вслед за матерью начинал плакать. Когда муж на нее сердился, с сыном она была слаще меда. В остальное время их отношения были не столь идиллическими. Она то ласкала его, то бранила, и мальчик никогда не знал, чего от нее ждать, он знал только одно: дело не в его поведении, а в ее настроении. Что же касалось туфель, она неизменно одерживала верх. Если выбрасывалась одна пара, то взамен покупались две новые. Мальчик долго не мог взять в толк, что все это означало. Потом он подрос и кое-что стало ему ясно. В семье постоянно не хватало денег, они с трудом сводили концы с концами, у всех (в том числе и у него) было по одной паре обуви, но материнские туфли выстраивались в два длинных ряда. От одного вида этих туфель у него портилось настроение, и, когда мать в очередной раз приходила поплакаться, он жалел не ее, а отца. Но что он мог поделать, когда даже отец опустил руки. Она была упряма, настойчива, изобретательна, и бороться с ней не было никакой возможности.
Он с малых лет привык к атмосфере постоянной войны в доме, но с трудом выносил выпавшую ему роль буфера в семейных конфликтах и потому в конце концов сбежал в армию. Там ему сразу же понравилось, а оркестр, в котором он играл, показался земным раем. Из дома приходили письма, он читал их и испытывал ощущение, что к нему протягиваются скользкие щупальца: от одного вида материнского почерка его бросало в озноб, а к горлу подступала тошнота. Он жил в постоянном страхе, который прошел, лишь когда письма перестали приходить. Но еще долго после этого он старался не смотреть на женские туфли, и если все же его взгляд ненароком падал на эти символы победительной женственности, по коже начинали бегать мурашки.
Армия как нельзя лучше отвечала основным свойствам его натуры: воинственности, цинической готовности делать, что прикажут, и приказывать самому, не вникая особенно в смысл приказа, — лишь бы при этом не нарушались параграфы устава, — удивительному чутью на людей (мельком брошенного взгляда было ему достаточно, чтобы безошибочно определить, как поведет себя тот или иной человек в трудную минуту), любви к праздникам и парадам, умению органично вписаться в жизнь сложного целого и принять его условности, традиции, интриги и законы товарищества. Ему казалось, что в армии человека ценят исключительно по его личным качествам, и потому надеялся преуспеть. Ему было важно утвердить себя как личность — в своих глазах и в глазах окружающих.
В армии он добился такого двойного признания, и с каждой новой нашивкой оно росло и крепло. Ему казалось, что он сумел победить обстоятельства, выиграть сражение с армейской системой. На самом деле все было несколько сложнее. То, что он считал трофеями, было лишь вознаграждением за его смелость, терпение, добросовестность, лояльность, — за то, что он отдавал армии всего себя без остатка. Он не мог иначе — в противном случае он перестал бы себя уважать. Но он в жизни не признался бы в этом никому, даже самому себе. Он ни за что не назвал бы это чувством долга — вместо этого он предложил бы великое множество уничижительных слов-заменителей, в том числе и с неприличными приставками. Новобранцы, которых он муштровал, чтобы сделать из них «хороших солдат», тоже вряд ли объяснили бы его усердие чувством долга — они бы придумали (да, кстати, не раз и придумывали) что-нибудь похлестче. У них были на то причины: ремесло свое он знал отменно, и ни у кого не повернулся бы язык назвать его тупым служакой, но с подчиненными не церемонился и не носил им утренний чай в постель. Вместо этого он при первом удобном случае давал им понять, кто из них главный, и для поддержания своего авторитета охотно пользовался теми многочисленными преимуществами, которыми обладает в армии старший по званию. Он бывал беспощаден и умел сразить словом наповал. Но умел и поставить человека на ноги. За это его уважали: даже те, кто, казалось бы, имел все основания возненавидеть его, встречаясь с ним после демобилизации, бывали рады угостить его выпивкой.
Новобранцев было можно и даже нужно муштровать, но с клиентами такие методы не годились. Их не полагалось сердить. Только постоянно поддакивая и потакая им, можно было надеяться превратить их в «хороших клиентов». Он так и поступал, хоть это и было ему не по душе, и постепенно забывал, что в этом мире возможны отношения, основанные на взаимных обязательствах. В гражданской жизни действовали принципы: «каждый за себя» и «падающего толкни». В армии отношения между отдельными лицами регулировались сложнейшей, детально разработанной системой прав и обязанностей, не приложимой к гражданской жизни. Армия была не микрокосмом, а самостоятельным, замкнутым в себе миром, где торжествовали законы мужского коллективизма, основанного на субординации. Кому-то также могло показаться иронией, но водитель видел в этом проявление истинной свободы.
Армия была его единственной и большой любовью, но в конце концов он и в ней разочаровался, решив (и не без оснований), что она его обманула. Как это нередко бывает у влюбленных, ссора оказалась нешуточной. «Патриотизм не окупается», — изрек он тогда, не подозревая, впрочем, до чего тяжело будет переживать этот разрыв: день демобилизации стал днем горечи и пустоты. Оказавшись без работы и без связей, он перепробовал множество разных занятий, но ни одно из них его не удовлетворило. Ему казалось, все дело в том, что он стал меньше зарабатывать, но он заблуждался: с армейским жалованьем (надо сказать, весьма скромным — те же деньги он теперь зарабатывал играючи) из его жизни ушло нечто труднообъяснимое, но очень важное, позволяющее переносить холод и равнодушие окружающего мира.
Потом он поступил в пожарники. Но и там ему не понравилось. В отличие от армии пожарная служба не стала для него родным домом. Он понимал, что, демобилизовавшись, ему придется начинать все сначала. Он был готов приступить к восхождению по ступеням пожарной лестницы, но, как оказалось, только в буквальном смысле. Он так и не смог привыкнуть к тамошним порядкам. Пожарная дисциплина — «а ну-ка, мальчики, давайте встряхнемся и почистим наши медяшки!» — казалась ему пародией, дурным фарсом, а обычай по сигналу тревоги съезжать по шесту из дежурной комнаты к машине — самым настоящим ребячеством. Он был готов сражаться, но с людьми, а не с огнем, огонь казался ему чересчур абстрактным противником, другие же обязанности пожарников — например, снимать с деревьев до смерти перепуганных кошек или разнимать подравшихся лебедей в парке, — воспринимались им как пустая трата времени.
Чтобы чем-то заполнить часы досуга, а заодно и пополнить свой бюджет, он стал иногда подрабатывать в фирме по найму автомобилей. В поездках он завел ряд полезных знакомств. Клиенты сразу же запоминали его и, заказывая машину в следующий раз, просили прислать именно его — он быстро приобретал популярность, что совершенно не радовало штатных водителей фирмы. Как-то раз один из его пассажиров спросил: «А почему бы вам не основать собственную фирму? Я мог бы вас порекомендовать своим знакомым». Обещания своего, как потом оказалось, он не сдержал, но его слова стали той последней каплей, что склонила чашу весов, побудив водителя решиться на шаг, о котором он уже давно подумывал.
Он купил автомобиль в рассрочку и ухаживал за ним с той же тщательностью, что и за собственной наружностью. Он не щадил себя и, по собственному выражению, «вкалывал двадцать пять часов в сутки». Из-за бессонных ночей страшно хотелось спать днем, и порой ему стоило больших усилий не заснуть за рулем. Он осунулся и пожелтел; два костюма, верой и правдой служившие ему десятый год, обвисли, словно были с чужого плеча. Несмотря на свое крепкое телосложение, он выглядел законченным язвенником. Как он ни старался, он еле-еле сводил концы с концами: за пять месяцев он так ничего и не заработал, а пособие, что получил как фронтовик, истратил на машину. Еще целых три года предстояло ему ежемесячно выплачивать бешеные деньги, чтобы полностью выкупить автомобиль, который, наездив к тому времени сто тысяч миль, уже не будет стоить ровным счетом ничего.
С коллегами он так и не подружился, да особенно и не пытался — он думал о них с холодком отчуждения, ему хотелось не общаться, а делать дело. Никто и никогда, размышлял он, и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь, особенно женщины. Не то чтобы он враждовал со всеми подряд: такого он просто не мог себе позволить, но он постоянно был готов к отпору — или к атаке. Вечный скиталец, одинокий волк, он был Улиссом, но без верной Пенелопы.
Прожив на белом свете тридцать пять лет, он сохранил одно-единственное желание — работать, работать и еще раз работать. К себе он относился не как к живому человеку, а как в фирме «Ледбиттер и К°. Прокат и найм автомобилей на все случаи жизни». Он уже не помнил, когда к нему в последний раз обращались по имени, да и сам, пожалуй, не сразу мог бы его назвать.
(support [a t] reallib.org)