"Страх, который меня убил" - читать интересную книгу автора (Алексеев Игорь)
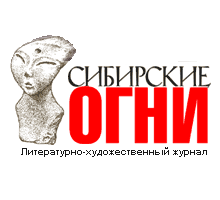 |
Игорь Алексеев Страх, который меня убил
Мне удалось выжить. Я перенес многочасовую операцию, затем несколько курсов лучевой и химиотерапии. Очевидно, болезнь отступила на время…
Но ее признаки появились вновь. Догонит меня, сволочь. Чтобы спастись, надо понять не причину появления смертельного врага.
Причина ясна: это Промысел небесный. Надо изучить стратегию и тактику противника. Как врач, я способен сделать это…
Я родился в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году. С этого момента надо определить, когда появился страх. Страх, который меня убил.
Я стал рано помнить себя и поэтому вижу сейчас смутную картинку.
Отец сидит на диване в крохотной комнатке. Я ползаю рядом. На отце — белесо-голубое военное белье, галифе, неснятые почему-то сапоги. Он показывает матери пистолет. Вынимает обойму и дает мне тяжелую черную игрушку. Он весел. Трезв. Но мать напряжена. Внимательно слушает его. Объявлена тревога. Офицерам выдали табельное оружие.
Это крайняя степень напряженности. Что-то стряслось в мире, который я еще не изучил. Карибский кризис. Передался ли мне тогда страх, который испытывали родители? Нет, наверное. По настоящему нет.
Настоящий страх появился позже, в детском саду, когда я, стоя на крыльце, видел уходящую маму, которая улыбалась и махала мне рукой, а я плакал и чувствовал, что меня держит за плечо чужая тетя.
Огромная и темная. Это был удар. Я так и не привык к садику. Я никогда не садился там на горшок по большому. Горшки, белые, эмалированные, грудой маячили в углу коридора, и постоянно на паре-тройке горшков кто-то сидел. Мальчишки и девчонки. Или просто пара девчонок. Они что-то обсуждали громко или перешептывались. А у меня не получалось вот так просто сесть в углу и прилюдно опорожнить кишечник. Я не стеснялся. Я испытывал страх быть осмеянным или задетым посторонним взглядом.
Страх, что меня побьют, объединившиеся в группку мальчишки, появился позже. В этом смысле поначалу я был абсолютно бесстрашен. Помню: когда меня стал задирать какой-то отвратительный верзила, я пожаловался отцу. Тот просто сказал: бей в нос. Я так и сделал.
Зарядил со всей руки в нос этому засранцу. Кровь размазалась по его лицу. В глазах металось удивление и бессилие. Он заплакал. А воспитательница меня наказала. Больше он ко мне не приставал. Жаль, что эта черта не утвердилась во мне. Слабоват я оказался. Или не слабоват, а устроен как-то иначе. Не для прямых боевых столкновений, а для длинных, многоколенных систем сопротивления или нападения…
Потом появилась группка мальчишек, предводителем которой был небольшого роста пацаненок, обладавший феноменальными физическими способностями. Мне сразу дали понять, что если что — расправа неминуема.
Я стал бояться. Но уже не жаловался. Оказалось, что есть места на планете, где родители меня не защитят. Мне не хотелось ходить в этот садик. У меня сводило живот от предчувствия насилия. Иногда это ощущение проходило. Но потом оно возвращалось и возвращалось, калеча сознание.
Самое смешное, что меня так и не побили ни разу. Хотя я не пресмыкался ни перед кем, не ползал на брюхе перед вожаком. Я был просто очень осторожен. И молчалив. И задумчив. Может быть, поэтому ко мне рано пришел онанизм. Однажды, когда вся группа спала после обеда в общей комнате, в каком-то полусне я ощутил в паху, а потом разлившееся по всему телу острое, не известное ранее, блаженство.
Причем я сразу понял, что это нехорошо и стыдно. Потом это повторилось вновь и вновь. А еще потом я уже смоделировал схему получения нового удовольствия. Странно, что это не было связано с присутствием чего-то женского, вернее, девчачьего. И воспринималось это как странное, но имеющее право на жизнь свойство моего тела.
Переход из детского сада в школу был незаметным. Но в то же время новая неудобная одежда, новые предметы: пенал, ластики, карандаши, а потом ручка с чернильницей-непроливайкой, портфель, тетради — резко обозначили переход из одного состояния в другое. Школьные страхи начали накапливаться с неумолимой быстротой. По-видимому, я был так внутренне организован, что во мне находили себе место два начала: лень и обостренное чувство ответственности.
Учился я легко и хорошо. Я подбегал к дому и кричал во весь голос: «Файв!» Это означало, что у меня в тетрадках одна или несколько пятерок. Отец, почему-то, я помню, именно отец, радовался этому и говорил с соседями обо мне с искренней гордостью. Тем не менее, я быстро научился делать все в последний момент, после того как наиграюсь на улице или дома с другом Колькой. Хорошая память выручала меня. Уроки я делал на одной ножке, кое-как, ощущая неприятный холодок в животе при взгляде на часы и соотнося количество оставшихся минут до выхода из дома и количество заданий.
Я не нашел ни одного любимого предмета из преподаваемых в школе. А ненавистные определились сразу: русский язык и арифметика, которая потом сменилась математикой. Русский язык преподавала Людмила Ивановна. Тиранического типа старуха с низким мужским голосом. До сих пор она для меня есть женщина-монстр. Обращалась к нам она не иначе как: «Товарищи». Была крайне строга и абсолютно бесчувственна.
Меня она невзлюбила сразу. Все-таки было во мне ощущение внутренней независимости и свободы, которые я подчас не скрывал. Это страшно раздражало старуху. И она не упускала момента цапнуть меня, как старая обезумевшая овчарка. Я ее просто ненавидел. Поэтому интереса к русскому языку у меня не было вовсе. Да и откуда ему было взяться?
Сухое, методичное, эмоционально монотонное преподавание превращало занятия в пытку.
Как я запомнил свое первое сочинение! Нам было просто сказано: «Пишите сочинение». Как писать, о чем? Я даже пытался спросить ее об этом. Но она что-то прошипела в ответ через губу. И мы с мамой бились над этим сочинением весь вечер и выжали полстраницы корявых несвязанных предложений. Причем тема не была обозначена, и мы придумали какую-то дурь про настроение. Так я получил первую тройку.
Несправедливость душила меня. И я стал непримиримым врагом Людмилы Ивановны. И звали мы ее «Лидакол» — в соответствии со старой школьной легендой. Якобы она, ставя единицу в журнал, сказал бедной ученице: «Лида, садись. Кол». Страх перед занятиями русским языком парализовал сознание. Диктант или сочинение воспринимались как катастрофа.
Параллельно Лидакол воспитывала в нас ненависть к русской литературе. Это ей удавалось в не меньшей степени, чем вживление ненависти к русскому языку.
О математике вообще скучно рассказывать. Ее преподавала странная женщина. Я даже забыл, как ее звали. Она была полнотелой, белокожей, немолодой уже теткой. Глупость поселилась в ее глазах навечно. Тем не менее, это дебелое существо ухитрялось преподавать математику, геометрию и астрономию. Муж у нее сидел в местном районо, и чувствовала она себя в школе прекрасно. Самое страшное — она сама не понимала того, что преподает. Иногда она даже на уроке пыталась въехать в тему. И не стеснялась этого. Мы метались по учебнику, как бешеные мыши, но толку было мало. Только несколько самых упорных и одаренных ребят и девчонок с помощью природного чутья находили нужные тропинки в этих дебрях. И мы наседали на них в попытках списать правильное решение во время контрольных работ. С тех пор я ничего не понимаю в математике. И даже квадратный корень извлечь не могу. Страха особого перед этой училкой никто не испытывал. Она была в целом доброжелательна и незлопамятна. Кроме того, ходили слухи о ее выдающейся похотливости, и мальчишки рассказывали, давясь смехом, что находили в страницах ее книг презервативы. Врали, конечно. Страх в мою душу несла не она сама, а невозможность понять предмет и нормально выучить уроки.
Новый страх пришел чуть позже шестого класса, когда мальчишки распределились по группам, агрессивным и беспощадным. Надо сказать, что жил я в районном городе Ртищево, который был большой узловой железнодорожной станцией. Город слыл откровенно бандитским. На окраинах, в лесопосадках, а то и в самом центре города происходили чудовищные вещи. Убивали, мучили людей. Массовые драки были событием заурядным. Ртищево был поделен на районы, которыми управляли отмороженные банды. Центровые, краснолучевские, выдвиженские и так далее — по названиям районов города. Когда я выходил из дома (я жил в маленьком военном городке, где и банды не из кого было формировать), то попадал в зону краснолучевских. По пути в школу я цеплял зону центровых. А школа располагалась в зоне выдвиженских.
Нас, детей офицеров, не любили. Наши отцы-летчики получали большие по тем временам зарплаты. Мы были хорошо одеты и жили в приличных условиях. Меня можно было не любить не только за одежду. Я был выпендрялой и выскочкой. Хорошо учился. А внешне был просто красавчиком. Таких не любят. И круги начались сужаться. В нашем классе было несколько откровенных будущих бандитов. Так что прижали меня сильно. Мальчишки знают эти намеки, скрытые взгляды, а иногда и прямые угрозы. Воображение у меня было чрезвычайно сильное, и я понимал, что меня могут не просто избить, а и пырнуть отверткой за углом школы. Поэтому в душу вцепился такой страх, которого раньше не было. Это был уже увечащий, убийственный страх. А по натуре своей я был трусоват, хотя старался не показывать этого. Но юные отморозки все чувствовали своим волчьим чутьем и периодически издевались надо мной.
Когда я выпросил у отца часы, приделал к ним модный тогда широкий ремешок и пришел в школу, рыжий веснушчатый толстомордый парень сразу отнял их у меня. А после долгих и унизительных упрашиваний отдал с условием, что я буду говорить ему, который час, когда он просто взглянет на меня. Правда, ему быстро надоела эта игра.
Школьный кошмар менялся на домашний, когда я пересекал перекидной мост через железную дорогу. Железнодорожная шпана постоянно пасла военный городок. У нас отнимали карманные деньги, некоторых били.
Правда, не убили никого. Но это частность. Ребят, живших в военном городке, было мало. Да и не были мы дружны. Половина из наших как-то ладили с «гражданскими», как их называли. Те их не трогали, но остальным доставалось по полной программе. Я помню, как один из наших мальчишек, отчаянный парень, избил одного «гражданского», когда тот начал издеваться над ним. Расправа последовала незамедлительно. На следующий же день. Мы играли на старом кладбище.
Невесть откуда появилась группа юных бандитов. Нас окружили. После короткой матерной тирады наш герой получил в ухо. Специально зажался и взвыл, чтобы не били дальше. Этим он отвел беду и от нас. Если бы полез в драку, нас на этом кладбище уложили бы всех. Никто из нашей команды и не думал вступаться за своего. Страх сковал наши душонки.
Шпана покружила вокруг еще немного и исчезла так же незаметно, как появилась.
Мне досталось уже в более старшем возрасте. Классе в девятом. Один из пацанов военного городка, противный татарчонок, спевшийся душа в душу с «гражданскими», пьяный, отловил меня во дворе и повел в посадки. Там поджидала парочка самых ненавистных и страшных для меня «гражданских». Я и не думал сопротивляться. Они молча стояли и наблюдали за развитием событий. Татарчонок, криво ухмыляясь, зарядил мне оплеуху. Потом кулаком ударил по зубам. Один из наблюдавших расторопно притащил здоровенный кол. Деревянный кол или штакетина с гвоздями — их привычные орудия в массовых драках. Кроме ножей и заточек, разумеется. Но татарчонок был пьяненьким и веселым. Он еще раз ударил меня. Я, уворачиваясь, ткнулся лицом в дерево, ободрав щеку. Мой палач увидел кровь и посчитал, что дело сделано. Почему те двое не стали участвовать в избиении — непонятно. Скорее всего, они договорились между собой о распределении ролей. Больше бить меня не стали. Молча ушли, и всё. Это была акция устрашения.
Животный страх перед «гражданской» шпаной засел так глубоко, что на всю жизнь сделал меня человеком трусливым и жалким в своей беспомощности перед внешним насилием. Я по-прежнему занимался онанизмом, иногда испытывая ужас от содеянного. Я боялся, что это приведет к каким-то нехорошим последствиям для здоровья.
Особенно вязким, отравляющим жизнь во всех ее проявлениях, был страх начала войны. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Постоянные разговоры о войне, подслушанные на местной автобусной остановке, периодический ночной вой тревожной сирены, недолгие сборы отца в коридоре, освещенном лампочкой без плафона — все это приводило меня в ужас. Началось это лет с восьми и закончилось лет в пятнадцать.
Так что страх, который испытали родители во время Карибского кризиса, все-таки прилип ко мне тогда. И пророс чуть попозже. Война воспринималась как крушение мира. Во внимание принимались масштабы всей страны, так как я был красным патриотом уже с октябрятских времен.
А разговоры теток у подъезда о годе желтого дракона и грядущей в связи с ним войне с китайцами… Войны с китайцами боялись все. И я в том числе. Они представлялись мне страшно агрессивными, жестокими и коварными. Единственной отдушиной были военные парады, которые показывали по телевизору седьмого ноября каждого года. Зримые образы невероятной мощи страны лечили больную от страха мальчишескую душу.
Это поднимало настроение. Появлялось чувство защищенности и беззаботности. Там, наверху, сидят огромные военные, которые распоряжаются огромным оружием и в обиду они меня, лично меня, а также страну, не дадут.
Постоянно накапливающийся страх не ощущался на соматическом уровне.
Я нормально спал, нормально ел. У меня никогда ничто не болело.
Редкие простуды проходили мгновенно. В организме были неизрасходованные резервы прочности. Поэтому я был всегда весел, активен и любознателен. А может быть, я путаю что-то? Может быть, уже тогда страх жрал мое здоровье, а сознание спасало тело тем, что уходило в непрекращающиеся игры в шахматы с соседом Колькой, в беспорядочное чтение, которое могло длиться целыми днями. Может быть. Кто знает?
Я не отставал в физическом развитии. Более того, стал рано заниматься спортом. Но устройство моего тела, среднее по всем показателям и не выделяющееся чем-то особенным, не позволяло выдавать высокие результаты, хотя я бегал на короткие дистанции быстрее всех в классе. Я помню тот момент, когда мы на занятиях физкультурой начали осваивать стометровку. Стадиона рядом со школой не было, и бегали мы вдоль железнодорожного полотна, которое располагалось поблизости. Учитель, молодой парень, приблизительно рассчитал расстояние, вынул секундомер и дал старт. Я ветром примчался к финишу, опередив толпу мальчишек почти на половину дистанции. Когда мы вернулись к старту, я увидел, что учитель недоуменно смотрит на секундомер. По-видимому, там обозначился мировой рекорд. И пришлось ему честно отмерять сто метров широкими шагами. Мне тут же предложили заниматься в спортивной секции школы.
Выдали шиповки. Но я не выбегал из результатов третьего разряда, как ни старался. Может быть, это было вызвано тем, что страх частично уже разрушил меня, и мышцы были задавлены мощным катком постоянных переживаний.
Страх стал постоянным спутником в жизни. Он бил в сердце, и оно дрожало, как мокрый котенок. Наносил удары в живот, чем вызывал спазмы и короткие пробежки до туалета. Он целился в мозг, и иногда ночи были бессонными. Мой организм оказался не таким уж защищенным.
А болезненное, обостренное воображение, кроме вреда, ничего больше не приносило. Оно помогало при занятиях онанизмом, да и только. Я взрослел, и мой страх перед онанизмом приобрел чудовищные размеры. Я считал себя неполноценным, ущербным.
Если бы я жил в большом городе, если бы у меня была, как сейчас говорят, хорошая тусовка, я бы начал нормальную, пусть эпизодическую, половую жизнь. Это увело бы меня от постоянного онанизма, и проблема отпала бы сама собой. Но в маленьком военном городке все знали друг друга. Девчонки были наперечет. И пуританские принципы блюлись строго. Я не помню ни одного открытого скандала.
Кроме одного трагического случая, когда подвыпивший молодой летчик, живший в гостинице, отправился на свидание с одинокой женщиной. Он попытался спуститься по непрочно прикрепленной жестянке водосточной трубы с крыши на балкон. Труба оторвалась, и летчик совершил свой последний полет с высоты пятого этажа.
Так что начать вовремя трахаться мне не светило. Тем более что даже на танцы в городской парк я не ходил. Это было смертельно опасно.
Драки в парке происходили постоянно, особенно после танцев, и порой превращались в жуткие побоища. Попасть в эту мясорубку можно было легко, просто задев кого-то плечом. Поэтому ходившие на танцы пацаны из нашего класса считались героями. Правда, все они не были героями-одиночками, так как отправлялись в парк в составе мощной группы своего района.
Ощущение собственной неполноценности и страх перед нормальным половым актом сразу крайне осложнил отношения с девчонками. Я, как водится, ухаживал за кем-то, носил портфель одной знакомой из нашего городка, но все это покрывал легкий налет необязательности.
Отношения возникали так же легко, как прерывались. У меня была одна возможность в десятом классе. Одна девчонка, рано начавшая половую жизнь, прислала мне записку: «Я тебя хочу». Однако страх перед близостью с женщиной сделал свое дело. Я ответил что-то невразумительное, будто не поняв темы. Помог, конечно, и страх перед шпаной. Девчонка жила в одном из самых бандитских районов. Поэтому у меня и мысли не возникло пойти на сближение. Внутри меня сидел маленький, запуганный, издерганный человечек.
Пьянство отца, которое постепенно превратилось для меня в постоянную пытку, прокралось в семью как-то незаметно. Я, будучи совсем маленьким, ходил с мамой и папой в ресторан. Все было красиво и достойно. Но потом, класса с третьего, я стал понимать, что происходит трагедия. Что-то непонятное и страшное, чего не было в других семьях. Отец спился мгновенно. Несмотря на то, что начал пить в зрелом возрасте. В трезвом виде он был тих и обаятелен. Хотя в полку слыл человеком независимым, начальства не боялся, за что его уважали, но недолюбливали. Он был остёр на язык и мог сочинить блистательную эпиграмму в адрес любого сослуживца. Он прекрасно рисовал. Пытался играть на аккордеоне. Вытачивал из дерева удивительные штуковины. Но скучная полковая жизнь томила его. Он не был карьеристом. Не стремился поступить в академию. Звания майора ему вполне хватало. Однако он был по-своему честолюбив и тщеславен, что при отсутствии внутреннего напряженного стержня крайне опасно.
По-видимому, алкоголь мирил его с окружающим, делал мир комфортным и обитаемым. Он занимался рыбалкой, причем настолько удачно и профессионально, что прослыл знатоком среди подобных ему рыболовов.
Он никогда не использовал браконьерские приспособления. Но удочки у него были самые лучшие, а специальный ящик для зимней рыбалки таил в себе чудеса рукотворного искусства: блесны, блесенки, мормышки, мушки, особенные зимние удилища, катушки — всего не перечислишь.
Для нормальной жизни в семье обычному человеку хватило бы и трети его способностей. Но генетические петли сделали свое дело. Я знаю, что он ненавидел своего отца за то, что тот постоянно пил и избивал мать. Я знаю, что он дал зарок в молодости не пить вовсе. Но что стоят наши зароки? Чем крепче зарок, тем сильнее соблазн. А яблоко от яблони далеко не падает. В конце концов он сорвался и превратился для меня, безмерно любившего свою семью, в дьяволоподобное существо, приносившее мне боль и страдания. Как мне хотелось гордиться своим отцом! Как мне нужна была его поддержка. Ведь он же любил меня и гордился мной. Но, начав пить, он потерял со мной связь, и я уже лет с одиннадцати был закрыт для него навсегда.
Жизнь в доме превратилась в настоящий кошмар. Когда отец приходил домой, я сразу смотрел на его глаза. Иногда они были спокойно-серыми, а лицо не имело неприятного алкогольного оттенка, и я чувствовал себя счастливым человеком. Но это длилось, как правило, недолго. Отец посылал мать в город за пивом или вином. Мать злилась, отговаривала его. Он начинал раздражаться в ответ на ее причитания.
Дело кончалось тем, что она все же отправлялась на остановку. Через час она привозила желаемое. Отец садился за стол. И начинал напиваться.
Пьяный он был невыносим. Постоянно задирал маму или дергал без повода меня. Когда опьянение достигало крайней точки, отец доставал аккордеон, и по квартире начинали бродить дикие созвучия — отец так и не научился играть, хотя аккордеон был хороший. Глаза пьяного отца делались неодинаковыми по размеру. Правый больше, а левый меньше. В них появлялись наркотический туман и безразличие. От краха нашу семью спасало одно: отец никогда не бил мать и не выходил шататься по улице. Что-то держало его.
Но процесс развивался неотвратимо. Мне не хотелось идти домой после школы или после массовых пыльных игр во дворе. А открыв дверь, я безнадежно спрашивал маму: «Пьяный?» Если отец спал в отключке, становилось легче. Мама могла спокойно делать работу по дому, а я — учить уроки или читать и играть во что-нибудь. Если же отец сидел за столом перед трехлитровой банкой пива и смотрел телевизор — я ждал неминуемого скандала. Он начинал задирать маму, та отвечала в ответ только одно, что-то вроде: «прекращай пить» или «ведь каждый день, каждый Божий день…» Но иногда отцу не хватало выпитого, и он заставлял маму вновь идти в магазин, даже если на дворе уже был вечер. После короткой истерики мама покорно отправлялась за чекушкой или бутылкой красного крепленого вина.
Я не плакал тогда. Не плакал ни при каких обстоятельствах. Просто деревенел от отчаяния и страха. Наше семейное реноме выручало то, что в городке пьянство было широко распространено, и в действиях отца и матери никто не находил ничего особенного. Вроде все нормально. Квартира есть, дети обуты, одеты, накормлены. Сын не лоботряс, а отличник.
А в других домах пьянки проходили жестче и остервенелее. Разговоры о том, что кто-то в доме кого-то побил, были постоянными. Чаще, конечно, мужья лупили жен. А иногда и наоборот. Однажды, классе в пятом, я услышал крики на улице и увидел соседей, бегущих к желтой старой двухэтажке. Мне стало любопытно, и я отправился за взрослыми.
Пройдя между входом в ледник, где хранились капуста и картошка для части, и общим сортиром, попал во двор. Увиденная картина поразила меня. Посередине двора лежал мужчина с синим лицом и высунутым языком. Над ним расположился другой мужчина и методично то разбрасывал его руки в стороны, то сводил их к груди лежащего. По периметру стояла перешептывающаяся толпа. Я ничего не понимал, но чувствовал, что происходит что-то страшное. Наконец я услышал отголосок: «Повесился. На спинке кровати. Жена не дала похмелиться, и он повесился». Я еще постоял немного. Ничто не менялось. Я тихонько повернулся и ушел. Впрочем, никто не обратил на меня внимания.
Понимание пьянства как страшной опасности пришло ко мне очень рано.
Этот страх выматывал душу, пожирал остатки счастливости в сознании.
И очень быстро заставил думать о том, как мне вырваться из этого ада. Когда мы перешептывались с мамой во время пьяного сна отца, я часто просил ее, чтобы она развелась с отцом. Мои наивные комбинации не учитывали того, что квартира принадлежала полку и не могла быть разменяна. Да и работу в таком маленьком городе найти было бы трудно. Так что мама предпочитала терпеть эти мучения. И я терпел вместе с ней.
У нас, вернее, у отца, был мотоцикл. Он вообще любил технику.
Сначала в семье, когда меня еще не было, появился «ИЖ-49». Потом «ИЖ-56». Я его помню, он был бежевого цвета. А вырос я во время эпохи новенького «ИЖ-Юпитера» с коляской. Он был салатного цвета и хранился в старой деревянной халупе, именуемой «гараж». Мотоцикл плюс пристрастие отца к рыбалке неизбежно приводили к тому, что я вовлекался в процесс подготовки к поездке, мытью мотоцикла, а потом и к самой рыбалке. Отец, когда я подрос, почти всегда брал меня на рыбалку с собой. Буксование в грязи по дороге к речке или какому-нибудь пруду, озноб ранних прохладных зорь, ожидание восхода солнца и приходящего с ним тепла, возня с крючками, лесками, удочками, неутомимое бдение за поведением поплавка на мутной воде колхозного водоема с неуютными глинистыми берегами — все эти приключения могли давать ощущение непреходящего счастья любому мальчишке. Только не мне. Я возненавидел рыбалку, потому что отец начинал напиваться сразу, как только мы приезжали на берег. Или выезжали, когда он был уже пьян. Пьяный, он был, тем не менее, увлечен рыбалкой и не раздражал меня разговорами или какими-то выходками. Я бродил вдоль речки или пруда сам по себе. Пытался купаться, уходя по колено в илистое дно. Воевал с комарами, когда приходилось рыбачить в лесу. Я оставался один. Хорошо, что мне в голову не приходило, что пьяный отец мог перевернуть мотоцикл или врезаться во что-нибудь. Не допускали этого огромные пустые пространства и отсутствие какого бы ни было транспорта на пыльных трясучих проселках… Став зрелым подростком, я уже всячески старался избегать этих поездок. Изворачивался, как уж. И мне удавалось увильнуть от ненавистного занятия. Пьяный отец жил в параллельном мире и не замечал, что творится вокруг на самом деле.
Приближалось окончание школы, и надо было решать, кем быть в жизни.
Конечно, военным. Но у меня была близорукость, и путь в летное училище был закрыт. Я отправил документы в училище военных политработников. Документы мне вернули с отказом. Я не представлял, кем хочу стать. Меня не интересовало ничто конкретно, кроме литературы, притяжение которой я ощутил, когда мы освободились от влияния Лидакола, и литературу стала преподавать другая учительница.
Это было в старших классах. Это притяжение радовало и тревожило меня на подсознательном уровне. Радовало тем, что душа обрела место на земле. А тревога возникала, когда приходило понимание невозможности осуществить свои мечты и стать писателем. Профессия писателя для меня была священна. Писатель воспринимался мной как Учитель, как жрец, как владелец неведомых мне знаний.
Однажды, придя домой, я увидел нашу добрую соседку — Тётьлюду.
Тётьлюда и мама о чем-то тихо совещались. Когда увидели меня, пригласили к участию в беседе. Мама предложила мне вариант поступления в Саратовский медицинский институт. Я легкомысленно воспринял эту версию. Я понимал, что подготовка моя слаба. В Москву, в связи с этим, дорога была закрыта. Особых пристрастий к математике или физике я не имел. Политехнический и сельскохозяйственный институты меня не интересовали вовсе. Поэтому отношение к медицине было двойственное. Я не был прирожденным естествоиспытателем. Однако медицина была привлекательна тем, что в ней находили место мои гуманитарные наклонности и нежелание заниматься точными науками.
Вокруг этого семейного действа кружили мои страхи. Поддержки от отца я не ожидал никакой. Я постепенно становился одиноким, оторванным от дома юношей, с огромным комплексом неполноценности и с не менее выдающейся амбициозностью. Страх перед неизбежным разрывом с домом, страх необходимости обретения жилища в чужом, огромном, равнодушном городе, страх полного одиночества — эти страхи были естественными и воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Однако душа была уже сенсибилизирована другими, более мощными, страхами, новые переживания выходили за рамки обыденного, и я чувствовал, что надвигается нечто ужасное и неотвратимое. К тому же отец, уехавший к новому месту службы, вернулся оттуда пенсионером. Выйдя из-под контроля матери, он, скорее всего, пил там беспробудно, попал в госпиталь. И его списали, не дав дослужиться до нормальной пенсии совсем немного. Да он и не боролся с обстоятельствами. Включенный механизм саморазрушения работал на полную мощность. Это лишило нас возможности переехать в областной город, где жизнь, может быть, приобрела бы другие, более радостные и наполненные, оттенки.
Страх уже тогда сделал из меня калеку. Это выражалось в том, что я шагу не мог ступить без мамы. Она занималась поиском репетиторов.
Через соседку нашла жилье в чужом огромном городе. А потом ездила со мной сдавать документы на экзамены. Я не мог самостоятельно перемещаться по новому городу. Меня пугали трамваи, троллейбусы.
Купить и попросить кого-то пробить талончик было испытанием. А уж поесть где-то самостоятельно, в какой-нибудь забегаловке, я просто был не в состоянии. Меня парализовало обилие людей, сознание своего несовершенства. Мне казалось, что все смотрели на меня. Вся улица, весь город.
На экзаменах я не добрал полтора балла, но оставалась крохотная надежда попасть в так называемые «кандидаты», которые занимались вместе со всеми, постепенно замещая места тех, кто выбыл из института по той или иной причине. Я ездил в Саратов, выстаивал очереди перед дверями деканата, сдавал дополнительные документы. И получил-таки право на учебу. Меня зачислили «кандидатом». Когда я очнулся, то увидел вокруг себя новых людей — это были студенты моей группы.
Жить в общежитии я категорически отказался. И мама нашла мне квартиру, коммунальную комнатушку, которую мы делили вместе со старой маленькой бабулькой, оказавшейся не злобной и чистоплотной. С соседями у нее отношения были хорошие, что передалось и на меня. Я способствовал этому тем, что был очень тих и осторожен. Ел я то, что привозил из дома. Два раза в месяц ездил домой. И видел там картину постепенной гибели семьи. Отец все время был пьяным. Мой приезд не интересовал его вовсе. Он жил уже посторонней жизнью, вернее, уже полусмертью. Мама собирала тяжеленные сумки с едой, провожала меня до автобуса. А потом, добравшись на проходящем поезде до Саратова, я пёр их до бабулькиной комнатки.
В институте совершенно исчез страх перед шпаной, которую я не встречал на улицах города, поскольку постоянно был на занятиях, среди себе подобных, и не посещал заведомо опасные места. Пляж в Затоне, например. Или парк культуры и отдыха. Слухи о бандитствующих группах доносились каким-то далеким эхом и не тревожили меня. Однако началась другая пытка, которую провоцировали мои чудовищные комплексы. В институте была своя элита, высокомерно смотревшая на приезжих типов вроде меня. Это были дети преподавателей института или дети советских торгашей и коммунистических командиров высокого ранга. Они бросали презрительные взгляды в мою сторону. Друзей у меня почти не было. Я был отчаянно одинок. Мучился из-за того, что не мог приобрести себе модную одежду. Джинсы, например. Стоимость их равнялась маминой зарплате. А отцовская пенсия урезалась до минимума беспробудным пьянством. У меня практически не было денег, и затеять какой-нибудь роман со студенткой я не мог, несмотря на свои счастливые внешние данные. Организм требовал физической любви, и я продолжал заниматься онанизмом. В то время как мои сверстники, свободные и не зажатые дурацкими страхами, легко находили возможность реализовать свои сексуальные возможности.
Дикая смесь из одиночества, замкнутости, тщеславия и самолюбия рванула со страшной силой, когда в троллейбусе ко мне подошла небольшого росточка девушка, наша студентка, взяла меня за пуговицу и предложила познакомиться. Так случилась ошибка, которая дала результат в виде двадцатилетней семейной жизни с дочерью большого саратовского начальника. Скоропалительной свадьбе способствовала гибель отца. Система самоуничтожения сработала. Он утонул на рыбалке. Осенью. В реке Хопер. Под «бековским» железнодорожным мостом. Поезд, на котором сейчас я езжу в Москву, идет как раз по этому мосту, и я могу видеть место, где утонул отец. Но никогда не смотрю в эту сторону.
Мы поженились сразу после похорон. Меня просто приняли в семью как нового ребенка. В глазах окружающих я вознесся на неимоверную высоту. Меня уважали, но не любили. Я продался. И таким образом мгновенно превратился в мажора. Это тешило мое тщеславие. Я находился в состоянии постоянной эйфории. На какой-то момент страхи оставили меня. И наружу поперла моя тщеславная дурь.
Новой семье купили машину. Родилась дочь. Только два студента ездили на занятия на своих автомобилях. Сын известного торговца и я. Но покой длился недолго. Скорее всего, я сам искал страх. Сознание было наркотизировано страхом до последней степени. И отсутствие его начинало ломать и мучить разум и тело. К тому же оказалось, что половая близость со своей женой меня быстро перестала интересовать, и я ринулся на поиск настоящих ощущений. Измены посыпались одна за другой. Глупо говорить о том, что никто ничего не видел и никто ни о чем не догадывался. Тем не менее, я активно искал новые увлечения и романы. И страх вернулся. Теперь он носил одежды страха разоблачения, страха быть пойманным за руку.
Слух обо мне, как о человеке свободных взглядов, покатился по всем дорожкам и тропинкам. Однако замечаний или намеков мне не делали, и я подло пользовался этим. К концу института я уже был созревшей сволочью, сытой, довольной собой, трусливой сволочью. По окончании учебы тесть устроил меня в научно-исследовательский институт младшим научным сотрудником. Сразу, минуя интернатуру. И тут-то выяснилось, что я оказался абсолютно равнодушным к научной работе, да и к медицине тоже. Надо сказать, что я к тому времени уже сам стал попивать, а потом и серьезно напиваться. Появился медленно растущий страх перед алкоголизмом. Но я не выходил из общепринятых рамок. Пил только по праздникам, правда, напивался серьезно. На новой работе ко мне отнеслись с некоторым любопытством и неприязнью. А когда выяснилось, что я научная бездарь и медицинский лентяй, отношение приобрело резко отрицательный оттенок.
Я чувствовал это. Я видел, как сотрудники надсмехаются над моей безграмотностью и ленью. Чтобы как-то использовать мою энергию, шеф занял меня бестолковой комсомольской работой. Я собирал и проводил собрания, носился по институту галопом с предупреждениями о грядущем субботнике или еще с какой-нибудь ерундой. Научные статьи я не писал, так как просто не умел этого делать. А учить никто меня не собирался. По теме, которую закрепил за мной шеф, выходили статейки, где меня приклеивали как соавтора. Было противно и стыдно. И страшно. При мыслях о работе у меня сразу возникали тревожные ощущения и спазмы в животе. Я перестал просыпаться веселым и здоровым человеком. Начало рабочего дня было тяжелым и мучительным.
Только потом, к обеду ближе, день приобретал какие-то приемлемые очертания. Совмещать псевдонаучную работу и работу обычного врача было неимоверно трудно, потому что ни то, ни другое всерьез меня не интересовало. Я ехал на авторитете зятя большого начальника, и только.
Однако не все относились ко мне с неприязнью. Женское население больницы обратило внимание на мое сволочное обаяние. Я был прост в общении, прямодушен и не хитер. Да и подлостей никаких не устраивал.
Это получило высокую оценку в глазах многих докториц и медсестер. Я всегда готов был помочь в какой-то мелочи, поддержать словом или делом в стремной ситуации. И с первого появления на работе находился под прицелом удивительно красивых, безумных серых глаз.
Но до поры не чувствовал этого. Служебный роман — штука кошмарно-притягательная. Она чревата всякого рода провалами и взлетами. Экстрим подобного рода постоянно держит в напряжении не только самих потерпевших, но и весь окружающий персонал. Это своего рода мыльная опера. Реалити-шоу, в котором участвуют все. Иногда служебные романы протекают мягко, быстро надоедают окружающим, и они оставляют в покое тщетно таящуюся парочку. Но если роман случается между людьми, которых недолюбливают или просто ненавидят в конторе, дело принимает другой оборот. Народ стразу делится на два лагеря: поддерживающих и топящих. Сплетни жужжат, как толстые шмели, и пребольно жалят влюбленных. Шеф в этом случае знает все. Ему докладывают лазутчики сразу из двух лагерей. Если шеф не дурак, он ждет, когда все затихнет само собой. Так было и в моем случае.
Роман грянул. Он потряс не только институт, но и весь город. Я по уши, с первого взгляда, влюбился в женщину, которая была намного старше меня. Даже страшно сказать, насколько старше. Она точно рассчитала ходы. И я попался. Ослеп и оглох. Потерял совесть и разум, что одно и то же. Я проваливался в новый всепоглощающий страх, как мальчишка проваливается в омут, едва ступив на тонкий, черный, тут же трескающийся под ногами лед. Я животным чутьем уловил мощные волны встречного возбуждения и желания. И практически не ухаживал за этой женщиной. Все случилось само собой. Естественно, на не случайно совпавших ее и моем дежурствах. Первый огневой контакт был стремителен и тщательно кем-то выверен. Обнаружилось феноменальное сходство. Физиологическое и духовное. Я сразу сказал себе, что если бы не фатальная разница в возрасте — эта женщина была бы моей женой. Несмотря на то что у меня была маленькая дочь, а работа оплачивалась мизерно, так что приходилось постоянно гробиться на дежурствах. Я ни о чем не думал. Я был влюблен. Впервые в жизни.
Навечно. Я жил своей любовью совершенно открыто. Это было скорее отчаяние, чем равнодушие к окружающим. И понимал, что семья стала рушиться, что никогда она уже не станет домом, спасающим и укрепляющим.
С этого момента началась моя жизнь на улице, как я определил это состояние. В гостиничных номерах, в случайных квартирах, на дежурствах и так далее. Страх вновь стал определяющей нотой моего поведения. Унизительное поддерживание статуса примерного семьянина, фальшиво-беспечная болтовня с женой. Такие же фальшиво-расторопные попытки услужить великому тестю. А с другой стороны — постоянный поиск разомкнутых временных рамок, позволяющих прыгнуть в машину и улететь в сторону совершенно противоположную, не боясь свалиться в кювет или просто попасть в случайную аварию. В моем случае страх имел амбивалентное значение. Он уничтожал защитные силы моего тела и сознания, но был сладок и притягателен, как наркотик, темный, восхитительно острый морок. У этого страха был еще один источник энергии. Обоюдная беспощадная ревность. Я ненавидел человека, который был мужем этой женщины. Ревнивые фантазии уносили меня на немыслимую орбиту зла. Я мучил свою любовь иезуитскими способами.
При ней я постоянно пребывал в депрессивном расположении духа и не упускал малейшей возможности уколоть или ударить ее своей ревностью.
В свою очередь я получал в ответ заряд ревности не менее мощной и опустошающей. Встречи были теплы и человечны. Расставания превращали нас в воюющих чудовищ. Наши глаза светились мертвым светом, мы скалили зубы, как матерые хищники. Мы были готовы убить друг друга.
Наверное, смерть кого-то из нас, в самом деле, была бы избавлением.
И кто-нибудь уцелел бы. Но не уцелел никто.
Ужас ситуации заключался в том, что агрессивно настроенная масса сотрудников, наши семьи, даже просто близкие люди были пассивны и напуганы размахом, казалось бы, тривиального служебного романа.
Никто не дал совета. Никто не встряхнул меня, как щенка за загривок.
А муж моей любовницы был давно ею сломлен и любил ее обреченно и жертвенно. А так бы врезал бы пару раз по рогам обезумевшей самке — глядишь, дело бы повернулось по-другому. Жалко, смертельно жалко, что у меня не было отца, не было старшего брата, которые бы не стали сюсюкать со мной или предпринимать попытки преодолеть мой гонор. Они вышли бы на прямой, мужской, тяжелый, очищающий разговор. Или — по зубам. Да не раз. Я уверен, что это спасло бы меня.
Но Небесам виднее. Они распоряжаются нами по своему усмотрению. И в их действиях бесполезно искать конкретный смысл или определяющий вектор. Не для наших нищих умишек промысел горний. Я был слабым деревом. Мне нужна была мужская серьезная опора. И на непростительный мезальянс со своей женой я пошел именно по этой причине. Я искал опору в чужой семье. Я мог бы обрести ее, но сам разрушил эту возможность. И к ужасу своему, понял, что моя зависимость от любовницы определяется именно тем, что я нашел в ней какую-то видимость защиты от окружающих меня страхов. Глупая и непростительная ошибка — спасаясь от множества страхов, пребольно бьющих, кусающих меня, но оставляющих надежду остаться в живых, я приобрел страх такого масштаба, который просто не вмещало мое сознание. Этот страх повис надо мной черным облаком, заполонившим небо до самого горизонта. И не было просвета между черной полоской земли и черным подножием облака страха. Оставалось дожидаться, когда оно закружится бешеным водоворотом, потемнеет еще пуще, соберет свои немыслимые силы и метнет в конце концов ртутно-белую молнию в мое издерганное сердце. И грома я уже не услышу.
Но развязка приближалась долго. Казалось, она никогда не наступит.
Мы жили открытой жизнью. Утром я заезжал за любимой женщиной, и мы ехали в институт. На первых порах высаживал ее метров за триста от центрального входа и подъезжал к стоянке как ни в чем не бывало, думая, что мир вокруг так же слеп и глух, как и я. Но суть этой женщины была в том, что она не терпела унижения перед людьми.
Скрывать что-то, таиться она физически не могла. И меня приучала к этому. Ее гордость за содеянный грех, ее отчаянное бесстрашие и бесшабашность отчасти передавались и мне. Вскоре мои жалкие попытки что-то скрывать были пресечены таких градом насмешек и презрительных замечаний, что я отказался от попыток прятать голову в песок, пытаясь заляпать очевидное отвратительной смесью лицемерия и лжи.
Так что мы стали вместе подъезжать к фасаду нашего гадюшника. Она таскала меня по ресторанам, знакомила со своими подружками. Она отучала меня от суетливости и убогого крохоборства. Она просаживала на меня всю зарплату. Фактически я был альфонсом, потому что палец о палец не ударил ни разу ради устройства наших темных дел. Место встречи, транспорт, еду обеспечивала она, а не я. И я не казался себе подонком или сволочью. Я воспринимал все как должное. Как жертву, приносимую за грех развала моей семьи и разрушение моего сознания. Однако именно этот человек, видя мою незащищенность, заложенную во мне на генетическом уровне и активированную детскими и отроческими страхами, пытался всеми силами воспитать из меня хотя бы не героя, но отпетого расчетливого циника. Она доказывала простыми примерами, как можно перенастраивать людское сознание, использовать его или нейтрализовать, если первое невозможно. Она специально при мне таскала в кабинет шефа дорогостоящие букеты. Стала постоянной пациенткой, а потом и подружкой его жены, которая консультировала у нас в клинике отоларингологичесих больных. У нее была масса связей в самых различных местах, вплоть до милиции и КГБ. Одна несчастная барышня, рискнувшая оскорбить меня, была уничтожена на моих глазах самым иезуитским образом. У нее просто была сорвана поездка за границу, к которой она готовилась несколько лет. В известных органах ей сказали, что документы ее потеряны и находятся неизвестно где. И все. Тишина. Вступая в борьбу за свое достоинство моя любовница, а фактически жена, не щадила никого, была изобретательна и дьявольски хитра. В ней неимоверным образом уживались удивительная нежность и тяжелая мужская раздумчивость. Хватка ее была железной. Многие люди просто боялись ее и предпочитали помалкивать, когда она находилась рядом. Другие безмерно уважали и поклонялись ей. Она была очень проста в общении. Многим реально помогала по жизни. Вечно кого-то куда-то устраивала. Спасала чужого сына от наркомании, одалживала деньги санитаркам-алкоголичкам, которые считали за честь вернуть ей занятые перед запоем деньги. Медсестры и нянечки просто обожали ее.
Само собой, она был в цепкой дружбе со старшими медсестрами всех отделений. А старшая сестра в больнице — это страшная сила. У нее прямой доступ к дефицитным лекарствам, удобным палатам. Она наушница зав. отделением, которая полностью доверяет ей. Они работают в паре, когда надо обслужить по полной программе сильного мира сего. И я учился этим простым, но в то же время крайне необходимым для жизни правилам. Я впал в неконтролируемую зависимость от постороннего, в сущности, человека. Нет, уже не постороннего, а данного мне в испытание и муку.
На каком-то этапе мы перешли некий барьер. Пропала острота ощущений.
Мы жили как муж и жена. С приливами острой похоти и периодами длительного равнодушия. Причем равнодушия с моей стороны. Моя женщина мгновенно ощутила эти перемены. И однажды принесла на свидание бутылку конька, которую мы и ухлопали за вечер под неистовый секс на полуразрушенной кровати.
С этого момента алкоголь стал постоянным спутником наших встреч.
Сначала дело ограничивалось бутылкой конька или водки. Потом мы, вернее, в основном я, дошли до дозы двух бутылок за ночь. У меня был сильный, хотя и измотанный страхом организм. Я ухитрялся утром вставать и идти на работу. Где мучился до обеда, а потом, дождавшись конца рабочего дня, летел домой и опохмелялся. Меня просто спаивали, и очень скоро я стал пить каждый день. Хотя бы понемногу. Нет, вру, понемногу я не пил никогда. Я всегда напивался. Скорость моей деградации была равна скорости превращения в запойного алкоголика.
Надвигалась организованная тестем защита диссертации. Это требовало неимоверных усилий, учитывая то, что я был лентяем и бездарщиной в науке. Постоянное похмелье отнюдь не помогало в псевдонаучных изысканиях. Мне помогала моя женщина. Она собрала литобзор, организовала выпуск диссертационной методички. Знакомому фотографу дала задание подготовить модные слайды. Всячески угождала шефу.
Невероятно, но она приблизила меня к нему, и я его не очень раздражал своей тупостью.
В институте не догадывались, что я сильно пью. Только немногие доверенные лица знали об этом. Это были те люди, у которых я выпрашивал спирт на опохмелку. Страх, который, казалось, не мог быть уже острее и больнее, тем не менее, усиливался похмельными состояниями до такой степени, что иногда утром я не мог подняться с кровати и умолял тещу, благо работала она в поликлинике, выписать мне фальшивый больничный лист. И я устраивал себе отходняк дня на три. Чудовищное давление страха превращало меня, умного, тонкого, разносторонне одаренного бабника, в импотента и полуидиота.
Но что-то случилось. Зажатый в гибельный угол, потерявший остатки воли и совести, я сумел уйти от алкогольной зависимости. Это произошло неким совершенно естественным образом. Я нашел в шкафу старую записную книжку со своими стихами. Прочитал и понял, что отупел и огрубел до последней степени. Мне не хотелось быть таким! Я не хотел повторять судьбу отца! В этот же вечер я демонстративно вытащил все свои заначки и, показав это добро жене, объяснил ей, что с этого момента завязываю с пьянкой. Ответом были недоверчивый взгляд и горькая усмешка сломанной, потерявшей надежду на нормальную жизнь, но безгранично любящей меня женщины.
Ломка была страшной. Мне пришлось воспользоваться заочной консультацией нарколога, организованной моей любовницей. Долгое время я пил разные таблетки. Но я выдержал эту борьбу с самим собой.
Парадокс был в том, что мне помогал впитанный всеми клетками страх перед пьянством отца. Один страх стал препятствием для другого. Я не раздумывал об этом. Я не пил. Занимался спортом. Возился с диссертационными заморочками. И не заметил, как моя любимая женщина стала постепенно удаляться от меня, медленно, но неумолимо исчезая во времени и пространстве, оставляя меня наедине с моим страхом. Она стала часто говорить, что скоро умрет, интонационно придавая словам иной, не буквальный смысл. Приближалось ее сорокалетие. И я уже начал чувствовать, что это некий этап для нее, предел, за которым начинается новая жизнь, где для меня не было уготовлено место.
Собственно, этот роман отчасти стал тяготить и меня. Но я привык к присутствию рядом этого человека. Секс потерял остроту и превратился в обыденщину. Я стал посматривать по сторонам. Но моя пугливая, алчущая острых ощущений душонка чувствовала опору, пусть зыбкую, но опору. Первый раз в жизни. И было страшно лишиться ее. Тем не менее, я ее лишился. Отвратительно натуралистическим, грязным и уродующим мою непросто сбалансированную натуру путем.
Это произошло на улице, когда мы встретились, чтобы идти вместе на работу. Мне было сказано, что меня оставляют. Оставляют навсегда, без возможности дальнейших встреч. Что есть человек, который ждет любимую мною женщину. И впереди маячит очередное ее замужество. Это был не удар. Это был крах всей системы жизни. Это было то состояние, когда сама жизнь теряет всякий смысл. Пустота, пустота впереди.
Пропасть. И страх. Черный, непроницаемо-черный страх. Я потерял лицо. Я умолял ее не делать этого. Я даже согласился на то, что она родит ребенка от меня. Я даже плакал, по-моему. Но я столкнулся с железной стеной ее мощного темперамента. Ей было мучительно больно расставаться со мной. Но ходы были просчитаны. Сорок лет. Рядом мальчишка, который рано или поздно увлечется чьим-то молодым телом, и — нет его. Ее, как и меня, пугала пустота впереди. Жизнь с ненавистным мужем. Отсутствие детей. А тут подвернулся зрелый, успешный в то время, разведенец, который втюрился в нее, как мальчишка, с первого взгляда. Появился шанс. Шанс уйти от пустоты и саморазрушения. Появилась возможность жизни рядом с новой любовью, которая, как известно, убивает старую.
Расставание было тягучим, крайне мучительным и нелепым. Я преследовал ее несколько месяцев кряду. Она отвергала все мои попытки вернуть прошлое. Причем использовала садистские методы. Она ненавидела мою молодость, мою внешнюю привлекательность, мою социальную устроенность. Она мстила мне за это, подробно рассказывая по телефону о любовных утехах с новым мужчиной, об их планах на будущее. А я, как дурак, слушал. Слушал и изнемогал от ревности, бессилия и страха. Иногда она не могла увернуться от моего неутомимого преследования, и мы предавались беспощадному от взаимной ненависти сексу. Но это были редкие случайные встречи. Я просто находил слабину в ее обороне. Этому способствовал затянувшийся скандальный развод ее будущего мужа. Гром гремел на весь город.
Бушевали бразильские страсти с колоритным поволжским оттенком.
Странно, что я не вернулся к алкоголю тогда. Что-то спасло меня.
Зарок был крепким. Цементирующим составом его был страх.
Как-то по пути сама собой защитилась диссертация, что породило новую волну зависти и ненависти в родном рабочем коллективе. Высказывания были подчас прямыми. А я в ответ заряжал, что диссертацию защитили мой тесть и мой шеф. Это обескураживало нападавших, и от меня скоро отстали. Осуществился мой переход из научно-исследовательского института, где от меня не было никакого проку, в систему медицинского ВУЗа, где я стал ассистентом кафедры. Это была почетная «сенаторская», как говорил один из сотрудников, должность. Причем хорошо оплачиваемая. Эти перемены, попутные короткие контакты со случайными тетками — немного сгладили остроту болевых ощущений. Но меня продолжало корежить еще лет пять кряду.
Семья была разрушена. Я находился дома только физически, а душевно, мысленно кружил между чередой посторонних женщин, стихами и какими-то неопределенными надеждами. Не знаю, на что, не знаю, на кого, не знаю, на «когда». В стране, тем временем, происходили ожидаемые вполне изменения. Страна перестала быть страной. Вокруг рушилось все, что раньше казалось прочным и практически вечным.
Постепенно затрещали стены и нашего института, который во все времена был островом, где царили свои законы, хранящие покой и порядок. Естественно, что рухнула, прежде всего, финансовая система.
Нам прекратили платить зарплату. Несмотря на величие моего тестя, уже больного и безработного, благополучие моей семьи держалось на зарплатах двоих врачей. Жена работала окулистом в глазной клинике, которую постигла та же финансовая катастрофа. И в доме просто не стало денег. Машина была поставлена на прикол. Особого ужаса никто не испытывал, потому что это было всеобщим явлением. Все наши друзья и знакомые перешли на голодный паек. Спасали дачи, огороды, развернутая семейная структура, где помощь шла с разных сторон. То привозили мясо из деревни, то тетки с дядьями подбрасывали мешок картошки, а малым детям перепадала одежда от повзрослевших детей каких-нибудь совсем дальних родственников.
Забота о хлебе насущном создавала скорее истерическое напряжение, нежели страх. Постепенно тонкой кровянистой коркой затягивалась любовная рана. Однако потрясение, которое я испытал, резко изменило меня. «Это как под трамвай попасть», — говорил я другу. Нет, не другу, какому-то другому человеку. Друзей у меня не было. Приятели были, друзья — нет. Вернулось состояние полного космического одиночества. Писание стихов, которые являлись диалогом с внешним миром, держало чаши весов в неустойчивом равновесии. Охота на женщин продолжалась сама собой и давала результаты, которые не приносили ничего, кроме раздражения и всплесков липких волн страха. Именно волн, потому что озерца, озера, моря моих страхов уже слились в необоримый океан, по которому я плыл на утлой лодчонке под названием «жизнь».
На работе ситуация была сложной. Я был молод, но понимал, что вечно в ассистентах кафедры ходить не смогу. Стареющий ассистент — жалкое зрелище. Надо было предпринимать попытки вырулить на должность доцента. Тесть уже не был помощником. Он мучительно умирал от рака кишечника. Позже я удивился совпадению. Пригодилось сближение с шефом, которому я постоянно оказывал мелкие услуги. Скоро я стал для него необходимым инструментом для решения разного рода бытовых задач. У меня была пробивная сила, основными элементами которой были внешнее обаяние, искренность, настойчивость, абсолютное отсутствие совести. Поэтому, когда мой патрон завел разговор о доцентстве, я ничуть не удивился. Стали осуществляться необходимые шаги. Шеф руководил одновременно и кафедрой, и институтом. Это было очень удобно. Для всех. Количество статей, где я был соавтором, резко увеличилось, была определена тема докторской диссертации. Я часами пропадал в кабинете шефа, что поднимало меня в глазах окружающих.
Меня стали слегка побаиваться, появилось уважение, крепко замешанное на ненависти и зависти. Хотя завидовать можно было только внешним проявлениям успешности. Если бы кто-то знал, какие волны страха постоянно обрушивались на меня — удивился бы до обморока. Но я не подавал вида. Я отчаянно сопротивлялся. Маску мажора я не снимал даже во сне. Вскоре были собраны документы для утверждения меня на новую должность. Я стал вести профессорский курс лекций, который всегда вели доценты. Я уже видел себя делающим обход отделения, окруженным свитой ассистентов, врачей и медсестер. Мне мерещилось, что звание доцента как-то поправит мои финансовые дела. Но это была чистой воды фантазия, потому что доценты получали чуть больше, чем ассистенты, а в ту пору и эти гроши не выплачивали месяцами.
Умер тесть. Я уважал его всегда. За мужество и выдержку, за врожденную деликатность и интеллигентность выходца из дремучей деревенской глухомани. Не стало еще одной опоры. Но шеф проявил некие признаки благородства. Он не отключил механизм превращения меня в доцента, а наоборот резко ускорил процесс. Это слегка настораживало, потому что поползли упорные слухи об отъезде его на историческую родину. Я отмахивался от них. Они тревожили океан страха, и он отвечал на это длинными тяжелыми волнами, которые едва выдерживала моя убогая лодчонка.
Новый удар был неожиданным и нокаутирующе мощным. Шеф стремительно уехал, бросив на полдороге хлопоты о моем доцентстве, не перепоручив меня никому. На кафедре появился другой заведующий, пользующийся поддержкой великого московского друга. Он мгновенно затеял войну с только что вступившим в свои обязанности новым директором научно-исследовательского института. Я был человеком шефа. И карьера моя рухнула в один день.
Мне представилась скучная жизнь стареющего человека, издерганного постоянными нападками вздорного заведующего кафедрой. Темная глухая тоска. Постоянный страх, который рано или поздно прикончит меня, ударив в мозг, или в сердце, или в живот. Я отвернулся от своей профессии. Я понял, что хода дальше мне не будет никогда. А мне всегда не нравились темы жизни, которые не имели возможности развития. Я сразу терял к ним интерес. Медицина не давала денег.
Было ясно, что в стране, несмотря на ее феноменальные изменения, бюджетникам много платить не будут. А взятки я не смогу получать, потому что все богатые пациенты будут перехватываться заведующим кафедрой или, если он проморгает, хищными новыми доцентами. В городе наращивала обороты воронка стихийного базара, который называли то бизнесом, то коммерцией. Я стал осторожно поглядывать в эту сторону, несмотря на то, что началась настоящая война воров. Банды уничтожали друг друга под корень. На улицы вылезла подворотная шпана в дорогих спортивных костюмах, кроссовках и кепках. Да, забыл короткие кожаные крутки. Непременный атрибут. Надевались поверх спортивного костюма.
Я стал искать возможности каким-то образом проникнуть в новую и опасную среду. Что меня толкало? Казалось бы, наоборот, надо было тихо сидеть в конторе, грызть свою нищенскую кость и помалкивать. Но мне нужны были новые страхи. Океан требовал постоянного притока свежих кошмаров и мучений. Именно это, а не жажда денег или необходимость спасения семьи, руководило моим сознанием. Но мне не приходило в голову, что теперь страх является не просто пассивным орудием моего уничтожения. Он стал поводырем, который вел меня к краю бездны. Я наводил всевозможные справки. Впитывал новую, подчас самую необычную, информацию. И понемногу стал намечать пути ухода из медицины.
Рвать полувысохшую пуповину было и страшно, и больно. Но процесс был уже необратим. У меня появилась мощная доминанта, которая маскировала все страхи: я мужик, я должен добывать деньги. Каким образом — неважно, хоть сидением в ларьке или копанием могил. Благо у меня были друзья-могильщики. Они приходили в спортивный клуб, где я до изнеможения работал со штангой и гантелями и быстро сдружился с этой братией. Но участь могильщика миновала меня. Мои постоянные расспросы привели к тому, что однажды поступило предложение поработать в страховой компании.
Страховые компании плодились, как головастики. Неожиданно громко возникали, а потом бесшумно пропадали. В каждой компании имелся отдел медицинского страхования. Когда я спросил о зарплате, то был ошарашен. Даже половина ее, а я собирался работать одновременно на кафедре и в компании на полставки, перекрывала мой нынешний заработок, включая дежурства и мелкие взятки. Взяли меня сразу.
Одной из причин было то, что руководили компанией бывшие военные врачи, а другой то, что я был хорошо представлен работницей компании, с которой меня познакомил брат ее, такой же нищий профессионал, как и я.
С новой знакомой мы сразу нашли общий язык. Сдружились моментально.
И образовали крепкий, основанный на обоюдном страхе перед окружающей средой, тандем. Тем более что я интересовал ее как мужчина. На это нюх у меня был остер. Началась бесконечная гонка. Полдня я был на основной работе, потом летел в страховую компанию, где занимался всякой ерундой. Медицинское страхование населению, напуганному начавшимися грабительскими обманами, было не нужно. Для проформы мы с Ириной (так условно обозначу в повествовании свою знакомую) мотались на машине, которую я расконсервировал, по разного рода фирмам и предприятиям, вяло расписывая прелести медицинского страхования. А живым делом, приносящим легкие и потому столь радостные деньги, была торговля шмотками. Вот тогда-то я и почувствовал вкус денег. Ради этих удовольствий мы были готовы ехать в любой район, чтобы разложить в зале собраний какого-нибудь заводика диковинные китайские товары, в основном одежду. Иногда обувь. Иногда купальники или белье. Было весело и страшно. Мы снимали небольшую маржу с продажи всего этого барахла. Основную выручку тащили в компанию, вернее банду, которой, собственно, и являлась страховая компания. За хорошую выручку нас благодарили и давали новую партию шмотья.
На кафедре, тем временем, копилось напряжение. Все видели, чем я занимаюсь. Некоторые уважали меня за изворотливость в критической ситуации. Начальство же тихо злилось. Рвануло тогда, когда я поменял машину, скопив необходимую сумму денег. Да, деньги у меня появились.
Сначала я перестал курить дешевые сигареты, потом стал покупать более дорогую еду. Следом за этим появилась возможность приобретать одежду ребенку и жене. Про себя я тоже не забывал в этом случае.
Далее произошла замена бытовой техники. И наступило время смены автомобиля. Когда я подкатил на нем к дому, жена надулась ревниво и испугалась. Мать впала в какую-то дурацкую истерику. Никто не понимал, что произошло. Это непонимание и отсутствие поддержки озадачило меня. Было горько и больно. Потом я забыл об этом. Потом об этом забыли все. Пришло время настоящих денег.
А на кафедре меня стали потихоньку прижимать. Давать занятия в поздние часы, заставляли читать лекции, что крайне осложняло жизнь.
Наваливали больных для консультаций. Во мне раздражало все. И новая одежда и новая «шестерка» у парадного подъезда. И мерзкая привычка на глазах у всех есть банан, запивая дорогим кофе. У окружающих меня на это не было денег. Шеф делал окольные намеки. Однако я, подсчитав однажды, что заработал сумму денег, которую, гробясь на кафедре, не получил бы и до пенсии, обрел неведомую раньше свободу. Мне стало все равно: вылечу я с кафедры или нет. Поэтому, когда заведующий вызвал меня на приватную беседу и стал нудно объяснять, что кафедра для меня только «крыша и не более», я неожиданно прервал его отвязно-наглым заявлением. Я тихо, но внятно произнес, что если он не будет трогать меня, то я не буду трогать его. Я воспользовался тем, что размах мафиозной деятельности в стране имел уже галактические масштабы. И «пацанобоязнь» была общим недугом. Им страдал и мой начальник. А по больнице давно шел слушок, что я связан с бандитскими кругами. Это сработало. От меня отстали и на этот раз.
Страховая компания начала разваливаться. Это была обычная схема. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что исправно сработал технический прием, популярный в то время. Вытащив из наплодившихся банков деньги с помощью страхования кредитов, компании мгновенно разрушались, и деньги возвращать было уже некому. Собственно, мне это было мало интересно. Меня интересовала не зарплата в компании, а чистая коммерция. И мы с Ириной оказались вдвоем на свободном поле предпринимательства. На огромном бестолково организованном базаре.
Опасном и привлекательном.
Что мы только не продавали! Все, начиная от конфет, кончая газовыми плитами. Начального капитала не было. Держались мы на простой спекуляции. Но деньги постоянно присутствовали в наших карманах, благодаря нашей неимоверной работоспособности. Я ушел с кафедры, договорившись с заведующим, что моя трудовая книжка останется пока в мединституте. Меня отпустили без истерик и оркестра. Я свободно вздохнул. Врач умер. Родился человек без определенных занятий.
Страха не было. Он временно растворился в нескончаемом потоке приключений. Удач и провалов. Почему-то мы не боялись шпаны, которая гордо носила имя «рэкет». Мы были настолько мелки, что нас просто не замечали. Бомбили тех, кто явно вылез наружу со своими ларьками, оптовыми базами. Бандитским налогом были обложены даже крупные заводы. Росла гора трупов. Трупов мальчиков, которые занимались поставками сахара, горюче-смазочных материалов. Отстреливали крупных руководителей. С дорог исчезла милиция. Наступила дикая анархия.
Можно было бояться всего. Или не бояться ничего. Мы выбрали второй путь. И наткнулись-таки на жилу, которая позволила нам по-настоящему разбогатеть. Не до уровня олигархов, конечно. Это невозможно было сделать в провинции. Но до уровня состоятельных и уверенных в себе людей. Уверенных временно, потому что все, что мы успели нахапать, могли запросто отнять. Не бандиты, так бандитоподобные налоговики или ОБЭПовцы. Неутомимая Ирина предложила заниматься поставками неких дорогостоящих, но крайне необходимых для жизни товаров. Она срисовала схему действий у своего бывшего любовника, который уже плотно сидел на этой теме. Даже не помню, откуда взялись деньги на первые поставки. Убей, не помню. Но работа началась. И тут сами собой образовались структуры нового страха. Элементарного страха попадания за решетку.
Как только у нас появилась фирмешка, печать, система документооборота, то сразу возникли довольно тесные отношения с налоговиками. Мы нарушали все законы торговли, которые существовали.
За каждое нарушение нам грозили огромные штрафы, а в совокупности — реальная отсидка. Страх стал нормой жизни. Мы поняли, что главное — спокойно дожить до обеда, потому что основные неприятности случались утром или в первой половине дня. Мы работали, как заведенные. Мы, никогда не знавшие силу денег, впервые почувствовали ее.
Почувствовали свободу, которую дают деньги. Защищенность, которую дают деньги. Мнимую свободу и мнимую защищенность. Атаковали всегда вдвоем. И могли развести на деньги любого сильного мира сего, поднимаясь все выше и выше. Наше обаяние, учитывая привлекательность Ирины и бульдожью хватку ее, давало кумулятивный эффект. Прожигало лобовую кость любой толщины. За товаром мы ездили сами. Подчас Бог знает куда, даже на Урал. У нас появился склад, бухгалтер. Произошло неминуемое мощное столкновение с налоговиками. Это случилось сразу после того, как я купил крепко подержанный, но сохранивший свой неубиваемый шик «мерседес». Тогда их было мало в городе. И нарисовался я конкретно. Ответ Родины был практически мгновенным.
Меня вызвали в налоговую. Без лишних разговоров открыли файл, где была нарисована вся картина нашей бурной деятельности. На мониторе красовались названия всех фирм, которые мы регистрировали и мгновенно топили. А также, естественно, черные фирмы отмывальщиков денег. Штраф навесили неподъемный.
И меня, и Ирину колотило от страха. Мы взяли тайм-аут. Думали день и пришли к выводу, что налоговики такие же торгаши, как и мы, и, соответственно, есть возможность делового подхода. Мы стали торговаться. Сначала робко, потом все наглее и наглее. Я обнаружил в себе способность не терять самообладание при переговорах любой сложности. Девяносто пять процентов искренности и пять (основных!) процентов вранья. И все довольны. Чиновник тем, что его уважают, а я тем, что сумел вставить в его мозг нужную дискету. Таким образом мы скостили сумму вознаграждения втрое и получили твердое обещание, что к нам не пристанут больше никогда. Это косвенно говорит о сумме отмазки.
Семья, ради благополучия которой я упирался, разваливалась. Я практически не говорил с женой. Уезжал рано утром и приезжал ночью.
Моя охота за женщинами превратилась в манию. Я уже мало боялся порицания посторонних и делал все практически открыто. Страх быть разоблаченным исчез. Моя репутация перехватчика помогала мне — заинтересованные особы появлялись сами собой, без какого-то напряжения с моей стороны. Чувствуя себя совершенно свободным, я снял маленькую квартиру для неблаговидных целей. И — будто прорвало плотину. Хлынул настоящий поток баб. Я удивлялся тому, что наиболее падкими на гнилье оказывались мирные, благопристойные жены из семей с крепкими моральными устоями. Я, как настоящая сволочь, тешил свое самолюбие и успокаивал совесть тем, что не я один такой урод.
Океан страха тяжело шевелился. Он был живым существом. Он требовал меня всего. Ибо я был его пищей. Поначалу забыв о нем, я вновь ощутил его присутствие. Я услышал шум его протяжных волн. Я увидел безумные ветры, которые кричали над ним. И я не выдержал. Зарок треснул, как старый глиняный кувшин. Тень моего покойного отца замаячила в зеркале. Я стал пить. Алкоголь уравновешивал меня на время. Но тяжкие похмельные состояния рождали череду кошмарных уродцев, которые терзали мою плоть и мой разум. Спорт, работа не помогали. Я не мог забыть о страхе ни на минуту. Сердце было пустым.
В нем не было любви. Я превратился в робота. В человекоподобную схему.
Алкоголь не мешал работе. Ментов на улице не было. И я часто ездил в пьяном виде. Иногда целый день. Даже ухитрялся проводить переговоры.
Спасало то, что, пропьянствовав несколько дней подряд, я уходил в завязку на три-четыре недели. Да и бизнес был отлажен. Но мы знали, что это состояние неустойчивого равновесия, не более того.
Наконец-то, через много лет, появилась возможность ездить к морю. Я был страшно горд этим, несмотря на то, что жили мы не в пансионате, а в каком-то сарае. Но море, бездумие, свобода скрашивали эти неудобства. На море я пьянствовал беспробудно. Пил местное вино литрами. День начинался с двух-трех кружек виноградной разливухи. И заканчивался бутылкой водки. Жену это не тревожило, а просто бесило.
Жить рядом с человеком-зомби невыносимо. Вспышки ненависти выражались в простых вещах. Например, она могла прилюдно плеснуть рюмку водки мне в лицо, если я произносил вслух что-то невыразимо мерзкое. Я утирался и терпел. Я чувствовал свою вину. Понимал, за что я плачу.
Странно, но я не переставал писать стихи. Редко, очень редко меня уносила волна сладкой тоски, и я сочинял душераздирающие миниатюры.
Иногда на это провоцировали женщины. Исчерпав все формы домогательств, я в конце концов писал стихи и дарил их объекту преследования. Я был иезуитски хитер. Отравленные строки рано или поздно помрачали сознание несчастной жертвы. Русские женщины могут терпеть приставания богатых жлобов, липкие ухаживания чиновников разного калибра, истеричные любовные судороги нищих интеллигентов, прямолинейные наезды братвы. Только эти ребята чаще всего не добиваются желаемого. Но когда русская женщина попадает в поле зрения одаренного человека, ситуация меняется. Какая-то языческая сила, преклонение перед жрецом районного или губернского масштаба, толкает несчастную на путь временного помешательства. И она оказывается в объятиях победителя. Пусть тот и страшен обликом и вовсе не богат. А в моем случае отрабатывали свое все компоненты.
Внешняя привлекательность, деньги, наличие свободной квартиры, наглухо затонированный тяжелый «мерседес» и, наконец, стихи.
Гремучая смесь. Она давала разряд такой силы, что расставаться со мной некоторым моим подружкам было очень тяжело. Они становились моральными калеками, которым трудно отползти от места чувственного взрыва. После прерывания отношений они, получив дозу мощного наркотика, начинали преследовать меня. Мобильник трещал в самые неподходящие моменты. Но, оставив женщину, я уже редко возвращался к ней. Или включал ее в режим ожидания и вызывал по первому требованию. Признаться, многие шли на это. Почти все. Никто не бросал меня. Никто не начинал ненавидеть меня. Мне прощали все. Как прощается все человеку, несущему в себе Божий дар. Даже если это волшебное свойство имело существо безнравственное и холодное. Я развлекался.
А бизнес разрастался сам собой. У нас появился водитель, который развозил товар. Мы уже не ездили по фирмам-поставщикам. Образовались прямые связи. Стоило позвонить, и весь необходимый материал был готов. Будучи постоянными клиентами и опытными торгашами, мы добивались существенных скидок. Я приобрел несколько квартир в городе. Да, да, я рано просек, что недвижимость это хорошее вложение денег. А сами по себе покупка и перепродажа жилья стали вещью обыденной. Я готовился строить дом. То есть приобрести большую квартиру в центре города, желательно не очень убитую «сталинку».
Отремонтировать ее по полной программе и…
Политическая ситуация в городе стала меняться. Полностью сменилось руководство. Прежнего губернатора, анемичного разумом бездельника-интеллигента, сменил нахальный, умный выходец из приволжского совхоза. Когда я увидел первую кавалькаду черных «Волг», прущих против основного движения, то остро почувствовал возвращение чего-то старого, надоевшего до оскомины, но защищающего и твердого. Холопская привычка ходить под барином осталась навсегда.
Душа кричала: «Барин приехал! Барин!». Менты преобразились. Они стали ездить в своих убитых «канарейках» по трое. Выработали правильную тактику после нескольких групповых расстрелов гаишников.
Остановленную тачку шмонал один вооруженный страж порядка, а машину держали на мушке два автоматчика. Водила стоял, широко расставив ноги и положив руки на крышу автомобиля. Кино. Голливуд. Такие методы работы отрезвили многих. Постовые получили разрешение стрелять по неизвестным машинам, которые пролетали мимо, не обращая внимания на требование остановиться. И об этом знали все. Хотя я не помню, чтобы в самом деле изрешетили какую-нибудь лихую «девятку», промчавшуюся на самолетной скорости под глухое «буц-буц» в салоне мимо растерянного мента, вооруженного короткоствольным «калашом».
Новая администрация очень быстро проявила коммерческие таланты, что было несвойственно прежней. Мы столкнулись с проблемой сужения рынка. Тема, над которой мы работали, была настолько привлекательной, что у нас появились конкуренты, обладавшие мощным административным ресурсом. К тому же произошла кадровая перестановка на предприятиях, которые пользовались нашими услугами. Мы прилагали все усилия, чтобы сохранить позиции. Но становилось очевидным, что без надежного чиновничьего прикрытия бизнес невозможен. Сращение администрации и бизнеса имело государственный масштаб, и Саратов не был исключением. Наши попытки выйти на «большого дядю» успехом не увенчались. Меня встречали прохладно и вежливо. Сразу давали понять, что у них уже есть свои системы поставки, и мои коммерческие предложения не выгодны. Нас охватила тихая паника. Раскрученный маховик начал медленно останавливаться. Но мы ухитрялись налаживать новые отношения на местах и как-то выкручиваться.
Прежние, взращенные в далеком детстве и юности, страхи стали возвращаться один за другим. Они поменяли оттенок, но суть их осталась прежней. Страх физической расправы видоизменился и стал страхом разорения и лишения средств существования. А мы привыкли за этот короткий промежуток удач жить на широкую ногу. Я свозил семью в Италию и очень гордился этим. Началась кропотливая работа по выбору нового жилища, что представляло собой трудную задачу, ибо жилищный фонд в Саратове был крайне скудным. Страх превратиться в подобие отца и стать законченным пропойцей приобрел черты страха прослыть неудачником и банкротом. Это в буквальном смысле слова отрезвило меня. Пить я стал меньше, но срывы не прекращались. Двух-трехдневные запои кончались тяжелейшим похмельем, и я вплотную познакомился с наркологом. Откачивать меня приходилось с помощью систем. Это пугало до столбняка. Я долго не мог оправиться от потрясений подобного рода. И неделями ходил, озираясь по сторонам, вздрагивая от каждого телефонного звонка.
Я не осознавал, что изнуряющая коммерческая гонка и постоянное нервное напряжение уже стали разрушать мой организм. Страх работал, как стенобитная машина. Защитные стены были уничтожены, и полчищу страхов оставалось найти орган-мишень и обрушиться на него с убийственной мощью. Я примечал, что начинаю стремительно седеть, что рост спортивных результатов прекратился. Мое тело перестало сопротивляться. Квартира, которую я снимал, стала скучать. О стихах уже и речи не шло. Я мысленно подстегивал себя, доказывая, что сейчас действует доминанта поиска денег. И это оправдывает все нервные и физические затраты. Как я ошибался…
Квартира, о которой я мечтал, наконец была найдена. Я свалил все купленные ранее квадратные метры в кучу и, с ужасающими денежными и нервными потерями, купил ее. Жить было негде. Я продал свое прежнее убогое жилье. Силовым приемом переместил тещу из ее двушки в мамину квартиру. Мама была не очень рада, но ей пришлось согласиться. Я шел напролом. Пришлось познакомиться с прелестями контакта со строительными фирмачами. Их можно было пересчитать по пальцам.
Наглые в своей исключительности и отсутствии конкурентов, они ломили такие цены, что вызывали дрожь в руках. Поиски дешевой, но профессионально подготовленной фирмы были недолгими. И тщетными. Я обратился с просьбой провести ремонт к своему давнему приятелю. Тот был убедителен в своих рассуждениях. Предварительные расценки меня устроили, и я ввязался в аферу. Этот уникальный персонаж, как оказалось, никогда не занимался серьезным ремонтом. И просто учился этому тяжкому, но доходному ремеслу на территории моей квартиры. На территории моей жизни.
Очень скоро я понял это. Собственно, он, поймав меня на том, что уже вложены немалые средства в начало ремонта и сворачивать работы крайне опасно, даже не скрывал своего дилетантизма. Я напоролся на нахального и грязноватого вора, который умел, однако, убеждать потерпевшего своим уверенным воркованием. Поток денег, которые потекли ему в карман, стал неуправляем. Я бросал все средства на то, чтобы быстрее закончить этот дикий процесс. Денег было достаточно, потому что машина, которую мы с Ириной наладили, работала пока относительно исправно. На глазах у меня воришка приобрел себе новую квартиру и стал делать в ней ремонт. Понятно, что материалы на строительство моей квартиры закупались с учетом этого обмана. Мой новый мучитель открыто жил на мои средства, так как его собственный бизнесок был вял и неорганизован. Я старательно закрывал глаза на очевидное. Меня поджимали сроки. Ремонт я должен был закончить в течение года. Я, идиот, не обращал внимания на то, что так называемые «мастера» были подворотными ханыгами и менялись с ненормальной быстротой. Мой замечательный милый дружок уже не учился, он просто воровал. Но даже осторожные намеки близких друзей не останавливали меня. В стремлении к быстрейшему окончанию ремонта я был слеп и глух. Расторопный руководитель работ умело этим пользовался. Пьянки на его даче стали обычным делом. Все казалось легким и доступным. Денежный угар наркотизировал сознание. И мне было уже наплевать на то, что расценки постепенно приблизились к общепринятым стандартам, а качество работы было отвратительным.
Начались бесконечные переделки. Что воришке было только на руку. Он разорял меня.
Ремонт закончился неожиданно. Я построил Дом. В центре города. В тихом дворе. Дом был окружен огромными каштанами. И находился вдали от магистральных трасс. Почти четырехметровые потолки. Наборный паркет. Сверхдорогой санузел, в котором красовалась стиральная машина «AEG». Итальянская кухня под заказ. Итальянская спальная комната…
Это было этапом. Или подъемом на гребень перевала. Ирина, отношения с которой стали уже иными по разным причинам, даже не пришла посмотреть на мою победу. Зависть душила ее. Это было видно невооруженным глазом. Я не обращал на это внимания. Я был горд своим достижением. Просто парил в двух сантиметрах от земли. И ушел в длительный запой, который закончился под капельницей, заряженной такой дозой седатиков, что я дня два тормозил конкретно.
Очухался. Осмотрелся. То, что увидел вокруг, мне понравилось. Работа продолжалась. Но шаткость нашей системы давала себя знать.
Постепенно суживался круг покупателей. Нас выживали фирмы, связанные с администрацией. Надо было спасаться. Но мне это было не под силу.
Дом обескровил меня. У меня не было оборонного капитала, чтобы начать новое большое дело. Да я и не представлял себе, чем можно еще заниматься. Разум стал ленивым и торпидным. Сказались монотонная полоса удач и постоянное пьянство. Но я построил дом. Дом. Для будущей жизни. Достойной и удобной во всех отношениях.
Но существовал еще один домик. Моя блядская конура. Странно то, что я иногда приезжал туда без подружек. И чувствовал необычный покой и защищенность. Там меня ненадолго оставляли страхи. Там меня клонило в сон, и я впадал в тихую дрему. Странно.
Организм требовал своего, и я возобновил встречи с подружками, что послужило толчком для ошеломляющего прозрения. Оно высветилось в сознании, как новый файл на экране монитора. Это произошло внезапно, когда я медленно ехал на «мерседесе» мимо парка, автоматически отслеживая идущих по тротуару баб. «Мне скоро сорок лет. Дочь выучится и уедет. Я останусь один на один с человеком, который давно стал чужим. Мне предстоит лживо улыбаться. Появляться в компании друзей и делать вид, что я доволен жизнью и вполне самодостаточен.
Меня ждет тупое сидение у телевизора и, далее, попытки уснуть в постылой и мертвой кровати. Семья начинается со спальни. Но моя супружеская спальня превратилась в обычную опочивальню, остро напоминающую гостиничный номер. Транзит. Я буду просыпаться.
Равнодушно говорить жене „доброе утро“. Я буду заниматься бизнесом, полностью выматываясь на работе, чтобы забыться и не думать о неслучившемся счастье. А вечером буду накручивать круги по центру города в поисках очередной жертвы, очередного постыдного приключения. И это в сорок лет. Позор. Лакированный гроб».
Ошибка, заложенная в самом начале нашей совместной жизни, моя слабость, мое тщеславие, лживость моя, наконец, беспорядочно сплотились в кусок окаменевшей грязи, который обрушился на мою голову. Попытка создания семьи провалилась с оглушающим грохотом. И это при внешней видимости благополучия. Безусловно, корни этой самоубийственной метаморфозы уходили в глубокое детство. Они терялись в отрочестве и юности. У меня никогда не было понятия «семьи». Меня никто не учил правилам ее построения. Наоборот, я видел, как семья, которая могла быть цельной и счастливой, разрушалась и разрушилась пьянством отца. Я не винил его в этой слабости. Я перестал ненавидеть его. Единственным чувством, которое возникало при мыслях об отце, было глубокое сожаление. Сожаление о том, что у меня, слабого по натуре человека, не оказалось отцовской поддержки, отцовской защиты. Если бы он жил мной, если бы он вникал в мои настроения и переживания, то, может быть, я не наделал столько мелких глупостей и не совершил бы основной, стоившей мне жизни, ошибки. Но алкогольное безумие отца не позволило мне обрести необходимые знания для создания нормальной семьи. Бесы равнодушия и лжи обосновались в четко обозначенной пустоте. Я был мертв уже тогда, когда мне было пятнадцать или шестнадцать лет.
В мучительных размышлениях я представлял иную картину своей жизни.
Окончание института. Распределение куда-нибудь в Ульяновскую или Ленинградскую область. Работу интерном, потом врачом. Обретение методом проб и ошибок нормальной мужской самостоятельности. Встречу с любимой женщиной. Отсутствие измен и обмана, потому что я на самом деле моногамен по натуре и никогда не видел признаков измены в жизни отца и матери. Жизнь без страха и панических судорог. Опору в виде крепкой и цельной семьи, в лоне которой я нахожу защиту и отдохновение. Написание книги, потом другой, удивительных стихов.
Созревание и раскрытие зажатой страхом, неверием и сомнениями души моей навстречу любимым людям, навстречу Небесам. Строительство дома, который наполнен не ложью и равнодушием, но любовью и теплым светом, сопровождающими меня до конца счастливых дней моих. Как горько, как тяжело. Как стыдно перед человеком, которого я обманул и в конечном итоге разрушил не только свою жизнь, но и его. Как жаль ребенка, выросшего в атмосфере равнодушия и унизительных подозрений. Вирус разрушения наверняка поразил его. И нет мне прощения.
Наш бизнес стал разваливаться. Территория, на которой мы работали, уменьшалась на глазах. Большинство предприятий обрело новых начальников, работающих в жесткой сцепке с новыми фирмами.
Фирмами-убийцами, вооруженными поддержкой сверху. Поток денег катастрофически уменьшался. Давление надзирательных инстанций возрастало. Одна проверка следовала за другой. Мы выкручивались, как могли. Нам повезло с бухгалтером. Он предчувствовал беду и, обладая обширными связями с налоговиками, уменьшал силу удара до минимума.
Однако в любом случае мы теряли существенные суммы денег. Началась война. Ирина уже мало помогала мне. Основные задачи по спасению фирмы решал я. Ходил в налоговую инспекцию. Встречал атаки ОБЭПовцев. Я видел, что кормушка скудеет на глазах и надо предпринимать действия для срочного пополнения денежного запаса.
Когда стало понятно, что наши карманы стремительно пустеют, а Ирина занимается делами мелкими и необязательными, я принял жестокое решение. Изменил соотношение наших доходов, сократив долю Ирины до минимума. Я равнодушно предал ее. Истерика продолжалась недели две.
Но деваться моей напарнице было просто некуда, и она согласилась с новыми условиями. Развитие дальнейшего совместного бизнеса было невозможным. Ирина уже не верила мне. И стала открыто поглядывать по сторонам. Она заявила однажды, что накопила столько денег, что готова для самостоятельной работы или деятельности с другим партнером. Я только хмыкнул в ответ. Ирина была беспомощна без меня.
Она никому не доверяла. А в критической ситуации неуправляемо паниковала. Была хорошим менеджером, но плохим солдатом. Такие погибают первыми. Ее спасала неуемная энергия, подчас бестолковая, и желание быть. Быть, несмотря ни на что.
Я пытался заглянуть вперед, увидеть дальнейший путь в мире ожесточенного, задавленного бюрократическим аппаратом бизнеса. Мне не хватало стратегического умения. Я был изощренным тактиком, который мог выскользнуть из-под сиюминутного удара, но не стратегом, обладающим даром видения всего поля военных действий. Попытки найти нужную фигуру в администрации вновь проваливались, натыкаясь на крепкие стены семейственности в кругах управляющего аппарата. Остро вспомнилась легкая жизнь под прикрытием покойного тестя. Я сожалел о том, что во времена его царствования на партийном троне не сумел обрести достаточного количества нужных связей. Новые наработки были мелкими и зыбкими. Чванливые скороначальники обещали многое, но не делали ничего.
Ледяной ужас был постоянным мучителем. Он мешал соображать и держать оборону. Собственно, обороны уже не было. Оставалось надеяться на деньги, которые удалось собрать. Я начал искать нового партнера.
Самостоятельно выдумать новую тему бизнеса я не мог. Разум был изможден постоянными волнами ужаса. Он требовал отдыха или надежды.
Ни того, ни другого сложившиеся обстоятельства мне дать не могли.
Уехала дочь. Самостоятельно поступила в МГУ. Дом опустел. Стычки с женой стали обыкновенным делом. Холод отчуждения проник во все поры нашего сознания. Мы не трахались месяцами. Редкие сексуальные судороги оставляли чувство глубокого отвращения. И я реализовал свои желания на территории квартирки, расположенной на окраине города.
Тихая обитель кого только не видела. Я валился на постель со всеми, кто подворачивался под руку. Жестоко драл сорокалетних теток и двадцатилетних девчонок. Система была отработана до автоматизма.
Себе — пакет йогурта и батон, даме — бутылка сухого и фрукты.
Механический секс до изнеможения. Созерцание голой задницы, когда оттраханная всеми способами особа причесывалась перед зеркалом колченого шифоньера. У бедной кровати от перегрузки сломались две ноги. Вместо них я подложил книги, которые случайно обнаружил в шкафу. Изуродованное ложе вновь приобрело необходимую устойчивость.
Нанятая для уборки женщина не успевала менять простыни и собирать бутылки. Она косо поглядывала на меня при расчете, но помалкивала.
Деньги я давал неплохие. Это позволяло ей и ее семье не помереть с голоду, что было вполне возможным при учете царящей безработицы.
На фоне бешеного галопа темных страстей я не обращал внимания на появившийся дискомфорт в животе. Сваливал все на спастический колит — заболевание, характерное для бизнесмена. Равно как экзема на нервной почве или ранняя гипертония. Я вообще не следил за своим здоровьем, будучи уверен в природной силе своего тела. Изредка делал электрокардиографию, когда появлялись пугающие боли в сердце.
Признаков заболевания врачи не находили. И я успокаивался. Иногда обращал внимание на повышение артериального давления. «Синдром менеджера», — говорил себе и забывал о неприятности. Тем более что давление само собой приходило в норму. Я был растерян. Но уже перестал доискиваться причины надвигающегося краха. Мне было все равно, что со мной произойдет. Ничто не защищало меня.
Именно в это время я неожиданно сблизился с мамой. Контакт с ней был потерян давно, лет с двадцати. Мы почти не встречались и не разговаривали. В свое время дальновидный тесть провернул операцию по перемещению свахи из Ртищева в Саратов. Мама жила своей одинокой жизнью. Работала в банке, где пользовалась уважением всего коллектива. Изредка мы встречались во время семейных торжеств или на мирских праздниках. Обменивались парой-тройкой слов. И я забывал о ее существовании. В свою очередь она не донимала меня бесконечными звонками или расспросами. Но теперь что-то изменилось. Я обрел в лице мамы мудрого советчика и помощника. И приезжал к ней часто. Она кормила меня, расспрашивала о житье-бытье. Мое сердце успокаивалось.
Иногда я даже дремал среди дня, лежа на старой скрипучей софе. Мама, конечно, догадывалась о том, что у меня не все ладно. Но с вопросами не лезла, давая мне возможность выговориться самостоятельно.
Обретенная связь привела в порядок многие мои действия. Я практически перестал пить, зная, что мама тяжко переживает во время моих уходов в штопор. Я стал жалеть ее. Предлагал ей деньги. Она категорически отказывалась. Она была чистым и спокойным человеком. И чувствовала порывы кошмарного урагана страха, злобы, отчаяния, который бушевал в моем сознании. Но помочь ничем не могла. Однажды я случайно увидел у нее на столе новенький молитвослов и едва не заплакал. Мама, никогда раньше не ходившая в церковь, стала молиться за мое спасение. И это было все, что она могла сделать для своего сына. Она любила меня и гордилась мной. Но никогда не говорила об этом прямо.
«Внезапу Судiя прiидетъ и коегождо деянiя обнажаться…» Я панически метался в поисках партнера. Все отмеченные в ежедневнике кандидатуры не подходили по тем или иным причинам. Одни были откровенно слабы и нерасторопны. Другие, уцелевшие на войне, были чванливы и недоступны. Я терпел. Страх приучал меня к унижению перед внешними обстоятельствами. Он стал не насильником моей жизни, а самой жизнью.
В короткие минуты просветления, когда я видел себя со стороны и не находил ничего опасного или угрожающего, страх ненадолго покидал меня. Но именно в этот момент я начинал беспомощно оглядываться по сторонам, будто потерял что-то важное, крайне необходимое. Страх стал опорным элементом жизни. Я уже не мог существовать без него.
Возможно, это было неосознанным путем к спасению. Если я не смог сопротивляться страху, то пришлось подчиниться ему, стать его рабом.
Так я спасал свою жизнь. Вернее, жизнь, как часть всего сущего на земле, спасала сама себя. Я встречал новые страхи с покорностью побежденного. Они естественным образом впадали в темный океан вечного страха и терялись в его бездне. Небеса постепенно чернели, наливались тяжелой ненавистью ко мне. Мамины молитвы не могли избавить меня от неизбежного наказания, ибо я накопил такое количество несмываемых грехов, что без глубокого покаяния и обретения нового верного пути я был обречен на неизбежную гибель. И главным грехом был страх, моя жизнь, ставшая его обителью.
Огромное, непроницаемо черное небо внезапно опустилось. Я видел сумасшедший водоворот гигантских облаков. Ослепляющая вспышка не испугала меня. Это было избавлением…
Мобильник пропел свою песенку, когда я оплачивал счет за электроэнергию. Стоять в очереди было скучно.
— Слушаю.
— Я накрыла тебя! Мне все рассказали про твою квартиру. Все!
Приезжай, будем разбираться!
— Разбираться мы не будем. Я ухожу. Сейчас приеду и все объясню…
Дорогой замок входной двери смачно щелкнул («Тайзер». Индивидуальный заказ). Жена стояла посреди гостиной. Я присел на краешек стула, как посторонний человек.
— Я ухожу. Мне надоело врать и унижать тебя. Такая жизнь не нужна ни тебе, ни мне. Дочь поймет. Я постараюсь ей объяснить. Она уже взрослая. Материально вы не пострадаете. Я буду выплачивать вам деньги на жизнь. На еду, одежду, поездки. Попрошу маму, чтобы она проследила за этим. Квартиру разменивать не буду. Заберу только шмотки. Машину для тебя куплю в течение месяца. Все.
— Ты уходишь к женщине?
— Нет.
— Будешь жить у мамы?
— Нет.
— А как же я?
— Не знаю. Перетерпи. Это легче, чем терпеть мою ложь. Повторяю, можешь не беспокоиться о деньгах.
— При чем тут деньги? Дочь, она же любит тебя.
— Мне тяжело и больно говорить это. Но я не собираюсь расставаться с дочерью. Мы будем встречаться. Обязательно.
— А со мной?
— С тобой — нет. Пойми меня правильно. Так легче.
Вместительная спортивная сумка постепенно распухала. Я беспорядочно заталкивал в нее свое барахло. Каблуки моих туфель выбивали на керамогранитных плитках (Испания) беспорядочную чечетку.
Четырехметровые потолки глухо резонировали.
— Все. Я ушел. Прости меня, если сможешь.
— Пока. Ты позвонишь?
— Да. Завтра.
За спиной вздохнула бронированная входная дверь. «мерседес» утробно рыкнул и повез меня в пропасть. Когда я сообщил Ирине о разводе, она не смогла скрыть злорадного огонька в глазах…
Ей так и не удалось выйти замуж за это время. Тяжелый бизнес, страх перед разного рода альфонсами не позволили ей сделать это. Момент был упущен. В таком возрасте трудно найти подходящую партию.
Свободного, обеспеченного мужчину, желательно без «хвоста» в виде детей. Оставалось только развести кого-то. Разрушить чью-нибудь семью. Формально я подходил ей по многим параметрам. Но взаимная ненависть, накопившаяся за время пребывания в тесной капсуле совместного бизнеса, не позволяла рассматривать меня как кандидата в мужья.
Я жил в своей крошечной квартирке. Вспомнил студенческие навыки стирки белья. Ел что попало и где попало. Практически не пил, так как понимал, что выйти из штопора в такой ситуации будет очень трудно. Агония семьи продолжалась долго. Мне звонили родственники жены, просили о встрече. Я отказывался. Внятно и спокойно. Бывшая жена периодически впадала в истерику и бомбила меня беспорядочными звонками. Я обрывал разговор на полуслове и выключал мобильник.
Неожиданную поддержку оказала мама. Когда на нее наехала бывшая теща с просьбами уговорить меня вернуться, мама ответила, что я взрослый человек, и она мне не советчик в делах подобного рода. Как я был благодарен ей!
Мои подружки, узнав о разводе, тоже не оставляли меня без внимания.
Что ни говори, я был завидным женихом. Обеспеченным, относительно молодым. Но постепенно обрывались и эти контакты. Я потерял интерес к суетным радостям жизни.
Пытался устроить новый бизнес. Терпеливая долбежка в одно и то же место стала давать результаты. Наметился ряд вполне приемлемых кандидатур. Я проводил время в чужих офисах. Попивал кофеек под осторожные, неторопливые разговоры. Ловил интонации, выискивал скрытые намеки и определял степень опасности визави. Наводил справки о тех или иных серьезных бизнесменах, пользуясь услугами ребят — налоговиков, с которыми я был, как ни странно, в дружбе.
Жизнь проходила в полуобморочном состоянии. Я не мог предугадать, что развод окажется столь тяжелой ношей. Холодная беспощадная рука сдавливала внутренности. Не давала дышать. Просыпаясь рано утром на убогой лежанке, я не мог сразу прийти в себя. Затравленно оглядывался. Меня окружали обшарпанные стены и трухлявая мебель. В холодильнике скучали пакет кефира и пачка пельменей. Чтобы не сойти с ума, я возобновил брошенные было занятия спортом. Но железная нагрузка была не по силам. Я просто неспешно бегал по утрам. Да и это давалось с трудом. Мучила какая-то непонятная слабость. К обеду я уже так уставал, что бросал все дела и ехал к маме, чтобы подремать. Она уговаривала меня остаться и жить в ее квартире. Но это была нейтральная территория. Переезд к маме возродил бы в душе бывшей жены какие-то надежды. Этого нельзя было допускать, и я мягко, но убедительно отказывался. Мне было больно смотреть на маму.
Она постарела сразу на десяток лет. Из-за меня. Из-за моего страха.
Дискомфорт и боли в животе стали практически постоянными. Обращаться к врачам было некогда. Да и боялся я этого. До испарины. Несколько раз набирал номер знакомых хирургов, но тут же нажимал на кнопку отбоя.
Наш бизнес умер. Мы с Ириной предпринимали последние попытки вытащить оставшиеся там и сям деньги. Это удавалось с трудом, так как чиновники, видя, что контора умирает, не спешили давать приказ своему бухгалтеру. Я знал, что Ирина связалась уже с каким-то средней руки проходимцем и пытается устроить новый бизнес. Что ни говори, но она была хорошим партнером. Прежде всего тем, что не воровала общие деньги. Когда был обнулен последний счет, мы поделили оставшиеся гроши. Дали деньги бухгалтеру, чтобы он плавно утопил все наши фирмы. Мы не расстались с Ириной. Мы просто не встретились в очередной раз. И все контакты осуществлялись по телефону.
Я оказался в абсолютной пустоте. Я проваливался в бездну. Выручить меня было некому. Так хотелось иметь поддержку отца или старшего брата, если бы он был. Мама могла чем-то помочь мне. Но я щадил ее, ничего не рассказывал о своих финансовых делах. Отрыться перед мамой означало убить ее. Я висел в пустоте над безбрежным пространством бушующего страха.
Постоянная слабость и усталость, накрывающая меня к середине дня, усугубились нарастающим похуданием. Все слилось в одну точку. Я, как врач, быстро сложил симптомы в пугающий диагноз. Слабость, похудание, нелады с животом. Беда. Надо идти к врачу. Я позвонил знакомому хирургу. Он работал доцентом на одной из кафедр. Мы были в прошлом дружны. Он удивился и обрадовался звонку. Однако, когда я сообщил ему о тревожных симптомах, речь его изменилась. Она стала лживо-беспечной, профессионально неискренней. Он сразу попросил меня сделать колоноскопию. Я связался с однокашником, который работал в диагностическом кабинете. Был назначен срок обследования.
Пришлось выпить положенные три литра солевой дряни. Очистил кишечник. Слабо сжимая ватными руками кожу руля, поехал в больницу.
В кабинете разделся догола, не обращая внимания на равнодушную медсестру. Меня раскорячили на дерматине кушетки, покрытой свежей казенной простыней. Во время процедуры я бодрился, пытался острить.
Мою поверхностную, истерически веселую болтовню прервал тихий голос товарища.
— Игорь, а как ты себя чувствуешь?
Горячая испарина мгновенно сменилась холодным обливающим потом. Я слез с прокрустова ложа. Мой однокашник монотонно диктовал медсестре:
— Опухоль сигмовидного отдела кишечника…
— Костя, может быть, эта штука доброкачественная?
— Игорь, вряд ли… Ты врач, должен понимать. Завтра будет готова цитология.
Молния упала. И грома я уже не слышал.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |