"Нежность к ревущему зверю" - читать интересную книгу автора (Бахвалов Александр)
1
Если на ветровом стекле не вспыхивают, колюче мерцая огненными ежами, фары встречных автомобилей, путь от города до аэродрома становится отдыхом. Утекающая под капот «Волги» дорога, едва видимая глухомань низкорослого осинника по сторонам и пчелиное жужжание работяги-движка настраивают так, словно все, что связывает тебя с миром, осталось позади. Ты – нигде. Между тем, что было, и тем, что будет.
Лютров вспоминает попутчиков, которых нередко сажает к себе в машину по дороге на аэродром. Они тоже проникаются состоянием отрешенности, становятся откровеннее. Может быть, существует некое непознанное свойство скорости, влияющее на расположение людей друг к другу? Или человек, уединившись под крышей кузова с себе подобным, как в исповедальне, испытывает потребность довериться в надежде быть наконец понятым?.. Впрочем, благодарность болтлива, и тут, как и везде, истина проще ее поисков…
На этот раз попутчиков не будет, он слишком поздно выехал из дому. Так что исповедовать некого. А жаль… Ему нравился говор этой области, язык старожилов дальних деревень, восхищала нетронутая давность одного из самых выразительных русских диалектов. Нигде больше не говорят с такой напевной интонацией, такими речитативно закругленными фразами. Хоть в шапку собирай. Как-то он сказал об этом старику, попросившемуся подвезти к попутной деревушке Сутоково.
– Верно, сынок, – весело-важно согласился дед, – наш мужик лепит слово ловчее других, душой, значит, речист… Иностранное? Да как его приладишь? Оно ежели там к политике али к делу какому, а в разговоре промеж себя не годится, к родной речи нейдет… Ино не наше слово чудинкой ли, пятнышком каким схожим пристанет к языку и загуляет в народе вроде бы присказкой, да и то в новину, спервоначалу, ить все одно приблудный пес, не ращений… Другое дело – обозвать кого таким-то словом, это да. Чего оно там значит, хрен с ним, важно, как его в деревне обозначили да к кому присобачили…
Занятный был дед. Борода ухоженная, шелковистая, глаза лукавят, на щеке кокетливой соринкой девичья родинка… И поговорить не дурак. За полчаса Лютров заочно перезнакомился со всей стариковской родней. На прощанье, когда Лютров остановил машину у огромного щита с надписью «Берегите птиц и зверей», старик сказал:
– Славно докатили!.. Сколько те за проезд?
– Будете богаче меня, тогда и заплатите.
– Ишь ты, богаче… Не дождешься, брат…
Придерживая приоткрытую дверцу, он спустил одну ногу на землю, но не вышел, а повернулся к Лютрову.
– Шут тя знает, кто ты… Наружностью обнакновенный, а есть в тебе какое-то угодье, потому как возле тебя легче дышать… Да. Ну, спасибо, уважил…
Лютрову была приятна похвала старика, но он и не подозревал, что тот сумел подметить в нем главное.
Когда человек, подобно Лютрову, велик ростом, остальные приметы внешнего в нем как бы стушевываются, отступают на второй план, и оттого не всякий случайный знакомый успевал заметить, что темно-серые в русых ресницах глаза Лютрова очень ясно выражают, что он не умеет походя, за компанию, следовать чужим настроениям, улыбаться из одного приличия или кивать, не уразумев толком, с чем соглашается; что он совсем непохож на тех, кто сопровождает ужимками и высказываемую мысль, и ощущение, и всякие иные подлинные и мнимые переживания; что привлекательность его не слишком подвижного спокойного лица требует разгадки. Но кто наблюдал, с каким постигающим вниманием разглядывал людей или слушал их Лютров, обнаруживали в нем ничем не обеспокоенную цельность его внутренней жизни, очень привлекательную черту для людей, не уверенных в себе, робких, слабых, неуравновешенных.
На дороге ни души, поздно. Выехал он почти в десять. И в пути?.. Да, без малого полтора часа. Осталось чуть больше половины. Это не аэродром летной базы, до которого из Энска рукой подать…
Ребята теперь в гостинице. И спят, наверно, если не играют в преферанс. Впрочем, штурман Саетгиреев наверняка спит. Он или спит, или скучает по своей жене-музыкантше. Если двигателисты не продлят ресурс своим изделиям на С-44, то завтра они сделают последний полет перед заменой всех четырех двигателей, и тогда Саетгиреев сможет погостить недельку-другую дома.
Полеты на этой большой машине, связанные с освоением новых навигационных систем, длятся весь апрель, и почти все это время больше всех занят штурман. Через два-три полета включают в экипаж нового стажера-оператора, чтобы Саетгиреев ознакомил его с навигационным комплексом. Если не считать нескольких опытных агрегатов, установленных на двигателях, да хозяйства Саетгиреева, то С-44 можно считать обычной серийной машиной, и для экипажа это скорее рейсовые, чем испытательные полеты. Лютров со вторым летчиком, подменяя друг друга, всегда находят время отдохнуть, откинувшись на сиденье катапультного кресла. Впрочем, завтра и Саетгирееву будет полегче, ему поставили новый локатор, с которым нужно как следует освоиться, одному, без стажера.
Междугородная магистраль протянется еще километров сто двадцать, а затем нужно съезжать на узкую бетонку, где уж совсем никого не встретишь до самого приаэродромного городка, да и там в эту пору одни кошки да собаки.
Но еще задолго до съезда на пути Лютрова появится холмистое возвышение в ста метрах от автострады, приметное желтой раной песчаного карьера. По ту сторону холма, на отлогом спуске к реке, немногим больше трех месяцев назад разбился опытный самолет С-14…
Он приспустил окошко дверцы. Дохнуло по-летнему теплой ночью, прелыми запахами леса. При слабом свете приборных ламп вишневые чехлы сидений кажутся черными. Тускло лоснятся брошенная рядом кожаная куртка. Где-то под ней должны быть сигареты. Лютров, не глядя, нащупывает скользкую пачку.
Когда сошел снег, Лютров второй раз побывал на месте катастрофы С-14 с номером 7 на фюзеляже. Машину так и называли «семеркой».
За все годы работы на фирме он не помнил катастрофы с таким исходом, хоть никогда за всю историю авиации не создавалось столько экспериментальных машин, как в это время, никогда столь многое не зависело от работы летчиков-испытателей.
Никто из экипажа не успел покинуть самолет, да и не мог. Погибли все четверо: Георгий Димов, сильный, стройный, как гимнаст; Саша Миронов, рыжеголовый, ото лба до плеч усеянный веснушками, не покидавшими его со школьных лет, как и незамутненная доверчивость к людям, детская отзывчивость на веселье; Сергей Санин, невозмутимо добродушный, с выразительной усмешкой большого подвижного рта, и Миша Терской, стеснительный юноша, красневший от анекдотов своего коллеги Кости Карауша и даже когда ему на работу звонила мама, хорошо воспитанная и совсем еще молодая женщина… Летчики, штурман, радист.
Обходя по краю глубокую ямину, Лютров ступал по темным плешинам обгоревшей земли и живо вспоминал бесноватые лохмы огня, хлопающего на ветру рваными полотнищами; приглаженный метелью снег, усыпанный сажей в направлении ветра; стекающий в овраг керосин, слизавший сугробы с легкостью кипящей лавы, и в дыму над ним цепкие шлейфы пламени.
Все четверо… Так ему и сказали, когда он выбрался из кабины С 04 и, как был в высотном костюме, поднялся в диспетчерскую узнать, почему запретили вылет. Он глядел на лица ребят и чувствовал, как сознание обволакивает ощущение пустоты и нереальности. Он не только не верил услышанному, но и не понимал, он оглох, как от собственной смерти. «Нет, там все не так, они не знают и говорят первое, что услышали… Сейчас, сейчас все изменится, обернется по-другому, нужно только переждать, как это бывало в детском сне, и тогда все разом сгинет…»
Над аэродромом нависла тишина, и в этой тишине торопливо, один за другим стартовали вертолеты. Неуклюжее на вид помахивание лопастей медлительных машин рождало мысли о настороженности чрева механизмов к ошибкам людей.
Он не мог ждать, он должен был сам узнать, как и что там теперь, там, где горела «семерка». Как будто узнать – значит изменить, повернуть вспять, найти выход, когда выхода нет.
И Лютров полетел к этим холмам, опоясанным незамерзающей сизой излучиной большой реки, глядел на черный дым с высоты двухсот метров и вспоминал утренние рукопожатия ребят, их недолгие сборы, сдержанную радость на лице Жоры Димова, впервые назначенного ведущим летчиком на опытную машину.
«Семерка» еще осенью была испытана на все строгие режимы. Сначала ее вел Долотов, потом Боровский. Ничто как будто не мешало отработанной методике испытаний. Рулежка, первый вылет, доводка двигателей, освоение специфики управления, аэродинамические испытания на устойчивость в различных полетных условиях, в том числе на предельно малых скоростях и максимально допустимых углах атаки к встречному потоку – так называемые
Уцелевшая в бронированном контейнере магнитофонная нить с записью голоса штурмана и отмеченные самописцами перегрузки подсказали аварийной комиссии, что невероятное просто, так непростительно просто, что недостойно значиться рядом с жизнью и смертью.
Но так казалось на земле… Когда машина с полетным весом более ста тонн принимается за дельфиньи пляски в воздухе, именуемые
Они едва взлетели, магнитофон успел записать всего несколько фраз, продиктованных Саниным по обязанности штурмана:
– Скорость триста пятьдесят… Скорость четыреста…
После недолгой паузы удивленный вопрос:
– Куда ты тянешь?
Неясные щелчки, треск, судорожный вздох, как если бы человек хотел, но так и не смог ничего сказать. И опять голос Санина:
– Жора, куда ты тянешь?
Ему никто не ответил.
– Куда ты тянешь? – крикнул Сергей в последний раз и звонко выругался.
Магнитофонная нить не выдала больше ни звука.
Острые всплески на ленте самописца легко расшифровали слова Санина: «семерка» развалилась в воздухе от перегрузок, превысивших предельные величины в несколько раз.
Все происшедшее от взлета до падения уложилось в считанные минуты и в представлении Лютрова выглядело так.
В трехстах метрах от земли, когда убрались закрылки и вслед за колесами шасси захлопнулись створки гондол, вертикальный порыв воздуха задирает самолет кверху –
«Куда ты тянешь?» – кричал Сергей, давая понять Димову, что, работая управлением, он вводит «семерку», залитую топливом
Одно несомненно: если Санин пытался предостеречь, значит, поведение «семерки» вышло за грань допустимых отклонений. У него доставало выдержки не вмешиваться в работу летчика. Лютров знал это. В выдержке – основа мужества штурмана, а степень нервного напряжения – в прямой зависимости от веры в летное искусство командира. И это понятно. Практически любая авария при взлете и посадке грозит увечьем прежде всего штурману, если говорить о самолетах типа С-14, где штурманская кабина – первая по полету. И штурману «семерки» суждено было умереть первым, самолет падал кабинами вниз…
Лютров часто бывал у родителей Санина, живших отдельно от Сергея, там же, в пригороде. Теперь ему больно встречаться с ними – он остался в их памяти вестником гибели сына.
Не стало Сергея, и Лютров потерял какую-то часть самого себя. Сергей опекал Лютрова как брата, решал за него, где скоротать вечер, чем заняться в выходной день, куда поехать на охоту…
Долго не мог стереться в сознании день похорон – панихида в зале приаэродромного клуба, четыре закрытых, стоящих в ряд гроба, запах еловых веток; вынос, завывание медных труб. И прощальное слово Гая-Самари, старшего летчика фирмы. Гай говорил тихо, медленно, и так же медленно и тихо падал снег на его красивую голову. Иногда его голос срывался на судорожный шепот, он прикрывал глаза, и на небритых скулах выдавливались желваки.
Нечеловечески трудно говорить о погибших, произносить их имена, когда перед тобой лица матерей, жен и детей, не способных видеть что-либо, кроме мерзлых прямоугольных ям у ног. Гай говорил простые слова о смысле их труда, о том, сколько успели сделать эти четверо, но и простые слова были тут бессильны, потому что нет на человеческом языке слов, нет объяснений, которые примирят материнские сердца со смертью сыновей.
– Они погибли как солдаты, которые не могли и не имели права отступить… – закончил Гай.
Перед погребением мать Сергея упала грудью на заколоченный гроб, уже припорошенный снегом, и никто не решался поднять ее.
Поддерживая под руки сестер Сергея, Веру и Надежду, пока их мужья засыпали могилы, откровенно обливался слезами Витя Извольский; не поднимал склоненной головы Борис Долотов; недвижными стояли Боровский, штурман Козлевич, радист Костя Карауш. Рядом с Лютровым стоял бывший командир их отряда Амо Тер-Абрамян. Он прилетел на похороны из своей Армении, где жил после выхода на пенсию. Седая прядь на смоляных волосах свисала на лоб, на ней не было видно снежинок. Вокруг Славы Чернорая, бывшего комэска и друга Димова, теснились в серых шинелях летчики из воинской части, где еще недавно служил Димов, у которого не было родных. Последний из близких – отец – умер два года назад. Ребята из прошлогоднего выпуска школы летчиков-испытателей – Радов, Саетгиреев, Трофимов – выглядели совсем потерянными. Приехал на похороны и Лев Фалалеев, во благовремение ушедший на пенсию и теперь описывающий в книжках и статьях свою «насквозь героическую», по словам Кости Карауша, летную жизнь. На рукаве желтого ратинового пальто Кантолая была аккуратно повязана траурная лента, шляпу он держал у живота, лицом содержательно скорбел, но уехал, как и явился, вдруг, словно отдавал памяти экипажа драгоценные минуты.
Толпа стала расходиться, оркестр смолк, и горе обнажилось сдавленными рыданиями, стонами женщин, скребущими по сердцу лопатами… А когда над одинаковыми бугорками выросли пестрые груды венков, снег посыпал гуще, словно и это входило в ритуал похорон – поскорее уподобить только что омытые слезами погребения вчерашним, позавчерашним и тем, что появились сто лет назад.
У ворот кладбища Лютров увидел Славу Чернорая, заслонявшего своей широкой спиной незнакомую женщину. Рукой в красной варежке она держалась за граненый прут чугунной ограды, будто боялась упасть.
Когда Лютров поравнялся с ними, Чернорай сказал, что не сможет быть на поминках, говорил он и еще что-то, чего Лютров не расслышал: на стоянке за воротами запускали и прогревали застоявшиеся на морозе автомобили.
Тут же у въезда на погост стоял черный ЗИЛ главного конструктора Николая Сергеевича Соколова, приехавшего на похороны с женой, старшей дочерью и сыном. Главный совсем занемог от горя, ему с великим трудом удалось четырежды нагнуться у могил, чтобы бросить в каждую по пригоршне мерзлой земли.
Первые недели были самые трудные. Отец Сергея, Андрей Андреевич, приходил к Лютрову, оставляя старуху на попечение дочерей, не в силах выносить нескончаемые стоны жены.
– Один сын, Лексей, один!.. – громыхая по столу кулаком и роняя слезы, жаловался старик. – Войну прошел, сызмальства воевал… Отчего не я, не старуха, а он, а?..
Проводив старика, Лютров пытался поскорее уснуть, но сна не было.
– Давление выше нормы. Ощущаете недомогание?
Девушка-врач озабоченно сжимала блеклые губы и выжидающе глядела на Лютрова.
– Здоров. Вашими молитвами…
– Меньше курите. Сбавьте немного веса. Чаще бывайте на воздухе. На лыжах ходите?..
Она еще не научилась улавливать своим белым носиком запах спиртного у подопечных. Или прямо говорить об этом, а потому и спрашивает о ерунде, чтобы скрыть свою девчоночью робость. Крохотная, снежно-свежая в своем накрахмаленном халатике, она перебирает стерильными пальчиками на волосатом запястье его руки и нервно краснеет, если вена вздрагивает на пять ударов чаще положенного.
Как молния в безлунную ночь, катастрофа высветила не только слабые места в конструкции С-14, но и людей, заставила говорить не только о погибших, но и о живых.
На заключительном заседании аварийной комиссии один из ее членов, пожилой начальник отдела автоматики КБ, ошеломленный истолкованием причины происшедшего, спросил: почему опытную машину с такой поспешностью передали молодому летчику? Насколько ему известно, командиром «семерки» до последнего времени был Боровский. Ему объяснили, что ничего недозволенного в этой замене нет и это не исключение, а установившаяся практика. Обстоятельства вынуждают подменять летчиков даже на несколько полетов, так что в решении передать самолет для продолжения испытаний Димову, долгое время летавшему вторым: летчиком с Боровским, нечего необычного нет. Для такой подмены достаточно отметки инспектора в летной книжке любого высококлассного испытателя фирмы.
Начальник отдела автоматики так и не узнал, что коснулся весьма щепетильной области интересов «самого» Боровского, за глаза величаемого «корифеем».
Заключительная стадия испытаний «семерки» должна была проводиться в местах весьма неблизких. Работа черная, неброская, а «корифею» позарез нужно было находиться на глазах у начальства: готовился приказ о назначении командира на новый пассажирский лайнер С-441 – дело громкое, «хищное», как в этих случаях говорят летчики. Боровскому нужно было освободить себе руки задолго до первого вылета С-441, намеченного на лето, и «корифей» пустился в нехитрую дипломатию, призывая начальство оказать доверие испытателю из нового пополнения, дать возможность способному молодому человеку проявить себя на завершающем этапе испытаний «семерки».
Чем бы ни была вызвана дипломатическая активность Боровского, уступившего Димову свою работу, «корифея» никто не подозревал в злом умысле, это исключалось. Боровский и в самом деле был многоопытным и в высшей степени толковым летчиком-испытателем. Никто не помнил за ним сколько-нибудь серьезной летной ошибки. И он любил летать. Понимающие журналисты ставили его в один ряд с именами самых видных асов страны. Но при близком рассмотрении он во многом терял, и причиной тому была самая непрезентабельная суетность, тяготение к влиятельным мужам КБ, к местному начальству, словом, – к «сферам».
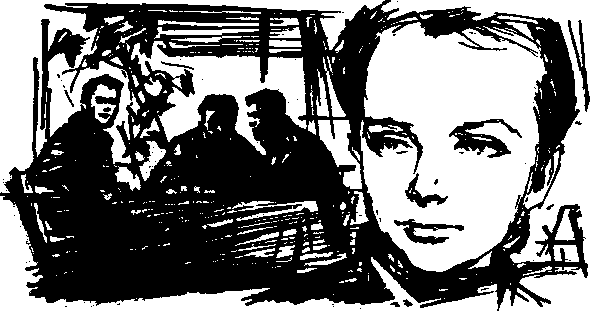 |
Сказалась она в поведении Боровского и позже, когда Старик – так летчики между собой звали Главного конструктора – утвердил ведущим летчиком С-441 Славу Чернорая. Боровский потерял душевное равновесие. Услыхав краем уха, что будущий командир С-441 водит компанию с Костей Караушем и Виктором Извольским, кои якобы были замечены в злоупотреблении спиртного, о чем и. о. начальника летного комплекса Юзефович имеет недвусмысленные сигналы, Боровский гласно обвинял руководство летной базы в назначении пьяниц на ответственные заказы. Нельзя было до такой степени доверять известной поговорке: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты; Чернорай брал в рот спиртное разве что «в дни противостояния Марса», как сказал Костя Карауш, когда узнал о выпаде Боровского. Однако, минуя самого Костю и Виктора Извольского, брошенный «корифеем» камень попал в руководителя отдела летных испытаний Петра Самсоновича Данилова, через которого проходят все кандидаты на новые машины и который, кстати, дал себя уговорить Боровскому передать «семерку» Димову. Но этого старого и очень осторожного инженера, сорок лет отдавшего фирме, можно было обвинить в чем угодно, только не в опрометчивых решениях. Все, что он подписывал, было в рамках принятого, дозволенного, законного и в большинстве случаев после неторопливых совещаний с заинтересованными лицами.
Все это происходило в большом кабинете начальника летной базы Савелия Петровича Добротворского, Героя и генерала в отставке. Выслушав Боровского, Данилов испросил разрешение пригласить для консультации врача летной службы.
Девушка-врач, заметно взволнованная общим вниманием, четко выговаривая слова, заявила, что у Вячеслава Ильича Чернорая ей не замечены какие-либо отклонения в состоянии здоровья, и, как иллюстрацию к сказанному, показала журнал с отметками кровяного давления летно-подъемного состава за последний год. Снисходя к ее волнению, генерал подчеркнуто учтиво поблагодарил за сведения, а когда она вышла, резко встал из-за стола.
– В следующий раз потрудитесь сами проверять сплетни, которыми пользуетесь, – неприязненно бросил он «корифею», – я вам не царь Соломон!
Но Боровский не мог остановиться. На бурном заседании методсовета, когда утверждалась одна из программ испытаний порученного Боровскому С-440, большой турбовинтовой серийной машины, превращенной в летающую лабораторию, «корифей» неоправданно бурно отреагировал на какую-то неточность в подписанной ведущими инженерами и Даниловым программе, не стал слушать объяснений, когда ему пытались доказать, что документ, в конце концов, обсуждался методсоветом, да и ошибка невелика, а недвусмысленно заявил, что возможность подобных «оптических аберраций» в организации летно-испытательной службы на базе и привела, в конце концов, к катастрофе «семерки».
Прослышав об этом, Костя Карауш отметил:
– Это уже кое-что.
До отъезда в командировку Лютров слышал, будто Данилов имел беседу со Стариком о поведении Боровского. Но до того ли главному сейчас, чтобы заниматься еще и амбицией «корифея «?
…Санина назначили штурманом на С-04 после аварии опытного С-40 в 1959 году. Санин оставался на борту с командиром корабли до последней минуты, не в пример второму летчику Андрею Трефилову, и выбросился из машины, когда пожар в зоне четвертого двигателя ослабил крепежные узлы и двигатель отвалился. Потерявшая равновесие машина мгновенно свалилась на крыло, так что Санин едва успел выбраться из аварийного люка, глядевшего уже не вниз, а вверх.
Прыжок был неудачным, Санин опустился на старую осину в лесу за деревней, сильно ударился. Побаливала спина, и он не на шутку боялся, что врачи «зарубят», а когда увидел в летной книжке «без ограничений», радовался, как ребенок.
Вернувшись из госпиталя, Санин как-то обмолвился в присутствии Гая-Самари и Бориса Долотова о «некоторой поспешности», с которой покидал самолет второй летчик Трефилов.
Убедившись, что включение противопожарной системы не сбило огонь, Трефилов расстегнул ремни и сказал Моисееву:
– Поскольку… у меня сегодня день рождения… я покидаю машину.
Моисеев вначале как-то и не понял его, вопросительно посмотрел на Санина, снова на Трефилова, но затем отвел глаза, будто устыдившись, и, прежде чем Трефилов успел покинуть кресло, дал команду выбрасываться. Кроме Санина, никто из экипажа ничего не понял в поведении Трефилова, во всяком случае ничего, кроме того, что второй летчик с завидной оперативностью выполнил команду командира корабля.
Однако ускользающая от формальных определений вина Трефилова, с точки зрения обязанности второго по значению члена экипажа, заключалась не в букве инструкций, а в летной этике. Покинь он машину вместе со штурманом, когда на борту не останется никого, кроме командира корабля, и Трефилов, может быть, по сей день работал бы на фирме. Да и Санина, человека по натуре мягкого и терпимого, несколько обескуражило то, какой оборот приняла эта некрасивая история год спустя с нелегкой руки Бориса Долотова. На первом этапе испытаний «семерку» вел Долотов, вторым летчиком назначили было Трефилова. Но Долотов, которому всегда было все равно, с кем летать и на чем летать, на этот раз отказался работать с Трефиловым. С кем угодно, кроме него. Дело дошло до объяснений в кабинете Данилова.
И тут не только все решилось, но и все, кому довелось при том присутствовать, немало были удивлены тем объяснением существа Трефилова, какое в очень немногих словах дал Борис Долотов, человек, как будто и не замечавший никого за два года пребывания на фирме.
Если Гая-Самари можно было отнести к категории «модников-классиков», кем вольные веяния моды вводились скромно, иногда – намеками: чуть длиннее пиджак, ярче галстук, немного уже или слегка расклешены брюки, то Андрей Трефилов принадлежал к «модникам-эксцентрикам», на ком появляется все самое первое, яркое, еще непривычное глазу и оттого бросающееся в глаза. Казалось, этот человек все свободное от работы время только тем и занимался, что искал какой-нибудь галстук «павлиний глаз» или невообразимую замшевую куртку со множеством карманов и бесконечными застежками-«молниями» и чтобы на подкладке можно было увидеть золототканные ярлыки, стилизованные под средневековые геральдические щиты. Он первым принимался носить пальто с накладными карманами, пыжиковую шапку, туфли с носком веретеном, обтягивающие икры брюки, пестро расцвеченные сорочки; доставал неведомо где паркеровские ручки, африканских чертиков для украшения лобового стекла машины, задрапированной занавесками, зажигалки из Японии; носил тончайшие часы на массивном золотом браслете, запонки с цыганскими висюльками, зажим для галстука в виде полицейских наручников и даже сигареты умудрялся курить «оттедова»: то с верблюдом на пачках, то с какими-то герцогскими коронами, чуть ли не из Новой Зеландии.
– За тебя можно получить хар-рошие деньги! – сказал ему однажды Костя Карауш.
– Да?
– Ага. На одесской барахолке…
– Полегче, радист, я тебе не Козлевич, – отозвался Трефилов, с неожиданной злобой нацеливая на Карауша маленькие глаза из глубоких глазниц под сильно выпуклым лбом с залысинами.
– А кто спорит? – парировал Костя. – Козлевич понимает шутки…
– Здесь все свои, – начал неприятный разговор Данилов. – Вот Донат Кузьмич, Андрей Федорович… Товарищ Долотов, объясните нам э… причину вашего несогласия с кандидатурой Трефилова на место второго летчика!
Борис Долотов сидел через стол от Трефилова и сразу же после вопроса Данилова коротко сказал своему визави:
– Ты скис.
– То есть? – насмешливо улыбнувшись, Трефилов откинулся на спинку стула и засунул руки в карманы.
– Выдохся. Что в тебе было, называется куражом. Кураж испарился, и ты скис. Промотал все, пережил самого себя.
– Интересно… Какой кураж? Чего испарилось?
– Все, что было.
– А чего было?
– Сначала был свет, как в божий понедельник. Я тебя по училищу помню, хоть ты был и не моим инструктором. Ты и там искал, где бы повыше забраться, любил, чтобы тебя видели. В тебе всегда было два человека. Один умел летать, а другой в это не верил. До сих пор ты доказывал ему, что стоишь столько, сколько платят за самого лучшего. Но это не просто – все время доказывать самому себе, что ты не хуже лучших. И осталось одно, что до поры кое-как помогало тебе… самовыражаться…
– Интересно, что?
– Деньги.
– Xa! – Трефилов посмотрел на Данилова.
– Смущенный Данилов хотел было вмешаться, но Долотов упредил его:
– Да, деньги. Не от скупости, не для кубышки или чтобы купить пароход, а для щедрости – вот я какой: угощаю всех, кто под руку попадется, даю взаймы направо и налево. В твоем доме так и говорят: хороший человек этот летчик, никому не отказывает. Но какая это заслуга – дать, а потом взять обратно? Чему тут восхищаться? А поскольку восхищения в глазах ближних ты не видел, твоя щедрость кончилась, и деньги тебе, не очень нужны. Все, ты выпотрошился. Героя не заработал, а щекотать самолюбие мелочишкой скучно… Вот ты и скис, работаешь по инерции, как умеешь давно, потому что заряжаться тебе нечем, и верх в тебе все больше берет тот, другой… Поэтому я и не хочу летать с тобой… Чтобы ты ненароком вместо выпуска противоштопорного парашюта не включил его сброс…
После этого разговора Трефилов сам отказался летать с Долотовым, а когда почувствовал, что никто не считает того неправым, перевелся на другую опытную фирму, но и там пробыл недолго – ушел на серийный завод.
– Так может говорить только человек, который и самому себе ничего не прощает и не простит, – сказал Гай Лютрову. – Долотов не станет ждать суда посторонних, чтобы почувствовать угрызения совести. Но ведь так и надо, а, Леша? – спросил Гай и сам себе ответил; – Так и надо.
Вскоре после возвращения из госпиталя Санина назначили на С-04. К тому времени Лютров достаточно знал Сергея, чтобы не сомневаться, что ему повезло со штурманом. А это много значило для него в ту пору: многоцелевой двухместный перехватчик С-04 был первой опытной машиной Лютрова, которую он вел «от» и «до», хотя работал на фирме седьмой год. Но задолго до того он уже имел некоторое представление о человеческих качествах Сергея Санина.
Душевная избирательность сложна. Подчас довольно очень немногого, чтобы проникнуться расположением к человеку, и ровным счетом ничего не нужно, чтобы он вызвал: в тебе неприязнь. Достаточно всего лишь однажды дать человеку понять, что ты на его стороне, а ему оценить это, и вам обоим будет легко друг с другом всю жизнь. Они вместе могли налетать не одну сотню часов, но их дружеские отношения, возможно, так и не переросли бы в братскую привязанность, если бы не тот памятный, неприятный для Лютрова полет в марте 1953 года, накануне смерти И. В. Сталина, да небольшое происшествие в комнате отдыха летчиков после траурного митинга.
В ту пору готовили к серийному выпуску одну из первых реактивных машин Соколова – С-4, на которой вначале летал Тер-Абрамян, а потом все понемногу. Завод изготовил предсерийный вариант, предназначенный для доводочных испытаний на летной базе фирмы. Нужно было сделать несколько полетов, чтобы снять
За машиной направили Лютрова и Санина.
Вылет был назначен на девять часов утра, а накануне вечером заводские летчики устроили им «малый прием», где они с Сергеем «позволили себе» приложиться к бутылке со звездочками.
И хоть Лютрову шел двадцать восьмой год, а может быть, именно поэтому, выпитого накануне было достаточно, чтобы после взлета в наборе высоты он потерял
Когда это каверзное психофизиологическое состояние охватывает летчика, да к тому же одного в кабине, оно действует как изматывающее сновидение; ты повис над бездной, изо всех сил стараешься не сорваться в нее, и в то же время нечто подсказывает тебе, что спасение – в падении, а нелепость такого выхода только кажущаяся.
Облачность начиналась с высоты около семидесяти метров, и как только самолет вошел в нее, Лютров почувствовал, что машина завалилась в глубокий крен на правое крыло.
По приборам же все было нормально – угол набора, небольшой крен.
Но он не верил приборам, в том-то и штука – очевидность была в нем самом, а не в показаниях черных циферблатов с белыми стрелками, они не могли переубедить его, подавить невесть откуда взявшуюся напасть… Сознание как бы раздваивалось, он едва сдерживал себя, так велико было искушение «выровнять» машину по собственным представлениям о ее положении относительно земли. Кресло под ним, кабина, крылья – все находилось под немыслимым углом к линии горизонта, и ощущение это не только не проходило, но становилось все агрессивнее, требовало действий.
И только потому, что Санин молчал, Лютров держал самолет по приборам; опытный навигатор, Сергей не мог не заметить отклонений в показаниях приборов своей кабины.
А белесая мгла облаков заполнила небо, казалось, ей не будет конца. Нетерпеливое желание вырваться за верхнюю кромку облачности вносило свою долю сумятицы, и неуверенность Лютрова становилась все нестерпимее. В довершение всего в зоне разорванной облачности в кабину обрушился хаос мигающих солнечных лучей, перемежающихся с плотными тенями проносящихся за стеклами лоскутьев облаков.
Все перед глазами словно сорвалось с места. Дробились, гасли и вновь вспыхивали блики на всем, что могло блестеть, метались солнечные зайчики, слепящими искрами дрожаще светились мельчайшие хромированные детали, стекла приборов. Голова пошла кругом. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы наконец не осталась позади семикилометровая толща облаков.
Занавес упал. Под самолетом равниной лежала холмистая даль верхней кромки облачности, повторяющей земной горизонт, разом снявшей наваждение. Правота приборов обрела силу очевидности, Лютров с великим облегчением почувствовал это и услышал голос Сергея:
– Коньяк, мон женераль?..
Значит, он заметил неладное в поведении машины.
– Кажется, да, – отозвался Лютров, обливаясь потом.
– Не застревай на своих впечатлениях, импрессионист. Держись приборов, а то небо в овчинку покажется.
По голосу Санина можно было понять, что он улыбается.
И тогда, еще в полете, Лютров почему-то вспомнил, что Сергея дважды сбивали на фронте, и оба раза во время глубоких рейдов на самолетах дальней авиации; что благодаря разработанной им системе поисков был обнаружен и разбомблен строго секретный аэродром немцев в Финляндии; что у него три ордена Ленина, два Красного Знамени, четыре Красной Звезды, два Отечественной воины… И Лютров не пожалел, что выдал себя: он подумал тогда, что люди, подобные Санину, умеют ценить искренность, и он правильно сделал, что не стал скрывать от него правду. Для Лютрова эта неожиданная мысль была первым следом общности между ними.
На другой день было объявлено о кончине И. В. Сталина. На летной базе собирали траурный митинг.
Полетов в этот день не было.
С утра было холодно. Зима успела надоесть, хотелось тепла, легкой одежды, зелени, а снег все еще лежал крепко.
Выходя из здания летной части, Лютров приподнял воротник меховой куртки и вместе со всеми направился в сторону большого ангара. Им, идущим со стороны аэродрома, хорошо были видны темные цепочки людей, тянущихся от всех корпусов летной базы, где размещались не только те работники, что были непосредственно заняты нелегким делом подготовки испытаний самолетов, но и вспомогательные службы, филиалы цехов основного производства КБ, бригады представителей фирм-смежников. Люди шагали молча.
Огибая опоры стапелей, треноги гидроподъемников, полутораметровые колеса шасси стоящего со снятыми крыльями С-40, прототипа будущего стратегического бомбардировщика С-44, непрерывно натекавшая под стометровые пролеты ферм людская масса мало-помалу заполнила все огромное помещение. Люди плотно стояли лицом к помосту с длинным столом, обтянутым красной тканью с черной полосой, как и тяжелая трибуна слева.
Вскоре на помосте появились уже знакомые Лютрову лица, их часто можно было видеть на собраниях, заседаниях, конференциях. Лица склонялись одно к другому, произносили неслышные фразы. Стоял на помосте и будущий и. о. начальника летного комплекса Нестор Юзефович. Он выбрал позицию чуть в стороне от остальных, словно смерть постигла одного из его родственников и он имеет право быть первым среди скорбящих.
Кого-то ждали.
Стало совсем тихо, и только неприлично чирикали зазимовавшие под крышей воробьи.
В этой настороженной, готовой многое вместить в себя тишине каждый в тысячной толпе хотел видеть и слышать все. Тишина напрягалась, становилась ненастоящей, фантастической из-за молчания стольких людей.
Не выдержав напряжения тишины, упала в обморок женщина. Над ней склонились, кто-то побежал к выходу, за «скорой помощью». Как шелест листьев под ветром, пролетел и смолк недолгий говор.
Люди на помосте расступились. Пришел начальник летной базы Савелий Петрович Добротворский, невысокий, прямой, чуть полнее, чем следовало для его роста.
Держа перед собой лист бумаги, пожилая женщина объявила о начале митинга.
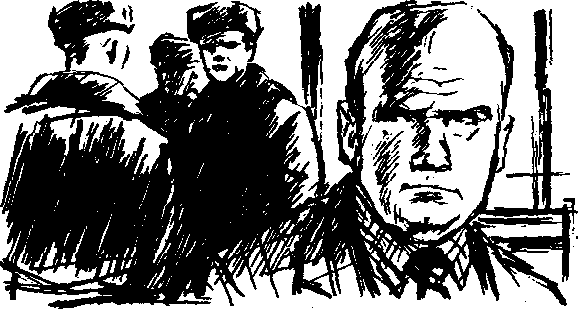 |
Речи были короткими. И в произносимых словах было меньше скорби, чем в напряженном молчании людей.
– Слово предоставляется…
Едва возвышаясь над трибуной, заговорила девушка-клепальщица – тонкая, бледная, с покрасневшими глазами. Срывающийся голос, набухшие слезами глаза выдавали искренне растревоженную душу, растерянную, страдающую. Так и не высказав рвущихся наружу слов, она разрыдалась и растрогала всех.
Последним поднялся на трибуну Добротворский.
Он говорил четко, короткими фразами, как у могил тех летчиков, которых ему довелось хоронить на фронте, не стараясь ни приглушить, ни изменить свой голос.
– Товарищи, умер Иосиф Виссарионович Сталин. Это тяжелая утрата. Мы хороним человека, которому безгранично верили… В каждом из нас живы воспоминания о 1941 годе. Я видел слезы на глазах героев, когда после страшных слухов о падении Москвы мы на далеком участке фронта услышали его речь перед войсками на Красной площади. Такое нельзя забыть…
После митинга летчики вернулись в комнату отдыха.
Когда стали расходиться, Лютров решил приземлить плохо поддающееся обсуждению событие до привычной людям значимости.
– Куда же вы, братцы?.. Можно подумать, что вы не хотите выпить за помин души Иосифа Виссарионовича?..
К словам трудно было придраться. Но у Юзефовича, невесть откуда и как оказавшегося у Лютрова за спиной, было иное мнение.
– Как вы сказала?! Лютров опешил.
– Повторите, как вы сказали! И тем же тоном.
Это была хорошо интонированная экзекуция демагогией. Сколько в ней было наглого самодовольства, острого наслаждения, внушающего страх, уличившего, унижающего.
За несколько последующих мгновений на лице Лютрова сменилась вся гамма выражений – от растерянности до бешенства.
– Кого не приглашают, тому нечего повторять, – медленно произнес Лютров.
Не умея сменить «повторите, как вы сказали!» на равнозначное, угрожающее, Юзефович наливался синевой и, как плохой актер, ждал наития.
– Брось выпендриваться, Юзефович, – донесся из тишины спокойный голос Сергея Санина, – не будь хитрее теленка…
Спектакль был испорчен.
Бывший фронтовик со следами тяжелых ожогов на лице, имеющий больше орденов, чем Юзефович пуговиц, Санин в глазах будущего и. о. начальника комплекса был не чета Лютрову. И Юзефович сменил окраску: все еще недовольно, но явно в другой тональности, он покачал головой и удалился. А Лютров вдруг до пронзительности ясно понял душу Санина: случись, он загородит тебя от удара, от пули, себя в первую очередь подвергнет смертельной опасности и при этом не будет считать, что совершил что-то необычное…
После больших и малых событий 1953 года Лютров все чаще встречался с Саниным, и мало-помалу Сергей увлек его в разноликую жизнь Энска, своего родного города.
Давно ли все это было? И грустно и весело вспоминать… Это был маленький буйный мирок, кипящий настроениями, голосами и жестами. Люди приносили с собой по яркому лоскуту от мыслей, красок и событий большого города. И кого только не заносило к Санину… Иногда захаживал известный поэт, имевший обыкновение после двух рюмок поносить на чем свет стоит всю современную поэзию чохом, включая и собственные опусы, и со слезами на глазах декламировать лермонтовское «Выхожу один я на дорогу».
Тучный сатирик, друг поэта, подарил Лютрову тонкую книжицу злых фельетонов, озаглавленную «Соль по вкусу». Лютрова поражало в этом человеке ни в ком ранее не замеченное умение говорить о сложном свободно и легко. Казалось, этот человек был умнее, опытнее, на порядок больше вобрал в себя всех тех едва приметных, скрытых от поверхностного взгляда примет жизни, которые открываются только очень пытливым, глубоким людям.
– У вас забавная привычка глядеть на людей, – говорил он Лютрову. – Вы всегда над людьми, над их хлопотами. На земле с вами ничего не случается?.. Умеют молчать или умные, или стеснительные люди. Вы умный человек?..
Его вопросы казались странными, но он не рисовался и говорил только то, что хотел сказать.
В последнюю зиму к Сергею несколько раз заходил человек в сером свитере с высоким воротником. «На шум», как он говорил. Сам же был немногословен и чаще всего играл в шахматы. У него было постоянное место у окна, где стоял маленький столик. Говорил он не поднимая головы, даже когда беседовал с сидящим напротив сатириком. Этому не составляло труда играть в шахматы и без всяких усилий рассуждать о том, что сделалось предметом разговора. В своем партнере он обретал идеального слушателя.
– В наше время всяческих проповедей, – рассуждал сатирик, – ссылки на сдвиги в сознании из-за рождения кибернетики и атомной энергии не более чем литературная эстрада, беллетристика душевных аплодисментов. Современен тот, «кто обогатил свою память знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество», Кто способен ощутить мир сердцем Толстого, воплотить в себе все, возвышающее человека… Никакая кибернетика сама по себе ничего не воплощает… Я вот кончил литературный, есть такой институт. Было нас там несколько, тяготеющих отобразить в «великом и могучем» лик времени. Не менее того. Наука-де заговорила по-новому, и нам следует, как некогда Александру Сергеевичу, усовершенствовать отечественный глагол. Им-де, обтесанным на новый лад, сподручнее будет жечь сердца людей. Как программка? А вот нового у нас набралось на одну освистанную и ныне прочно забытую книжицу рассказов, напичканную студенческими «речениями»… Ну, засим получил я диплом о прохождении литературных наук, был направлен в газету, стал разъезжать по всей великой малой и белой Руси, и тут-то вся моя жеребячья умственность улетела к чертям собачьим, потому как душа по-прежнему проживала в дедовском языке… И для каждого более всего на свете, более всех примет электронного века значат приметы любви к родной юдоли… Если ты не окончательно затруханный сукин сын…
Впервые человек в сером свитере показался Лютрову взволнованным. Он снял сильные очки в черной оправе и принялся сосредоточенно протирать их.
– Вы правы, – заговорил он, – чем богаче язык, тем меньше сопротивления оказывает сознанию окружающее… Архиглупо почитать за отсталую народную речь, так дружно, в ладу живущую со всем, что есть на земле… В это нужно уверовать, как в руки матери.
После этой беседы Лютров спросил Сергея о человеке в сером свитере:
– Кто он?
– Не знаешь?.. Ну, да ты тогда не занимался тяжелыми машинами. Это конструктор, начальник отдела. Руководил разработкой механизмов подвески ядерных бомб, был на испытаниях. И вот не уберегся. Болен. Сильно – поражено горло: под свитером следы трех операций. Ему голову поднимать трудно, как на гильотине побывал.
Вскоре этот человек исчез, и Лютров так и не успел узнать, что с ним случилось.
…Хозяйскими делами Сергея ведала его мать, грузная, строгая старуха, по-крестьянски в открытую гордившаяся сыном. Когда она видела Лютрова с Сергеем, принималась сетовать на несуразность их холостой жизни:
– Пора бы уж! В холостяках-то так набалуетесь, никакая девушка не глянется. Чего ждать? Мужики вы, что ты, что Серенька – как дубы, эвон какие! Какого рожна ждать?
Они обещали ей сыграть свадьбы вместе, в один день, как то получилось у сестер Сергея, Веры и Надежды.
Но не женились ни вместе, ни порознь. Возраст ли мешал без предубеждений относиться к девушкам или не случилось в их жизни какой-то главной встречи? Трудно сказать. А в молодости, может быть, больше других любили крылья и, как все одержимые, глядели на заботы вне призвания как на никчемные, не стоящие особого внимания.
Как бы то ни было, Лютров не находил изъянов в прожитых годах и никому не завидовал. Он никогда не сомневался, тот ли путь избрал, тому ли делу отдал жизнь. Обернись все заново, и он снова сядет за письмо командующему округом, чтобы попроситься в летное училище, как он это сделал после призыва в армию в 1944 году. Овладев полетом, он поймал свою жар-птицу и ревностно берег ее, не мог позволить чему-либо случайному посягнуть на его работу. В ней все, весь он. Он не хотел большего, ему не нужно было другого кресла, кроме катапультного, он не мог лишиться того, что давали ему крылья. Еще будучи курсантом, Лютров предпочитал пораньше ложиться спать, чтобы утром, прогревая мотор ЛА-5, с упоением вслушиваться в его уверенный рокот. Все звуки жизни были в нем. Он слышал преданность, послушание, силу, готовую сделать для него главную чудо-работу: поднять в воздух, огласить небо торжествующей песней полета. Что можно было сравнить с полнотой вот этого ощущения жизни? Семейные радости?
Годы не оставили в памяти ничего более близкого, чем заснеженные, залитые дождем, пышущие жаром аэродромы – уходящие за горизонт полосы шершавого бетона. Лютрову случалось бывать едва ли не во всех крупных городах страны, но, прежде чем вспомнить облик города, он вспоминал аэродром. И не только он. Когда Санину говорили, что такой-то город красив и гостеприимен, он привычно ронял:
– Хороший город. Знаю. Полоса два двести.
И уже затем принимался говорить, обстоятельно и со знанием дела, о музеях, картинах, театрах…
Рядом с воспоминаниями об аэродромах жили, как лирические отступления от главной стези жизни, картины охотничьих вылазок.
В Хабаровске знакомые ребята устроили им охоту в предгорьях Сихотэ-Алиня. Охотник-удэгеец – маленький, тонкий, неутомимый, несмотря на тяжелую болезнь почек, водил их по тайге в поисках Гималайского медведя… Охотничьи домики в лесу, морозное ночное безмолвие, огромная золотая луна за сказочными силуэтами деревьев, следы осторожных изюбров, тигра, дупло старого тополя, припудренное желтой гнилостной пылью у отверстия, – след дыхания спящего медведя. Астрахань… Неделя поздней осени, долгое тарахтенье моторки по бесконечным протокам дельты Волги, тысячные утиные стаи и укоризненные слова старого сердитого егеря:
– Ружьишко у тебя, парень, больно харчисто: гляди, в пыль утиц бьешь.
– Слышь, Лешка, – харчисто! Умеют говорить на Руси, а?.. – восхищался Санин с такой горячностью, словно его одарили чем-то.
Есть потери, которые сильнее всего напоминают о времени, о прожитом. Лютрову иногда казалось, что вся его «взрослая молодость» началась и кончилась рядом с Сергеем, как с отъездом из родного городка кончилось детство, с получением диплома летного училища – юность. Три месяца прошло после похорон друга, а он все еще не обрел прежнего душевного равновесия. Женатым, наверное, легче. Будь он женатым, ему, может быть, не стало бы так тоскливо сегодня вечером одному в своей квартире на Молодежном проспекте, и он не уехал бы на ночь глядя на этот аэродром, – в гостиницу, где живут остальные члены экипажа. Нужно двигаться, не оставаться с самим собой праздным, не копить усталость, лечить душу «терапией занятости», иначе одолеет тоска… Умница Гай-Самари придумал ему эту командировку: полеты через сутки, как правило, во второй половине дня, посадка ночью, аэродром далеко от летной базы, от бесконечных пересудов о катастрофе, куда то и дело примешивают то Боровского, то Юзефовича, один вид которого вызывает в Лютрове глухое раздражение.
(support [a t] reallib.org)