"Советская цивилизация. От Великой Победы до наших дней" - читать интересную книгу автора (Кара-Мурза Сергей Георгиевич, Перевод...)
Глава 4. Образ советской хозяйственной системы
Ключевым постулатом всей антисоветской идеологии было утверждение, что рыночная экономика западного типа эффективнее советской. Прежде чем переходить к более тонким материям, предлагаю обдумать и зафиксировать оценку по самому жесткому критерию —
Принимаем во внимание жесткий факт, который Фернан Бродель сформулировал таким образом: «
В социально-экономической сфере антисоветская мысль создала многообразную и довольно сложную интеллектуальную конструкцию. В наиболее радиальном виде ее кредо в 80-е годы сводилось к следующему: «
В таком виде эта формула стала высказываться лишь после 1991 г. — до этого никто из людей, еще не увлеченных антисоветским миражом, в нее бы просто не поверил, даже рассмеялся бы. Настолько это не вязалось с тем. что мы видели вокруг в 70-80-е годы. Никаких признаков коллапса, внезапной остановки дыхания, не было. У тех, кто в этот назревающий коллапс верил, это были лишь предчувствия, внушенные постоянным повторением этой мысли «на кухнях».
А.Д.Сахаров писал в 1987 г.: "Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные резервы и СССР политически и экономически развалится — весь исторический опыт свидетельствует об обратном" (А. Сахаров, "Мир, прогресс, права человека. Статьи и выступления". Л., 1990. С. 66).
Вот мой личный опыт. Я ушел из любимой деятельности, экспериментальной химии, в гуманитарную под влиянием негативной мотивации — для изучения тех болезненных явлений, что тормозили развитие советской системы. Главный пафос моей аналитической работы был критическим. Но и мой, и общий вывод моих коллег (которые позже перешли на антисоветские позиции и даже стали министрами в правительстве Гайдара) был именно таким: система улучшается, но
Такие катастрофы, как коллапс хозяйства, не приближаются без достаточно длительного нарастания явных симптомов — если, конечно, сама власть по каким-либо причинам вдруг не разрушает хозяйство. Даже в середине 80-х годов никаких веских причин ожидать катастрофы не было. Потому то речь во время первой фазы перестройки шла об
Посмотрим массивные, обобщающие показатели советского хозяйства, опубликованные в 1991 г. Госкомстатом СССР — уже горбачевским и почти ельцинским. Его руководство конечно же не взяло бы на себя смелость в полной фальсификации всей национальной статистики за десяток лет — даже если бы такая фантастическая фальсификация и была технически возможна. Вот статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР в 1990 г.» (М.: Финансы и статистика. 1991. Тираж 30 000 экз.). Как показательные для советского периода возьмем данные до 1989 г., поскольку уже этот год нельзя, строго говоря, причислять к советскому периоду (плановая система и монополия внешней торговли уже были подорваны целым рядом важных изменений). Вот некоторые из красноречивых данных.
 |
Устойчиво росли индексы потребления населением материальных благ и услуг: по сравнению с 1980 г. они составляли в 1985 г. 114,7% и в 1989 г. 127%. Быстро росли в СССР капиталовложения, — вплоть до слома системы — что уж совсем никак не вяжется с представлением о назревающей катастрофе, когда все силы бросаются на срочные задачи ее предотвращения. Если вкладывают в будущее, а не в починку настоящего, коллапса не ожидается. По сравнению с 1980 г. капиталовложения в СССР возросли в 1988 г. на 40%, а, например, в США на 30%, во Франции на 10%, а в ФРГ нисколько не возросли. Улучшались и самые массивные, системообразующие качественные показатели советского хозяйства — урожайность сельскохозяйственных культур, надои молока, удельный расход топлива на получение 1 квт-ч электроэнергии — с 468 г в 1960 г. до 325 г в 1987 г. По этому важному показателю СССР обогнал большинство стран Запада — в США на 1 квт-час электроэнергии расходовалось 354 г. топлива, во Франции 359. Подобных признаков было много, и это были именно "неумолимые" общие тенденции системы. Иными словами, самые главные объективные показатели никакой катастрофы не предвещали, и формирование ее образа в массовом сознании было типичной манипуляцией.
В недавней обзорной статье ведущего научного сотрудника МГУ Л.Резникова "Российская реформа в пятнадцатилетней ретроспективе" (Российский экономический журнал, 2001, № 4) сделан такой вывод: "Исключительно важно подчеркнуть:
Доклад ЦРУ 1990 г. "О состоянии советской экономики" также утверждает, что даже и кризиса в советском хозяйстве не было, не то что неизбежного коллапса. Этот доклад довольно часто цитируется американцами (сам я читал только его реферат и ссылки на него). В нем по американской методике и с собственными данными ЦРУ были пересчитаны показатели советской статистики и признаны, в общем, верными. Уж кому должны были бы верить антисоветские идеологи, как не своим верным союзникам?
Ощущения коллапса и даже кризиса совершенно не было в массовом сознании, в том числе интеллигенции, очень критически относящейся к системе. Это показало двухгодичное (1988 и 1990 гг.) исследование ВЦИОМ под руководством Ю.Левады, результаты которого представлены в книге «Есть мнение» (М., 1990). Весь пафос исследования является открыто антисоветским, но никакого предчувствия кризиса в нем не обнаружено.
Отмечу здесь, что примитивна сама логика рассуждений, из которых выводилась негодность советского типа хозяйства из факта снижения
Посмотрим, как искажается наше сознание, когда мы оперируем валовыми цифрами, не учитывая "изъятия". (Кстати, помню, в 70-е годы эту проблему поднимали французские экономисты. Они говорили, что нельзя сравнивать показатели разных стран, прежде чем из них будут вычтены некоторые "неделимости". Подобную вещь мы обсуждали, говоря о сравнении доходов до вычитания "физиологического минимума". Но мировые аганбегяны на этих авторов, видно, прикрикнули, и эта идея заглохла). Кажется, простая вещь — мощность двигателя. Из физики знаем: это работа, произведенная в единицу времени. А на деле ничего эта величина не говорит, если мы не знаем, какую часть мощности двигатель вынужден тратить
Возьмем другую сторону жизнеустройства — не производство, а
Вызывало, например, нарекания строительство. Известно, что масштабы его были исключительно велики, едва ли не все горожане в этот период испытали переезд (отделялись молодые, получали новые квартиры, улучшали старые и т.д.). Отрасль явно не справилась с такой экспансией, квалификация работников и качество работы упали. Но с тем, что получение квартиры, пусть даже и построенной с огрехами, было для человека ухудшением, поверить невозможно. А ведь именно так ставят вопрос антисоветские ораторы. Конечно, люди, получив новую квартиру, быстро забывают свои ощущения. Но если бы новоселам сказали об «ухудшении» их жизни в тот момент, они бы просто не поняли. И кривые рамы подгонялись, и щели заделывались — а люди квартирам были рады и коллапса не ожидали.
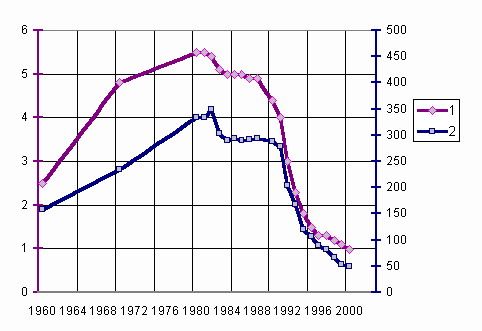 |
Рис.17 Объем услуг почты и телеграфа России. 1 — число отправленных писем, 2 — телеграмм
Именно после 1988 г. стал быстро нарастать кризис, грозящий катастрофой. Вызван он был как раз отказом от главных принципов советского хозяйства, попыткой его «гибридизации» с элементами капиталистической экономики совсем иного типа… Катастрофа назревала так быстро, что уже в 1990 г. стали официально говорить об «опасности разрушения народного хозяйства». Большими усилиями, за счет потери политической стабильности правительство удерживало ситуацию под контролем. Напротив, антисоветские силы делали все возможное, чтобы экономическое положение дестабилизировать и обострить недовольство населения (полезно вспомнить, как вышедшие из КПСС соратники Горбачева разжигали забастовки шахтеров Кузбасса).
Рассмотрение принципов и последствий неолиберальной реформы в России выходит за рамки нашей темы. Однако оценка масштабов потерь, которые понесло при этой реформе хозяйство, говорит о масштабе средств, которые регулярно вкладывались в хозяйство при советском строе. Это может служить для нас методическим приемом. Сейчас уже перестали применять прием пропаганды, который был излюбленным в первые годы реформы — утверждение, будто кризис унаследован от советской системы и является просто продолжением созревших в ней тенденций. Сама форма кривых, выражающих динамику экономических показателей, говорит о том, что в 1990-92 гг. произошел именно слом системы, ее убийство политическими средствами. Если мы оценим хотя бы приблизительно те средства, которые с тех пор потеряло хозяйство, мы поймем, с какой интенсивностью работала экономическая машина СССР.
Конечно, трудно учесть все средства, которые успели реформаторы растратить за 10 лет. Сколько, например, реально стоило поддерживать военный паритет с Западом? От него отказались, вооружения не разрабатывают и не приобретают, армию распустили — сколько на всем этом сэкономили правительства Гайдара и Черномырдина? Где эти деньги? Десять лет практически не делается капиталовложений в производство, свернуты все большие строительные и мелиоративные программы. Почти не выделялось средств даже на поддержание технической инфраструктуры. Инвентаризация всех этих изъятых из хозяйства средств — большая задача. Есть и очевидные изъятия, например, присвоение правительством Гайдара 372 млрд. руб. вкладов населения в Сбербанке. Когда люди делали эти вклады, покупательная способность рубля была существенно выше, чем доллара, так что реальные средства, изъятые из хозяйства, были огромны.
Главный дефект той системы, к которой перешли от советского строя, вовсе не в том, что «новые русские» вывезли 300 млрд. долл. или накупили себе «мерседесов». Главное, что они при этом уничтожили в десятки, а то и сотни раз больше ресурсов, то есть оказались бессмысленными (с точки зрения интересов общества) хищниками. И это — свойство фундаментальное (в принципе, вся западная экономика именно такова). Рядом с этим свойством тупость советского управления — свойство именно не фундаментальное, а исторически данное и устранимое. Да и потери эта тупость порождала гораздо меньшие, чем нынешняя хищность.
В мае-июне 2000 г. в Государственной думе состоялись слушания, на которых обсуждалась возможная стоимость восстановительной программы. Там было сказано: "для создания современной производственной базы запуска производства потребуется не менее 2 триллионов долл." (запись слушаний опубликована в "Российском экономическом журнале", 2000, № 7). То есть, 2 трлн. долл. нужны еще не для развития, а лишь для повторного
При обсуждении этих сведений в Интернете один из собеседников, Б., посчитал, что сумма в 2 трлн. долл. сильно завышена. На мой взгляд, она занижена. Стоит вспомнить, что в хозяйство ГДР уже вложен 1 трлн. марок, но ее производство еще далеко от уровня запуска с выживанием в условиях открытого рынка. А ведь стартовые позиции промышленности ГДР в 1990 г. были гораздо лучше, чем у нас сейчас, да и масштабы не те и население не оголодало. Сколько стоит по рыночным ценам восполнить в условиях Сибири и Севера десятилетний перерыв в геологоразведке и обустройстве новых месторождений? Рынок так рынок, надо брать мировые цены на эти работы. Ведь это уже не советская система, мы об этом забываем. Это сказывается на мышлении хозяйственных руководителей. Их сознание расщеплено — они опираются на оставшиеся ресурсы советской системы, другой рукой их же уничтожают, но в своих расчетах исходят из того, что ресурсы эти вечны.
Мы практически лишились флота — сколько стоит его закупить или построить? И так — пройдитесь по всем самым массивным системам. Только тракторный парк, который выбит почти полностью, по европейским нормам для фермеров (1 трактор на 10 га) будет стоить 150-200 млрд. долл… Стадо крупного рогатого скота вырезано более чем наполовину — сколько стоит купить 30-40 млн. голов породистого скота? И ко всему этому надо добавить стоимость полной переподготовки рабочей силы. Скорее всего, число 2 трлн. долл. занижено вследствие инерции образа советских цен. Да и западные цены начнут расти из-за общего повышения цен на нефть. Значит, не только все материальные ресурсы, но и рабочая сила резко подорожает (работникам надо питаться, а импорт продовольствия будет обходиться дороже). При этом не видно, почему бы прекратился отток капитала за рубеж.
Возьмем одну только отрасль — энергетику. 15 января 2001 г. был опубликован очередной выпуск «Обозрения», информационно-аналитической справки о положении дел в экономике "Центра развития" (рук. С.Алексашенко, бывший заместитель председателя Центробанка РФ). Там сказано: «В ближайшие десять лет, по оценкам экспертов, выбытие мощностей в течение 2000-2010 гг. возрастет примерно до 10 млн. кВт в год, а существующие темпы ввода новых мощностей уже не будут покрывать их выбытия. В среднем за предшествующие 10 лет вводились мощности около 1,24 млн. кВт в год, в 1999 г. объем ввода новых мощностей составил, по словам зампреда правления РАО "ЕЭС России" Я.Уринсона, лишь 0,84 млн. кВт, в 2000 г. был введен 1 млн. кВт.
Помимо этого, изменение топливно-энергетического баланса России в сторону уменьшения доли газа при выработке электроэнергии и переоборудование электростанций на потребление угля потребует дополнительных вложений в отрасль. По оценкам экспертов, потребность в инвестициях в электроэнергетику в 2001-05 гг. будет составлять от 3,8 до 4,4 млрд. долл. в год, а в 2006-10 гг. возрастет до 8,4-9 млрд. долл. в год, тогда как объем инвестиций в основной капитал снизился с 4,9 млрд. долл. в 1997 г. до 1,1 млрд. долл. в 1999 г., а в 2000 г. может составить лишь 1,3-1,5 млрд. долл.». Говорят о замене нефти и газа углем — но ведь и добыча угля непрерывно падает (рис. 18).
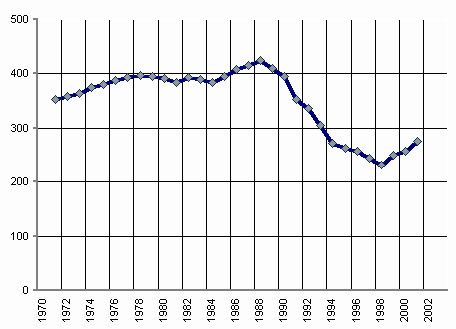 |
Рис.18 Добыча угля в России (млн. т)
В своей пропаганде реформаторы приукрашивают положение дел, называя отдельные случаи благополучных предприятий. На фоне целого это —
Вновь возьмем один из ключевых ресурсов хозяйства — энергию. В 1999 г. США потребили 1 млрд. тонн нефти, а РФ — 80 млн. тонн. Добыча нефти падает, а за долги надо отдавать все больше и больше. Скоро добыча снова резко упадет, поскольку начнется эффект от прекращения с 1990 г. разведывательного бурения (рис. 19 и 20). В этом нет ни капли идеологии, и нехватку энергии не покрыть гениальными мозгами, из которых к тому же большая часть уплывает за рубеж. С газом положение не лучше. В некоторых областях закончили прокладку труб, вогнали в их прокладку большие средства, а газа не подают — нет. Уже ведутся его закупки по мировым ценам у Туркмении. Одновременно идет подготовка к массированному экспорту электроэнергии.
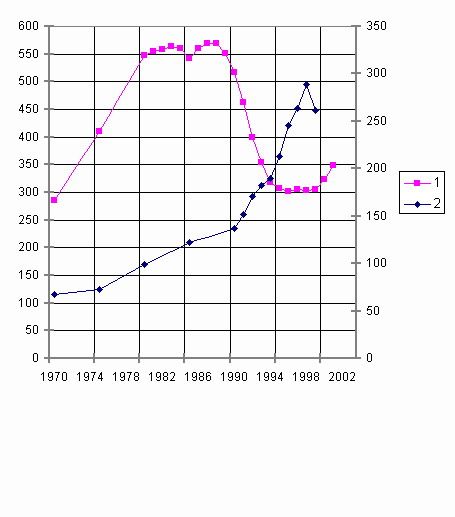 |
Рис.19 Состояние нефтедобывающей промышленности России. 1 — Объем добычи нефти в России (млн. т), 2 — Число занятых в отрасли (тыс. человек)
 |
Рис.20 Разведочное бурение на нефть и газ в России (тыс. м)
Те, кто продолжает отстаивать сегодня антисоветскую доктрину, все время переходят от той проблемы, которая стоит перед страной, на совсем другую проблему. Ведь задача в том, чтобы оживить и восстановить
Но и оптимизм относительно анклавов необоснован. Они пока что работают на старых ресурсах — не платят за землю, имеют очень дешевую энергию и используют старую рабочую силу, не отчисляя денег на создание новой. Кроме того, они защищены остатками советского железного занавеса. А надо прикинуть, как будут выглядеть эти анклавы, когда РФ введут в ВТО. Ведь один из главных смыслов ВТО — обязательство всех стран, не входящих в ядро системы, отказаться от собственной научно-технической деятельности. Запатентовать свои разработки нам будет почти невозможно — таково разделение труда, предусмотренное ВТО. А значит, все передовые предприятия, о которых нам говорят по телевизору, все равно станут филиалами ТНК или сойдут со сцены.
Антисоветская интеллигенция поддержала главные принципы либеральной реформы, но при этом все ее виднейшие представители признают, что никто не может дать гарантии, что мы "выкарабкаемся". То есть, эти люди поддержали смертельно опасную операцию над своей больной страной — "против воли больного", как признали сами демократы. Причем болезнь вовсе не требовала такой операции, а о заведомом вреде этой операции и ее опасности для жизни предупреждали очень многие авторитетные специалисты. Тут безответственность порождена идеалами. Для одних страна обладает
Рассмотрим некоторые концептуальные основания критики советской системы хозяйства.
Частью большой антисоветской доктрины в сфере экономики была атака на представление об общенародной и государственной
Придание же этому чисто социальному феномену статуса "естественного", то есть природного, внесоциального также надо считать иррациональным, поскольку здесь слово "естественный" просто заменяет слово "священный" и никакого содержательного значения не имеет. Частная собственность в ее современном виде возникла лишь в Новое время, с превращением человека в свободного индивида (исходный элемент этой собственности — собственность на
А только в цивилизованном состоянии человечество живет уже 20 тысяч лет — двести веков! Более того, даже не частная, а и более ранние формы собственности возникли лишь с появлением земледелия, то есть сравнительно недавно. А до этого вполне сформировавшийся
Cоответственно, не существует и никакого природного "чувства Хозяина", которое было якобы утрачено советскими людьми из-за обобществления собственности на средства производства. Создание мифа об этом "чувстве" или инстинкте — типичное биологизаторство культуры, отрыжка социал-дарвинизма. Прискорбно наблюдать его в культурной образованной среде. Что же касается этого чувства как порождения культуры, то вовсе не советская власть его ограничила в России, а Православие. С.Булгаков пишет в книге "Христианский социализм": "Именно это-то
Во время перестройки настойчиво внушалась мысль, что, мол, общенародной собственности в СССР и не существует, ее захватило государство, так что
Бюрократия в СССР явно представляла собой социальную группу работников управленческого аппарата и никакими признаками класса-собственника не обладала. Так же, как и менеджер в частной корпорации выполняет функции управления и участвует в принятии решений, но вовсе не является
Напротив, чтобы опорочить советскую собственность, антисоветским философам приходилось идти на сложные интеллектуальные выкрутасы и на грубую подмену понятий. Вот, например, что пишет видный философ-правовед В.С.Нерсесянц: "Одним из существенных прав и свобод человека является индивидуальная собственность, без чего все остальные права человека и право в целом лишаются не только своей полноты, но и вообще реального фундамента и необходимой гарантии" (В.С.Нерсесянц. "Декларация прав человека и гражданина" в истории идей о правах человека. — СОЦИС, 1990, №1).
Утверждение, будто без частной собственности (философ стыдливо заменяет слово "частная" на "индивидуальная")
С точки зрения буржуазной идеологии, такие общества были
Эксплуатируя заложенный в миф о собственности порочный круг, эти философы поневоле доходят до абсурда. Тот же В.С.Нерсесянц пишет: "Создаваться и утверждаться социалистическая собственность может лишь внеэкономическими и внеправовыми средствами — экспроприацией, национализацией, конфискацией, общеобязательным планом, принудительным режимом труда и т.д.". Речь явно идет о советском строе. Вдумаемся в это тоталитарное утверждение: философ отрицает всякую возможность создать социалистическую собственность экономическими и правовыми способами.
В.С.Нерсесянц, видимо, делает упор на национализации 1918 г., хотя и тут непонятно, почему же национализация — неправовой акт. А приватизация — правовой? Какие можно придумать правовые основания, чтобы отдать молодому биохимику и комсомольскому работнику Кахе Бендукидзе машиностроительный суперкомбинат «Уралмаш» за смехотворную цену — одну тысячную не стоимости завода, а стоимости его годовой продукции?
Но пусть даже национализация и была «неправовой» (точнее, следовала чрезвычайному революционному праву). Ведь это — всего лишь краткий исторический миг, да и национализированы были парализованные и заброшенные предприятия, что прекрасно видно из истории этого процесса. В первой книге кратко упомянуты обстоятельства, в которых проходила национализация промышленности в Советской России в 1918 г. Ее главной причиной была именно остановка производства владельцами предприятий, что грозило рабочим голодной смертью. Этот процесс начался до Октябрьской революции, во многих случаях с июля 1917 г. Именно владельцы нарушили свои обязанности, которые явно или неявно предусмотрены «общественным договором», каковым и является частная собственность на средства производства.
В 1954 г. были опубликованы исключительно важные для данной темы материалы — большой том в 824 страницы («Национализация промышленности в СССР. Сборник документов и материалов 1917-1920 гг.» М.: Политиздат. 1954). Его полезно прочитать внимательно, каждый документ, о каждом конкретном случае. Вот обращение правления профсоюза текстильщиков Поволжья к заводским комитетам, с которого начался процесс национализации текстильных предприятий региона:
«30 января 1918 г.
Наши фабрики и заводы находятся в плачевном состоянии: нет запасов машинных частей, нет сырых материалов и пр. Предприниматели не принимают никаких серьезных мер для приобретения таковых. Мы видим, как наши фабрики и заводы изо дня в день приходят все в больший и больший упадок, и близок час их остановки.
Товарищи! Наша священная обязанность — спасти положение. Мы просим вас немедленно, при содействии товарищей служащих контор выяснить адреса всех фирм, заводов, складов и магазинов, где приобретались для ваших фабрик и заводов машины и все материалы, а также выяснить местность скупки шерсти и адрес продавцов таковых, выяснить цены по сортам до войны и цены настоящего времени. Все данные, имеющие быть собранными по этому циркуляру, просим немедленно прислать правлению союза.
Шлем вам товарищеский привет».
Но 9/10 социалистической собственности в СССР было создано хозяйственной деятельностью в последующий за национализацией период. Согласно промышленной переписи на 31 августа 1918 г. было национализировано 3 тыс. крупных предприятий — практически все, какие были в России. Большинство их было разрушено во время гражданской войны и потом восстановлено уже советским государством. Но за годы первой и второй пятилеток и часть третьей пятилетки до начала войны было
Возьмем совсем уж крайний случай. Непонятно, почему надо считать "внеправовым" явлением хотя бы и принудительный труд осужденных, если он регулируется правом. Само понятие права у этого правоведа становится совершенно расплывчатым. Что за странное воздействие оказывает антисоветизм на головной мозг.
Своей хулой на социалистическую (и вообще коллективную) собственность философ по контрасту пытается доказать мысль о том, что уж частная-то собственность создавалась исключительно в рамках права и без внеэкономического принуждения. Но ведь эта мысль, откровенно говоря, просто нелепа. Не будем уж поминать Маркса ("на каждом долларе следы крови") или 9 млн. африканцев-рабов, доставленных в Америку живыми (по оценкам историков, живыми до Америки доплывало около 10% из тех, кто загонялся в трюм в Африке). По данным авторитетного историка Ф.Броделя, треть всех инвестиций Англии в период промышленной революции покрывалась средствами, награбленными в одной только Индии.
Понятно, что в статье, написанной в 1989 г., автор своими манипуляциями с понятием собственности выполняет чисто политическую задачу — готовит читателя к грядущей приватизации. Уж она-то, мол, даст гарантии прав и свобод каждому человеку: "Необходимо освободить социалистическую собственность от абстрактно-всеобщей, "ничейной", государственной формы… и трансформировать ее в индивидуализированную собственность всех членов общества".
Хотя в то время идея разрешить кучке ловкачей захватить всю государственную собственность еще широко не афишировалась, практические разработки уже велись. Вот откровения одного из идеологов реформы экономиста В.Найшуля в статье с красноречивым названием "Ни в одной православной стране нет нормальной экономики" (в столь же красноречивой рубрике "Кафедра научного капитализма" — "Огонек", № 45, декабрь 2000): "В 1985 году я написал самиздатовскую книгу о приватизации. Только называл приватизационные чеки не ваучерами, а инвестиционными рублями… В конце восьмидесятых организовалась некая единая тусовка, возникло новое экономическое поколение, из которого и вышло все, что вы наблюдаете сейчас, — нынешние реформаторы. В том числе Чубайс".
Вся эта атака на общенародную и государственную собственность, на мой взгляд, замешана на смеси подлости и глупости и велась она исключительно в целях прикрытия наглой и жестокой акции по присвоению это собственности горсткой хищников. Присвоив ее, они вовсе не отнеслись к этой собственности с «чувством Хозяина» — они ее разграбили, надолго парализовав производительные силы страны.
Одним из них было
В принципе это к вопpосу об экономике никакого отношения не имеет. Та или иная точка зpения о том, что нужно было делать СССР, опpеделяется моpальными ценностями, а не логикой. О ценностях же нет смысла споpить. Пpимем эту позицию и пpедположим, что советский наpод, в своем подавляющем большинстве пpинявший политику индустpиализации, фатально ошибся.
Это предположение очень смелое. Все ошибки Сталина и его тевосянов советские люди оплачивали излишками своей крови и пота. Из всего, что я знаю из всех доступных мне источников, именно эти люди, проливавшие пот и кровь, имели самую верную оценку альтернатив. И эта оценка была наиболее достоверной, поскольку речь шла об их собственной шкуре и шкуре их детей (которых они очень любили). Я считаю, что эта их оценка вполне адекватно выразилась в редкостном историческом явлении — культе личности Сталина. При том, повторяю, что все его ошибки и перегибы сразу и непосредственно выражались в излишке пота и крови.
Позиция, отвергающая индустриализацию, стала бы рациональной, а не идеологической, если бы ее сторонники провели ревизию всех имевшихся в тот период реальных альтернатив и сказали бы: та альтернатива, что была реализована, наихудшая. А народ, полюбивший тирана Сталина — дурак.
Я часто спрашиваю видных идеологов, даже нарушая приличия: "Какова была реальная альтернатива?" Стесняются, молчат. Ибо вот что пришлось бы ответить: лучше было бы отказаться от индустриализации, для которой не было средств. Лучше было бы не механизировать поле, а поддержать кулаков с дешевой батрацкой силой. Лучше было бы вновь начать гражданскую войну, расстреливая этих батраков в селе и безработных в городе. Лучше было бы сдаться Гитлеру и отдать Сибирь Японии.
Очевидно, что советский строй оказался неподготовлен к "сытой" жизни — тут он сразу породил элиту, вожделевшую буржуазной благодати. Оказался беспомощным против внутреннего врага, вскормленного холодной войной.
Не странно ли: никто не вспомнит сбывшееся пророчество Сталина. На языке марксизма он сказал: по мере развития социализма классовая борьба против него будет нарастать. Уж как над этим насмехались! А ведь в переводе на русский язык это было важное предупреждение. Смысл его таков: в советском строе есть глубокий изъян, и как только настанет сытая жизнь, в обществе появится сила, которая постарается этот строй уничтожить. Как разрешить это противоречие, поколение фронтовиков не знало. Но оно хоть предупреждало.
Что поражает в самой структуре антисоветского мышления, так это полное отсутствие в нем исторической памяти, интеллектуальной преемственности. Из него исключена рефлексия над теми оценками советской экономической системы, которые давали виднейшие мыслители Запада, наблюдавшие ее становление. Причем мыслители, обладающие высочайшим духовным авторитетом в среде самой антисоветской интеллигенции. Понятно, что можно считать те их оценки ошибочными, находить им какое-то объяснение, но ведь этого нет — их просто игнорируют без всяких внутренних сомнений.
Вот, Эйнштейн, хорошо информированный и об издержках советской индустриализации, и о репрессиях, писал в мае 1949 г.: "Экономическая анаpхия капиталистического общества, каким мы его знаем сегодня, является, по моему мнению, действительной пpичиной всех зол. Мы видим пеpед собой огpомное сообщество пpоизводителей, котоpые непpеpывно боpются дpуг с дpугом pади того чтобы пpисвоить плоды коллективного тpуда, пpичем боpются не из объективной необходимости, а подчиняясь законно установленным пpавилам…
Результатом такой эволюции стала олигаpхия частного капитала, чья колоссальная власть не может быть поставлена под эффективный контpоль в демокpатически оpганизованном политическом обществе. Это неизбежно, поскольку члены законодательных оpганов подбиpаются политическими паpтиями, финансиpуемыми или во всяком случае находящимися под влиянием частных капиталистов… более того, в нынешних условиях частные капиталисты неизбежно обладают контpолем, пpямо или косвенно, над основными источниками инфоpмации (пpессой, pадио, обpазованием). Таким обpазом, оказывается исключительно тpудным, если не невозможным в большинстве случаев, чтобы отдельно взятый гpажданин смог сделать объективные выводы и pазумно использовал свои политические пpава. Это выхолащивание личности кажется мне наиболее гнусной чеpтой капитализма…
Я убежден, что имеется единственная возможность устpанить эти тяжелые дефекты — посpедством установления социалистической экономики, дополненной системой обpазования, оpиентиpованной на социальные цели. В этом типе экономики сpедства пpоизводства находятся в pуках общества и используются в плановом поpядке. Плановая экономика, котоpая pегулиpует пpоизводство в соответствии с общественными потpебностями, pаспpеделяет pаботу между всеми, способными pаботать, и гаpантиpует существование всем людям, всем женщинам и детям. Воспитание личности, кpоме того чтобы стимулиpовать pазвитие ее внутpенних способностей, культивиpует в ней чувство ответственности пеpед согpажданами, вместо того чтобы пpославлять власть и успех, как в нашем нынешнем обществе".
Говоpя о "катастpофах, вызванных ускоpенной индустpиализацией", кpитики советской экономики сpазу же забывают о них, когда хотят показать неэффективность плановой системы с дpугой стоpоны — чеpез отсталость советской технологии в сpавнении с западной или чеpез низкий уpовень потpебления в стpане. Бывает, один и тот же экономист в одной и той же статье видит дефект советской системы в том, что она пpовела слишком фоpсиpованную ускоpенную индустpиализацию, и одновpеменно в том, что индустpиализация была недостаточно фоpсиpованной и ускоpенной и не вывела СССР на уpовень США. Такова диалектика антисоветского мышления.
Здесь надо сказать, что в антисоветском мышлении есть сильный крен в
Отвлечемся пока от того факта, что он чаще всего и сегодня мыслит не слишком умело — "забывает про овраги, а по ним ходить". Главное в том, что даже если бы его переводной учебник действительно был хорош, генотип системы, в котором записано огромное неявное знание о невидимых и даже принципиально не обнаруживаемых оврагах, представляет из себя не только большую ценность, но и огромную силу. В результате, ломая, как он полагает, лишь немногое в системе, технократ приводит дело к катастрофе. Почти наверняка можно сказать, что предполагаемый при этом выигрыш в эффективности меньше ценности того неявного знания и памяти системы, которые он разрушает.
Вспомним: поначалу антисоветский проект в экономике якобы сводился к тому, чтобы усилить роль обратных связей в хозяйстве СССР. Первая модель хозрасчета, вторая модель, расширение инициативы и т.п. Ради этого не стоило наваливать миллионы трупов, такие вещи делаются не торопясь, проверяя каждый шаг именно обратными связями. Хорошо получилось — принимаем, делаем еще маленький шажок. Не послушались реформаторы своего кумира Поппера (да и не читали они ничего, кроме конспекта лекций по Келле и Ковальзону).
Но если исходить из требований интеллектуальной совести, то надо вспомнить все предыдущие попытки усиления обратных связей (рыночности) в советской системе хозяйства. Укажем главные из таких точек: а) попытка пойти по пути госкапитализма в 1918 г.; б) НЭП, демонтаж трестов, хозрасчет и прямые связи; в) реформы Хрущева — ликвидация министерств, совнархозы; г) реформа Либермана-Косыгина; д) реформа Горбачева-Рыжкова; е) реформа Ельцина-Гайдара. Все эти попытки, вплоть до Горбачева, запускали процессы, чреватые глубоким разрушением хозяйства или недопустимым в реальных условиях снижением темпов развития (НЭП), а потому закруглялись, изучались (!) и приводили к восстановлению, на новом уровне, генотипа нашего "семейного" хозяйства. Всегда с изменениями, но не разрушительными. Лишь Горбачев пошел напролом, а потом его работу, в наиболее грязной ее части, доделала бригада Ельцина.
Если окинуть взглядом эту богатую историю, то именно об антисоветском типе мышления следует сказать, что в нем напрочь отсутствуют обратные связи. Это — система, принципиально необучающаяся.
Особо наглядны разрывы в логике, и "обратных связях", когда само планиpование тpактуется как "гигантский механизм по pастpате усилий и pесуpсов". Вспомним pеальность России 20-30 годов и представим себе альтеpнативу плановой экономике. Пpедположим заведомо невозможное (независимо от желаний большевиков): после гpажданской войны в России установилась экономика свободного капиталистического pынка. Каков был бы pезультат? Его нетpудно смоделиpовать, и вpяд ли кто-нибудь всеpьез сомневается в том, что в pеальных условиях pазpухи, отсутствия капиталов, огpомного внешнего долга и хpонической нехватки земли пеpвым pезультатом стала бы длительная массовая
Этой безработицы удалось избежать именно потому, что путем планового pаспpеделения pесуpсов, не подчиняющегося локальным экономическим кpитеpиям (прибыль), огpомные массы людей были вовлечены в стpоительство заводов, каналов, железных доpог, хотя бы с помощью "неэффективного" pучного тpуда. С помощью планиpования этим людям было обеспечено очень скpомное, но достойное существование и возможность учиться. А затем, опять-таки вопpеки экономическим кpитеpиям pынка, на заводах было установлено самое совpеменное по тем вpеменам обоpудование, котоpое бывшие кpестьяне вначале нещадно ломали. Все это с точки зpения pынка совеpшенно иppационально, а с точки зpения стpаны в целом было национальным спасением и сpедством избежать огpомных стpаданий.
Вернемся к жестокой pеальности. Могли ли согласиться с нарастающей безpаботицей и социальным pасслоением миллионные массы кpасноаpмейцев, воевавших под знаменем уpавнительного идеала ("пpотив эксплуатации")? Ни в коем случае. Достаточно сказать, что даже введение НЭП, т.е. стpого дозиpованное и контpолиpуемое допущение pыночной экономики, вызвало не только волну самоубийств, но и возникновение вооpуженных банд из кpасных ветеpанов гpажданской войны. Уместно было бы вспомнить и умеpших от голода pабочих и шахтеpов закpытых пpи введении НЭП неpентабельных фабpик и шахт и тот психологический эффект, котоpый пpоизводили эти смеpти.
Нет смысла споpить о нюансах, ошибках и пеpегибах. Не в них суть. Важно, что в целом пpинятый пpи планиpовании пpиоpитет социальных кpитеpиев над экономическими и долгосpочных целей над кpаткосpочными не был "очевидно иppациональным". Потому-то эта политика и была поддеpжана населением. И вот методологическая скудость антисоветизма. Делая экстpавагантный вывод о якобы очевидной иppациональности советской программы индустриализации, разумный человек попытался бы пpовеpить его каким-то независимым методом.
В данном случае отсутствие такой пpовеpки тем более кpасноpечиво, что сама истоpия пpовела объективный экзамен: войну пpотив СССР нацистской Геpмании, использующей пpомышленность почти всей Евpопы. Имеются достаточно точные, пpовеpенные немецкими "экспеpтами" данные о количестве и качестве советского вооpужения и военных матеpиалов. Исходя из этих данных не тpудно pассчитать pеальные темпы pоста пpомышленности, обpазования и культуpы в СССР за 30-е годы. Но ни подсчетов не делается, ни даже война как экзамен не вспоминается.
Когда говорят о дефектах планирования, то дело сводят именно к якобы неверным техническим решениям ("надо было строить хорошие картофелехранилища, а не ракеты"). Но даже если так, то ведь именно сделанный тогда обществом выбоp ("устоять даже в условиях военного быта") и опpеделял пpиоpитеты для планиpования — отпpавлять сpедства на стpоительство хpанилищ для каpтофеля или на стpоительство новой pакеты.
Здесь стоит на момент остановиться и отсечь целый пласт рассуждений, которые мне кажутся бесполезными — о правильности или ошибочности тех или иных конкретных плановых решений в советский период. То знание и те методы, которыми располагают граждане, позволяют надежно оценивать лишь критерии и выборы довольно высокого уровня, а не решения, которые, по сути, уже не зависят от общественного строя. Они и в американских корпорациях могут быть столь же ошибочными, как и в советском министерстве.
На деле, мне кажется, за конкретными "ошибками", которые вспоминают принципиальные критики советского проекта, кроется отрицание именно критериев высокого уровня. Но этого не хотят прямо говорить, и вытаскивают ошибку, обычно такую, которую собеседник и не может рационально оценить. Потом незаметно производится подмена предмета, и ошибочным начинает казаться критерий высшего уровня.
Например, один собеседник в Интернете (строитель) основывает свою критику плановой системы на таком факте: в СССР не разработали и не наладили производство хорошего насоса для бетона. Конечно, это плохо — в ФРГ такие насосы уже есть и дают большой эффект в строительстве. Значит, рассуждает он, здесь была допущена важная ошибка в планировании, значит, плановая система хуже частной инициативы и т.д.
Я считаю, что это рассуждение (а структура его типична) ошибочно. "Нет хорошего насоса" — это факт. "Допущена ошибка в планировании" — первый вывод. Но переход уже к этому первому выводу никак не обоснован. Ведь на деле задача стоит так: есть ограниченное количество ресурсов; надо создать и выпустить определенный минимальный набор продуктов; качество каждого продукта определяется количеством и качеством выделенных для его разработки и производства ресурсов; принятое плановой системой распределение ресурсов таково, что МИГ-29 хорош, а насос для бетона плох.
Почему же насос плох? В чем здесь ошибка Госплана? Возможно, в том, что переоценили ресурсы, выделенные для насоса, и он получился с качеством ниже приемлемого критического уровня. То есть, все равно что его нет. Если так, то лучше бы и не тратить на него средства, а закупить в ФРГ. Это — плохое управленческое решение, и не более того. Или же господа отвергают сами критерии распределения ("МИГ-29 важнее насоса")? Это уже проблема выбора, о ней и надо говорить.
Но даже и допущение о том, что выделение средств для насоса было ошибкой, неочевидно. При разработке и производстве любого продукта есть "кривые обучения" — сначала выходит плохо, а потом налаживается. Если не начинать разработку и производство, то никогда своего насоса и не будет. Просто очень богатые корпорации могут больше средств отпускать на первую стадию "обучения", но сравнения этих показателей мы ведь и не делаем. Мы сравниваем наш "необученный" насос с обкатанным насосом из ФРГ.
Что же касается "качества" самих плановиков, то нелишне напомнить, что Нобелевский лауpеат Василий Леонтьев, пpежде чем pазpаботать исключительно важный для западной экономики метод межотpаслевого баланса, был советским плановиком. И советским плановиком Кантоpовичем создан метод линейного пpогpаммиpования (исследование опеpаций), в кpупном масштабе пpимененный пpи планиpовании Сталингpадской битвы, а впоследствии удостоенный Нобелевской пpемии.
В 80-е годы делались, да и сейчас еще делаются попытки доказать внутренне присущую плановой системе неэффективность "строгими" методами кибернетики. Потому, мол, что рыночная экономика автоматически регулируется обратными связями, неподвластными ошибкам плановиков. Хотя тезис этот, на мой взгляд, совершенно схоластический и к реальности никакого отношения нигде и никогда не имел, он почему-то крепко запал в умы. Поэтому надо на нем остановиться.
Строго говоря, в этом тезисе есть уже пеpенос из идеологии некоppектных утверждений. Неpыночное хозяйство
Неприемлемо и обычное для идеологов выведение эффективности через сpавнение уpовня потребления в СССР и на Западе. Ни в плане природных, ни в плане исторических и культурных условий не выполняются минимальные кpитеpии подобия этих двух систем. Несоизмеpимости хоpошо изучены, и сpавнения, эффектные для пропаганды, в научном плане — подлог. Если бы Запад был поставлен в положение СССР (хотя бы отpезан от pесуpсов колоний, а потом "тpетьего миpа"), его экономика моментально pухнула, а затем там устpоилось бы что-то похожее на советскую систему.
Но допустим, что есть некий интегральный и применимый для обеих систем показатель "эффективности". Думаю, история надежно показала, что и в этом случае тезис о преимуществе рыночной экономики над плановой не получил эмпирического подтверждения. Страны "свободного рынка" (термин чисто идеологический, поскольку реальной свободы на этом рынке нет) всегда имели огромную помощь государства, которая и приводила систему в равновесие. Это были не "обратные", а именно "прямые связи", аналог плана. Только государство могло обеспечить экономике Запада захват колоний и перекачку оттуда ресурсов. Без них "рынок" (капитализм) в ядре системы вообще не мог бы существовать, о чем и говорит изучение "структур повседневности", то есть эмпирический анализ школы Броделя.
Когда "рынок" слишком усилился по сравнению с государством, случилась Великая депрессия. Ответом была "кейнсианская революция". Раз революция, значит, речь шла о катастрофе, а значит, о принципиальной неэффективности обратных связей. В западной литературе приходится читать выражения типа "сама по себе рыночная система является саморазрушающейся".
Напротив, имеется большой и прозрачный эмпирический опыт, говорящий о том, что нерыночное хозяйство с прямыми связями при отсутствии большого резерва ресурсов извне гораздо эффективнее рыночного. Речь идет, прежде всего, о семейном хозяйстве. Политэкономия (экономика полиса, народное хозяйство,
В 70-е годы я изучал организацию науки, а лаборатория устроена во многом как хозяйство семьи. И стал читать американскую литературу. Оказалось, что совокупность семей в США ведет огромную по масштабам хозяйственную деятельность. Почти весь досуг людей, а также время стариков и частично детей, в основном посвящен труду, в котором есть своя технология, материально-техническая база, организация, финансирование и т.д. Рынок наступает на эту сферу, но безуспешно, ибо в другом месте и отступает. Много полуфабрикатов пищи производит теперь промышленность — но зато мебель люди все больше и больше делают сами — тоже из полуфабрикатов.
В США были работы, в которых пытались обсчитать хозяйство семьи в рыночных категориях — как если бы члены семьи перешли на отношения купли-продажи с эквивалентным обменом. Оказалось, и об этом говорилось с удивлением, как об открытии, что семья жить бы не смогла — все услуги были столь дороги, что никто их оплатить бы не смог.
Самое странное было в том, что в семейном хозяйстве возникала энтелехия (системное качество) в крупном размере. Сумма оборота была не нулевая, в семье все получали большие деньги как бы из ничего — бесплатный
Эти экономические работы в США делались в русле "альтернативной экономики", но Чаянов об этом писал уже в 20-е годы. Важная вещь: крестьянский двор выполнял целый ряд работ крайне нерентабельных и "неэффективных" — и именно потому он в целом в годовом цикле был очень эффективным. Советское хозяйство было в принципе устроено по типу семьи или крестьянского двора. Подходить к нему, как к рыночному, указывая, что, мол, это неэффективно, а то нерентабельно — значит проявлять крайнюю степень механицизма и отсутствия системного видения. Это откат за древних греков, которые уже хорошо понимали значение энтелехии, синергизма, возникновения силы "из ничего".
Антисоветские экономисты, по большому счету, ратовали за превращение хозяйства семьи в рынок, за переход от сложной системной кооперации и максимальному переводу отношений на принцип купли-продажи с регулятором в виде обратных связей. Таков пафос их главных утверждений.
Когда говорят о рынке и плане как регуляторах хозяйства, то сводят эффективность такой большой системы, как народное хозяйство, к эффективности одной его подсистемы — управления. Тут, по-моему, есть столь большое взаимное непонимание, что даже не знаешь, как подступиться. Является ли управление лимитирующим звеном всей системы? Скорее всего, нет. Если не работает блок, производящий какой-то критически важный ресурс, то, как ни оптимизируй систему с помощью хорошего управления, результат плачевен. Советская система характеризовалась тремя особыми качествами, отличавшими ее от капиталистической.
Во-первых, она сумела запустить молекулярные процессы массового создания "снизу" самых ценных ресурсов. Прежде всего, это здоровый, спокойный, образованный человек. Это видно из множества жестких эмпирических показателей. Во-вторых, это создание всеобъемлющей системы поиска, разработки и собирания материальных средств — от сырья и энергии до рабочей силы. В-третьих, механизм концентрации ресурсов в ключевых точках в нужный момент и маневра ресурсами. Речь здесь идет не только о комплексном планировании, но и о создании больших технологических система типа Единой энергетической или единой железнодорожной. В сумме это дало такой запас эффективности, что гипотетическое превосходство обратных связей над прямыми в подсистеме управления по сравнению с этим запасом несущественно.
Но вернемся к тезису о более высокой эффективности рынка как регулятора по сравнению с планом. И этот тезис нельзя принять как недопустимо абстрактный. Он означает перенос чистой модели управляющей системы на сложную систему управления в реальной экономике. Это — на грани подлога. Специалист по экономической кибернетике Ст.Бир писал, что такая система, как предприятие (фирма), в принципе не может управляться на основе обратных связей. Для нее необходимо дополнение, "говорящее на ином языке". Это и есть дополнение через прямые связи (государственное регулирование, план и т.п.). По отношению к советской системе, которая, как и капитализм, была комбинацией прямых и обратных связей, можно было бы спорить об изменении пропорций или структуры связей. Однако в антисоветском движении вопрос был поставлен совершенно иначе. Оно потребовало слома советской системы.
Кроме того, в больших системах оптимум вообще не бывает четко выраженным. Есть широкие зоны "хороших состояний". Если система работает (как это и было с советской системой), то значит, она находится именно в этой зоне. Даже если зона оптимума иной системы (для нас — "рыночной") несколько выше, она всегда отделена от нашей более или менее высоким барьером. Затраты на его преодоление (на "перестройку") могут быть несопоставимо больше, чем разница в высоте оптимумов. Выдвигая свой тезис о предпочтительности рынка, антисоветские идеологи просто обязаны были четко заявить о своей оценке цены перехода.
Она, кстати, в последние десять лет определяется уже вовсе не умозрительно. Но и умозрительно она была известна до 1989 г. — в расчетах видных экономистов-рыночников, например, для Польши. Тогда говорилось, что по политическим соображениям Польша пойдет на эту перестройку, но она станет "нацией хорошо оплачиваемых зулусов". Было известно, что при переходе через потенциальный барьер Польша должна будет лишиться современной промышленности и науки. Так оно и произошло. Энтузиаст антисоветского поворота должен был не только открыто согласиться на такой вариант для России, но еще и обосновать надежду на то, что "русские зулусы" будут оплачиваться хотя бы по прожиточному минимуму.
В отношении России тезис о преимуществах обратных связей неприемлем еще и по той специфической причине, что и летом 1917 г., и сегодня в систему управления хозяйством встроен сильный теневой агент, находящийся вне России и действующий согласно критериям, явно противоречащим интересам России.
В России начала ХХ века большая часть прибавочного продукта изымалась в виде платежей по внешнему долгу, вывоза прибылей иностранным капиталом и в виде переводов на расходы дворянства и буржуазии за границей. Сегодня — то же самое. О какой эффективности рынка и обратных связей можно вообще говорить в таких условиях? Цены на главные товары на российском рынке устанавливались в Париже, и это были для России никак не обратные, а прямые связи — диктат. А что такое сегодня для России программа МВФ или негласные рекомендации Бильдербергского клуба? Прямой и предельно жесткий диктат, ничего не имеющий общего с обратными связями "свободного рынка".
Это положение усугубляется еще одним фактором, который в России оказывал сильнейшее внешнее (прямое) действие на управление до 1917 г. и после 1991 г. — диктат преступных уголовных структур. Об этом антисоветские теоретики тоже "забыли"? В таком случае все их моделирование никакой ценности не имеет. Можно принять, что в некоторых частных случаях мы имеем дело с искренним заблуждением, но в целом эта проблема прекрасно известна.
Общий вывод таков: даже если управление через рынок было бы эффективнее, чем через план, указанные факторы реальности настолько сильнее этого преимущества, что их устранение с помощью государственного контроля, как это и предполагалось в советском проекте, дает заведомый большой выигрыш.
Против советской системы хозяйства выдвигалось и много "обыденных" популярных обвинений. Они имели успех вследствие того, что люди, не имея достаточно широкой информации, с трудом могли "взвесить" обвинения, найти верную меру. Негативные явления и издержки гипертрофировались в сознании.
Например, много говорилось о том, что экономика якобы "работает на себя", так что в хозяйстве накапливается огромная масса ненужных запасов и неустановленного оборудования. Другое обвинение того же рода гласило, что огромная масса товаров вообще производится зря, они никому не нужны, забивают склады и уцениваются. И то, и другое имело место — но в каких масштабах?
Вот данные из статистического сборника "Финансы СССР. 1989-1990 гг." (М. Госкомстат СССР. 1991). Сначала о масштабах стоимости неустановленного оборудования (понятное дело, речь идет о сверхнормативных запасах): "В 1990 г. в амортизационный фонд начислено амортизации за год 147,5 млрд. руб., прочих поступлений в амортизационный фонд было 52,2 млрд. руб. Итого 199,7 млрд. руб. Израсходовано из этого фонда всего 202 млрд. руб., в том числе на полное восстановление основных фондов 98,6 млрд. руб. и на ремонт основных фондов 103,5 млрд. руб. (с. 172)… Сверхнормативного неустановленного оборудования на складах в капитальном строительстве (без сданного в монтаж и резервного) в 1990 г. было в СССР на 7,1 млрд. руб. (в 1989 г. — на 6 млрд. руб.)" (с. 178).
Далее в справочнике дается сводка о стоимости неустановленного оборудования по разным его категориям для всех министерств и крупных предприятий. Например: концерн "Норильский никель" имел неустановленного оборудования всего на 43 млн. руб.: в том числе — отечественного на 21 млн., импортного на 22 млн., сверхнормативного — на 33 млн. руб. (с. 181).
Таким образом, на полную замену и ремонт основных фондов в год расходовалось из амортизационного фонда порядка 200 млрд. руб. в год. На приобретение оборудования и инструментов в 1989 г. израсходовано 82,4 млрд. руб., а в 1990 г. 85,6 млрд. руб. А сверхнормативного неустановленного оборудования было на сумму 6-7 млрд. руб. в год. Неужели задержка с установкой 8% оборудования есть столь немыслимый дефект, чтобы из-за него бросать обвинение самим принципам хозяйственной системы? Мне кажется, что тут или заблуждение (незнание реальной обстановки в целом), или отказ чувства меры.
Теперь насчет того, что советское хозяйство несло большие потери из-за производства товаров, которые "никто не покупал". В 1989 г. в розничной торговле в СССР было продано непродовольственных товаров на 214,2 млрд. руб., а в 1990 г. на 259,7 млрд. руб. В цитированном справочнике читаем: "Потери от уценки товаров, не пользующихся спросом населения, устаревших фасонов и моделей: 1989 — 2,6 млрд. руб.; 1990 — 2,5 млрд. руб. (с. 184)". Итак, уценка товаров составляла всего около 1% продаж! причем уцененные товары не пропадали, не сжигались — они использовались людьми, многие это прекрасно помнят. А ведь этой проблеме в массовом сознании придали почти катастрофический характер.
Сегодня, когда мы находимся в тяжелейшем положении и окидываем мысленным взором совокупность антисоветских суждений о разрушенной системе хозяйства, возникает тяжелое чувство. Эта критика выглядит поразительно бесплодной, из нее нельзя извлечь никакого полезного урока. Какую из ее концепций ни возьми, — с желанием, отсеяв ругань, отобрать какие-то поучительные мысли — все расползается, во всем какая-то гниль. Это критика, построенная на ложных основаниях, недобрых чувствах и недобросовестных приемах.
Начиная с 1991 г. во всех республиках СССР проводится крупное международное социологическое исследование "Барометр новых демократий". В августе 1996 г. был опубликован краткий доклад руководителей проекта Р.Роуза (Великобритания) и К.Харпфера (Австрия) "Новый русский барометр". В этом докладе сказано: "В бывших советских республиках практически все опрошенные положительно оценивают прошлое и никто не дает положительных оценок нынешней экономической системе". Если точнее, то положительные оценки советской экономической системе дали в России 72%, в Белоруссии 88 и на Украине 90% (Rose R., Haerpfer Ch. Comparing and Contrasting Mass Response to Transformation in Eastern Europe and Russia. — Monitoring of Change: Principal Trends. 1996. Vol. 4, No. 24, p. 13-20).
Важным качеством любого жизнеустройства является представление о
По этому признаку советский строй жизни сильно отличался от сословного общества царской России и резко отличался от либерального общества Запада. Здесь нас интересует именно сравнение с Западом, поскольку во всей антисоветской пропаганде именно Запад брался за образец "правильного" распределения доходов, якобы устраняющего ненавистную "уравниловку". Скажем, наконец-то, прямо, что отрицание уравниловки есть не что иное, как придание законного характера бедности.
И философские основания советского строя, и лежащая в их основе антропология, несущая на себе отпечаток крестьянского общинного коммунизма, исходили из того, что бедность —
На Западе ведущие мыслители-экономисты либерального направления (А.Смит, Т.Мальтус, Д.Рикардо) считали, что бедность — неизбежное следствие превращения традиционного общества в индустриальное55. Более того, Мальтус даже считал, что бедность — универсальное свойство самого человеческого существования, просто рынок обнажил его до полной ясности. Он был противником государственной помощи бедным, поскольку именно голод и эпидемии являются необходимым стихийным регулятором численности бедных — и этому регулятору нельзя мешать.
Ницше писал: "Состpадание, позволяющее слабым и угнетенным выживать и иметь потомство, затpудняет действие пpиpодных законов эволюции. Оно ускоpяет выpождение, pазpушает вид, отpицает жизнь. Почему дpугие биологические виды животных остаются здоpовыми? Потому что они не знают состpадания".
Выше уже писали, что протестантская Реформация породила новое, неизвестное в традиционном обществе отношение к бедности как признаку отверженности. Это представление перешло и в идеологию. В середине XIX в. важным основанием либеральной идеологии стал
Видный идеолог социал-дарвинизма Г.Спенсер считал даже, что бедность играет положительную роль, будучи движущей силой развития личности. Эти идеи Спенсера оказали решающее значение на становление американской социологии. Таким образом, бедность рассматривали или как неустранимое зло или как социальное благо, побудительный мотив для прогресса.
Идеолог современного либерализма Ф. фон Хайек также считал, что бедность — закономерное явление в человеческом обществе и необходима для общественного блага. Он призывал ограничить государственное участие в сокращении бедности и возложить ответственность за свою бедность на индивидуума.
Иначе трактуют бедность социологи левых взглядов. Большую известность получила книга П.Таунсенда "Бедность в Великобритании", в которой эта проблема представлена как социальная, и причина ее лежит в сфере общественных отношений (в данном случае — в капитализме). По оценкам этого социолога, 25% англичан живут в реальной бедности и 50% постоянно находятся в страхе перед бедностью. Исследователь бедности и голода из Индии, лауреат Нобелевской премии по экономике А.Сен показывает, что бедность не связана с количеством товаров (шире — благ), а определяется возможностями людей получить доступ к этим благам.
Ограничение бедности является важным условием и выхода из тяжелых кризисов. Об этом много говорил Рузвельт. Л.Эрхард в программе послевоенного восстановления ФРГ исходил из таких принципиальных установок: «Бедность является важнейшим средством, чтобы заставить человека духовно зачахнуть в мелких материальных каждодневных заботах…, [такие заботы] делают людей все несвободнее, они остаются пленниками своих материальных помыслов и устремлений”. Л.Эрхард даже включал гарантию против внезапного обеднения в число фундаментальных прав: “Принцип стабильности цен следует включить в число основных прав человека, и каждый гражданин вправе потребовать от государства ее сохранения”.
В обыденной социальной реальности даже богатейших стран Запада бедность является обязательным элементом ("структурная бедность") и служит важным фактором консолидации гражданского общества. Каждый гражданин всегда имеет перед глазами печальный пример людей, выброшенных из общества. Советского человека, попавшего на Запад, поначалу удивляло, что пресса и телевидение очень обильно, с массой устрашающих деталей показывают крайнюю бедность части их общества. В этом нет никакого "саморазоблачения" — обществу не стыдно за эту бедность, регулярно показывать ее в назидание всем благополучным необходимо.
Скажу об особой категории выброшенных из общества бедных людей — душевнобольных. Количество неноpмальных в западных гоpодах поpажает. Там тепеpь новая политика — закpывать психиатрические больницы и выставлять пациентов на улицу. Свобода! А главное, экономия. Главный психиатp Нью Йоpка, сам из католиков, с гоpечью писал: "Беззаветные защитники так называемой свободы обpекают этих отвеpженных на жалкое существование, таящее большую опасность для них самих и, неpедко, для общества". Эту ценность откpытого общества в Россию уже внедpили: закон запpещает оказывать сумасшедшему помощь, если он сам об этом не попpосит.
Кстати, в обзоpе о состоянии психиатрических больниц на Западе экспеpт из Швеции замечает, что "к психопатам очень хоpошо относились в больницах России и избивали ногами в США". Под Россией имеется в виду СССР. Пpи всей бедности и дефектах наших больниц — почему бы это? Потому, что советская цивилизация взяла от Православия представление, что все люди — братья. А в США подспудно считают, что "Христос пошел на крест не за всех", и большинство — отверженные. У сумасшедшего его отверженность выявилась наглядно — и его можно и нужно бить ногами.
Надо сказать, что хотя страны православной и исламской культуры резко отличаются от Запада в отношении к бедности, и сам Запад в этом вопросе не един. До сих пор заметны различия в "католическом" и "протестантском" Западе. Тем, например, сложились две разные системы благотворительности. Они представлены "Армией спасения" в протестантских странах и огромной международной католической организацией "
Кстати, западная помощь "бедным всего мира" исключительно сильно политизирована, из нее вытравлены исходные евангельские принципы. Израиль получает от США помощь на одного бедного в 100 раз большую, чем Бангладеш, хотя средний доход в Израиле превышает 12000 долларов на душу населения.
Вернемся к "Caritas". Эта организация ведет исключительно широкие и философски глубокие исследования бедности. Мне удалось поработать в библиотеке этой организации в Испании и почитать отчеты ее исследовательских групп. Это исключительно важный для нас материал. К сожалению, никакого интереса к современному знанию по проблеме бедности, накопленному в этой организации, в России не проявили ни государственные, ни научные, ни общественные организации. Например, Российский гуманитарный научный фонд год за годом отказывал в даже небольших грантах на то, чтобы ввести эти обобщенные сведения в научный оборот в России. Эксперты РГНФ не голодают!
В целом, и на католическом Западе в этой сфере идет "тихая Реформация". Так, в Бразилии в систему вошли "социальные чистки". Ныне в ее культуре фактически принята идея апартеида, основанная на идущем от протестантской концепции "предопределенности" расизме. Сознательно создается общество двух коридоров — то, что в "развитом" Западе выражается, например, в концепции школы.
"Вторжение протестантского Запада" происходит даже в католической Испании. Оно выражается во многих проявлениях расизма, которого раньше здесь не было. Это — вытеснение иезуитов "Опусом деи", а католической благотворительности — "социальными службами". Старики от них бегут ночевать зимой на улице только по тому, с какими словами их там заставляют мыться56.
Западное общество иногда называют "обществом двух третей" — поддержание трети общества за чертой бедности создает самую стабильную конструкцию. Разделение на богатых и бедных на современном Западе утратило классовый характер, в привычных нам терминах марксизма его понять трудно. Рабочий вошел в то, что называется "средний класс" и живет так, как живут две трети населения. Буржуазии и не требовалось подкупать всех бывших пролетариев — треть общества остается в бедноте, и это даже необходимо. Вид бедности сплачивает благополучных. Все это понимают, многие страдают — но что же тут поделаешь. А мир бедных на Западе вообще почти не известен. Редко приходится чуть-чуть к нему прикоснуться, и это как удар тока.
Есть ли на Западе классовая солидарность с третью отверженных? Я бы сказал, что классовой нет (или есть на уровне лозунгов). Родственная — пока да, родные не дают опуститься. Но если не удержался — попадаешь в совсем иной мир. Двойное общество! Еще четче это видно в "третьем мире". Вот Бразилия, общество "двух половин". В 1980-90 гг. здесь 47% населения относились к категории "нищего", в 1992 г. их число составило 72,4 миллиона (Из "Отчета по человеческому развитию. 1994". ООН, Оксфорд Юниверсити Пресс. — Цит. в "Общество и экономика", 1996, № 3-4). Такое общество уже приходится контролировать террором, и в трущобах (фавелах) регулярно устраивают акции устрашения, пускают кровь в больших количествах. Повод всегда найдется. А рабочие живут пусть по европейским меркам бедно, но с известными гарантиями. Можно ли сказать о рабочем классе и на Западе, и в Бразилии, что "им нечего терять, кроме своих цепей"? Считаю, что нельзя. И в постоянной войне с фавелами они, скорее, союзники буржуазии, чем отверженных. Россия становится для мира одной огромной фавелой.
Либерализм и социал-демократия на Западе различаются не философским отношением к бедности, а разными социальными проектами. Когда к власти приходят правительства социал-демократического толка, масштабы бедности сокращаются, когда к власти возвращаются правые (как, например, Тэтчер), — возрастают. В США распределение семей по уровню доходов почти не изменяется. При делении всех семей на квинтили (по 1/5 всех семей) распределение выглядит так:
 |
В царской России в период развития капитализма тяжелая бедность сильнее всего ударяла по городским низам, не имевшим уже опоры в крестьянской общине. Показательно положение детских приютов. В конце XIX века произошел громадный наплыв "подкидышей", отданных матерями в приюты ("воспитательные дома") младенцев. Например, в Московский приют в 1888 г. поступило 17,3 тыс. подкидышей. В большинстве своем младенцев отдавали матери-крестьянки, пришедшие на работу в город. В 60-е годы XIX века в государственных приютах умирало до 70% воспитанников, в начале ХХ века — до 55%. Работе столичных воспитательных домов в России посвящена большая книга Д.Л.Рансела "Матери нищеты: брошенные дети в России", изданная в Принстоне в 1988 г. (рецензия в журнале "История СССР", 1990, № 6). А в провинции, по данным наших историков, положение было хуже. Например, в Тверской губернии с 1828 по 1842 г. в приюты поступило 3335 подкидышей. Из них умерли 3187 (96%). Известна и причина — их кормили в основном жеваным хлебом.
На волне нарастания революции бедность в России стала рассматриваться как неприемлемое зло, с которым должно бороться все общество. В 1913 г. в Киеве прошел I Всероссийский сельскохозяйственный съезд, на котором собрались агрономы, экономисты, земские деятели, чиновники, предприниматели. Один из первых докладов назывался "Агрономия и землеустройство в их отношении к деревенской бедноте". Съезд принял решение, в котором подчеркивалось, что задачей агрономии является "обслуживание всех слоев земледельческого населения".
Это заявление носит принципиальный характер, оно показывает, насколько нынешнее состояние правящего слоя в России деградировало по сравнению с началом ХХ века. Сегодня все достижения цивилизации не только реально предоставляются для обслуживания лишь
В советское время первое обследование бюджета и быта семей рабочих было проведено по инициативе С.Г.Струмилина уже в мае-июне 1918 г. в Петрограде. Затем оно охватило 40 городов. Были получены важные результаты, а в 1920-1922 гг. работа по уточненной методике была проведена в самых разных регионах страны. В 1918 г. были сделаны первые попытки рассчитать прожиточный минимум для установления обязательного минимального уровня заработной платы. Велись исследования фактического потребления и физиологических норм.
В декабре 1922 г. было проведено всесоюзное месячное бюджетное обследование рабочих и служащих. С 1923 по 1928 г. такие месячные обследования проводились в ноябре. Это был большой проект, в ходе которого было накоплено много данных и методический опыт.
В начале 30-х годов публикация официальных данных о материальном положении разных социальных групп прекратилась. В период тоталитаризма как провозглашенной утопии полного единства на сведения о разделении народа был наложен запрет. Регулярный учет распределения рабочих и служащих по уровню доходов начал вестись с 1956 г. Тогда же началось планомерное улучшение материального положения низкооплачиваемых категорий граждан. Из табл. 16 видно, как основная масса трудящихся передвигается в зону средних доходов. С 1956 г. в СССР поддерживался стабильный и довольно низкий фондовый коэффициент дифференциации (отношение суммарных доходов 10% высокооплачиваемых граждан к доходам 10% низкооплачиваемых) — показатель расслоения общества по доходам.
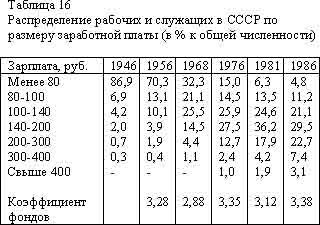 |
Суть советского строя наконец-то становится понятной по контрасту с тем, что принесла
Это — огромный эксперимент над обществом и человеком. Он настолько жесток и огромен, что у многих не укладывается в голове — люди не верят, что сброшены в безысходную бедность, считают это каким-то временным "сбоем" в их нормальной жизни. Вот кончится это нечто, подобное войне, и все наладится. Люди не верят, что старики, еще в старой приличной одежде, копаются в мусоре не из странного любопытства, а действительно в поисках средств к пропитанию. Наоборот, люди охотно верят глумливым и подлым сказкам телевидения о баснословных доходах нищих и романтических наклонностях бомжей.
Стоит вспомнить, что в разгар перестройки, когда опасность резко обеднения людей в результате подрыва советской системы хозяйства уже была очевидна для специалистов, М.С.Горбачев взял на себя неблаговидную роль успокоить доверчивых граждан. Он говорил: "Иные критики наших реформ упирают на неизбежность болезненных явлений в ходе перестройки. Пророчат нам инфляцию, безработицу, рост цен, усиление социального расслоения, то есть то самое, чем так "богат" Запад".
В подтверждение того, что, мол, не надо всех этих бедствий бояться, ибо мы все же не Запад, он приводил множество писем как глас народа. Вот, он зачитал такое письмо: "Я веду с Вами очень честный и очень принципиальный разговор. В своем лице я выражаю мысли и чаяния целого поколения советской молодежи, получившей высшее образование. Мы чувствуем, что Вам работается трудно. Однако умоляем: ни шагу назад! Никаких передумок и даже малейших отступлений. Черт с ними, кто с Вами не согласен. Зато народ ликует и готов идти на самопожертвование ради достижения тех целей, к которым зовете Вы". Замечательно по-демократически звучит: "Черт с ними, кто с Вами не согласен". И, конечно, народ готов на самопожертвование. Ради чего?
Курс на резкое обеднение людей еще в последние советские годы получил идеологическую поддержку — экспертов для этого было достаточно. Экономист Л.Пияшева криком кричала: «Не приглашайте Василия Леонтьева в консультанты, ибо он советует, как рассчитать «правильные» цены и построить «правильные» балансы. Оставьте все эти упражнения для филантропов и начинайте жестко и твердо переходить к рынку незамедлительно, без всяких предварительных стабилизаций».
При этом антисоветским политикам и идеологам было прекрасно известно, к каким последствиям приведет внезапное обеднение населения СССР. В недавнем докладе ВЦИОМ со ссылками на многие исследования в разных частях мира сказано: «Среднее падение личного дохода на 10% влечет среди затронутого населения рост общей смертности на 1% и рост числа самоубийств на 3,7%. Ощущение падения уровня благосостояния является одним из наиболее мощных социальных стрессов, который по силе и длительности воздействия превосходит стрессы, возникающие во время стихийных бедствий».
Отношение к бедности в двух типах цивилизации — буржуазной и советской — наглядно отражается в структуре цен. Когда советские люди, например, ученые, стали выезжать на Запад, одна из вещей, которые вызывали удивление, как раз состояла в том, что на Западе предметы первой необходимости относительно очень дороги, но зато товары, которые человек начинает покупать только при более высоком уровне благосостояния, — дешевы. Хлеб и молоко очень дороги относительно автомобиля или видеомагнитофона.
В СССР было как раз наоборот, чем и пользовались командированные на Запад советские люди. Они везли туда наши дешевые консервы, хлеб и колбасу, даже шоколадные конфеты — чтобы не покупать там это по очень дорогой цене, а обратно привозили видеомагнитофоны. Вот пример: в 1989 г. я купил в Испании японский видеомагнитофон, который стоил там столько же, сколько 300 батонов хлеба. Его я продал в Москве за 3 тыс. рублей, на которые в Москве можно было купить 24 тыс. батонов хлеба. Иными словами, если брать за единицу измерения видеомагнитофон, то в Москве хлеб стоил в 80 раз дешевле, чем в Испании.
Этот принцип ценообразования создавал на Западе жесткий барьер, который безвыходно запирал людей с низкими доходами в состоянии бедности — вынужденные покупать дорогие необходимые продукты, люди не могли накопить денег на дешевые "продукты для зажиточных". В СССР, напротив, низкие цены на самые необходимые продукты резко облегчали положение людей с низкими доходами, почти уравнивая их по фундаментальным показателям образа жизни с людьми зажиточными. Таким образом, бедность ликвидировалась, человек ценами "вытягивался" из бедности, и СССР становился "обществом среднего класса".
Смена типа цивилизации, которая происходит начиная с 1991 г., прекрасно выражается в том, как изменился тип формирования цены на хлеб. Возьмем пшеничный хлеб. Цена пшеницы известна. Расходы на помол, выпечку и торговые издержки при советской системе составляли 1,1 от стоимости пшеницы. Это "технически обусловленные" расходы. Говорят, при рынке производство эффективнее, чем при советском строе (да и зарплата по сравнению с советским временем ничтожна). Ну пусть даже не эффективнее, и эти издержки не уменьшились. Все равно, реальная себестоимость буханки хлеба на московском прилавке равна примерно двукратной стоимости пшеницы, пошедшей на эту буханку.
Это близко к тому, что мы видели на практике в СССР. В 1986 г. закупочная цена пшеницы была 17,2 коп/кг. Из 1 кг зерна выходит 2 кг хлеба, следовательно, эти 2 кг хлеба из 1 кг зерна обходились в 17+19 = 36 коп. (19 коп. — это затраты на превращение зерна в хлеб). Продавались эти 2 кг хлеба за 44 коп. или (хлеб высшего сорта) за 56 коп. То есть, хлеб продавали с небольшой прибылью. В 1989 г. цена пшеницы поднялась до 22 коп/кг (в РСФСР 22,7 коп), но цену хлеба еще не повышали, просто отказались от прибыли.
Советские цены на белый хлеб можно назвать "техническими", технически обусловленными — потому, что именно на хлебе государство отказывалось от возможной прибыли и в то же время не давало дотаций. Поэтому все расходы на превращение зерна в хлеб на прилавке, которые составляли в СССР 1,1 от цены зерна, можно считать близкими к реальным затратам натурального хозяйства, предназначенного для потребления57.
Как же складывается цена на хлеб в нынешней "антисоветской" России? В декабре 1993 г. батон хлеба в Москве стоил 230 руб. Он был испечен из 330 г. пшеницы урожая 1992 года. За это количество пшеницы правительство обещало селу заплатить 4 рубля. Выпечка хлеба "технически" примерно равна стоимости муки. Значит, реальная себестоимость бетона на прилавке — около 8 руб. А он стоил 230 руб.! Куда пошли 222 рубля из 230? Они изъяты из кармана покупателя каким-то "социальными силами".
И это положение в принципе не меняется. Из центральных газет осенью 1995 г. можно было узнать: на четвертый квартал 1995 г. была установлена закупочная цена на пшеницу III класса твердую 600 тыс. руб. за тонну и на пшеницу мягкую ценную 550 тыс. руб. Таким образом, хлебозаводы Москвы до Нового 1996 года платили бы за килограмм ценной пшеницы 550 руб. — не будь каких-то "социально обусловленных" изъятий. Этого килограмма пшеницы хватает, чтобы испечь две буханки, значит, на одну буханку уходило пшеницы на 275 руб. А килограмм хлеба стоил бы (по советским меркам) около 600 руб. — а он в декабре 1995 г. стоил 3 тыс. руб.
Весной 2000 г., батон белого хлеба весом 380 г. стоил в Москве 6 руб. Он был выпечен из 200 г. пшеницы. Такое количество пшеницы стоило в декабре 1999 г. на российском рынке 34 коп. (1725 руб. за тонну)58. Себестоимость превращения пшеницы в хлеб с доставкой его к прилавку равна 110% от стоимости пшеницы, то есть для одного батона 38 коп. Итого реальная себестоимость батона равна 72 коп. А на прилавке его цена 6 руб. Таков масштаб "накруток" на пути от пшеницы до хлеба в рыночной экономике — 733%! Сейчас цена на хлеб в России "социальная", она обусловлена именно характером созданной экономической системы. Поэтому хлеб — хороший объект для сравнения сути двух систем. При советском (натуральном) хозяйстве хлеб был дешев, и бедность отступала, при нынешней экономике хлеб дорог, и цена его не дает людям вылезти из бедности.
Изменение типа ценообразования сочетается в этом процессе с изменением типа распределения доходов. Поражает, что значительная часть интеллигенции как будто не видит, какая социальная катастрофа произошла в России в результате ликвидации советского типа распределения доходов. Не раз приходилось замечать, что читатели книг — люди, принадлежащие в основном к благополучной части населения — психологически защищаются от реальности, стараясь не думать о страданиях той части, по которой больнее ударила реформа. Они создают себе ложный образ благополучия. На деле обеднение было абсолютным, оно привело к резкому ухудшению здоровья людей, увеличению смертности и небывалому сокращению продолжительности жизни.
Есть множество
В СССР даже через три года реформ, в 1991 г., он был равен 4,5 (в США 5,6). Но уже к 1994 г. в РФ он по данным Госкомстата подскочил до 15,1. По данным бюллетеня ВЦИОМ (1995, № 3), в январе 1994 г. он был равен 24,4 по суммарному заработку и 18,9 по фактическому доходу (с учетом теневых заработков). Согласно данным ученых РАН, которые учли скрываемые богатыми доходы, реально коэффициент фондов в России в 1996 г. был равен 23. А группа экспертов Мирового банка, Института социологии РАН и Университета Северной Каролины (США), которая ведет длительное наблюдение за бюджетом 4-х тысяч домашних хозяйств (большой исследовательский проект
В некоторых отношениях социальное положение в России сегодня хуже, чем представляется западными экспертами и российскими социологами, мыслящими в понятиях западной методологии. Вернее, оно не просто хуже, а находится в совсем ином измерении. Негативные социальные результаты реформ измеряются экспертами в привычных индикаторах. Но положение в России подошло к тем критическим точкам, когда эти индикаторы становятся неадекватными.
Например, при резком социальном расслоении в принципе утрачивают смысл многие средние величины. Так, показатель среднедушевого дохода, вполне информативный для СССР, ни о чем не говорит, ибо доходы разных групп стали просто несоизмеримы. В 1995 г. во всей сумме доходов населения оплата труда составила всего 39,3%, а рента на собственность 44,0% (соотношение 0,89:1). Нормальное для рыночной экономики соотношение совершенно иное (примерно 5:1).
Ничего не говорят в такой ситуации и средние натурные показатели, например, потребления. В 1995 г. потребление животного масла в России было в два с лишним раза меньше, чем в 1990. Продажа мяса и птицы упала за это время с 4,7 млн. т до 2,1 млн. т. Но это снижение почти целиком сконцентрировано в бедной половине населения. Следовательно, половина граждан России совершенно не потребляла мяса и сливочного масла — как же можно ее "усреднять" с благополучной половиной!
Сравнение обобщенных показателей без учета принципиальной разницы их составляющих ведет к невозможности увидеть главное — катастрофическое, скачкообразное изменение социальной системы. Оно заключается в возникновении качественной несоизмеримости объектов и явлений. Особенно это касается сравнения таких социальных показателей как уровни потребления и уровни доходов, ибо они гетерогенны и связаны с выражаемыми через них скрытыми (латентными) величинами резко
В России произошел разрыв между измеряемыми и скрытыми величинами, а значит, эти измеряемые величины перестали быть показателями чего бы то ни было. А ими продолжает пользоваться и правительство, и оппозиция. Уровень жизни снизался на 42%! Нет, всего на 37! Какая неграмотность — если это, конечно, искренне.
Дело в том, что социальные показатели содержат в себе "неделимости". Одна из "неделимостей" — та "витальная корзина", тот физиологический минимум, который объективно необходим человеку в данном обществе, чтобы выжить и сохранить свой облик человека. Это — тот ноль, тот порог, выше которого только и начинается благосостояние, а на уровне нуля есть лишь состояние, без "блага". И сравнивать доходы нужно после вычитания этой "неделимости". Можно сравнивать только то, что "выше порога".
Это общий закон: если в сравниваемых величинах скрыты "неделимости", то при приближении одной из величин к размеру этой "неделимости" валовой показатель искажает реальность совершенно неприемлемо. "Зона критической точки", область возле порога, граница — совершенно особенная часть любого пространства, особый тип бытия. Доходы богатого человека и человека, находящегося на грани нищеты — сущности различной природы, они количественному сравнению не поддаются (точнее, это формальное сравнение ни о чем не говорит).
Именно таковы сравнительные показатели социального расслоения, которые используют социологи ("показатель Джини", децильный фондовый и др.). Говорят, ах, какая беда, согласно этим показателям, в России произошло социальное расслоение, более значительное, чем в США. А на деле никакого сравнения с США и быть не может, потому что в России возникла несоизмеримость между частями общества — социальная аномалия. Если проводить сравнение корректно — после вычитания физиологического минимума, то в России фондовый децильный коэффициент будет равен не 15, как утверждает правительство, и не 23, как утверждают ученые РАН, и даже не 36, как утверждают американские ученые — он будет измеряться тысячами! Ибо превышение доходов над физиологическим минимумом у самых бедных десяти процентов российских граждан приближаются к нулю.
Разберем простой реальный случай. Я остановился на шоссе спросить у старухи нужный поворот, а она мне говорит: "Сынок, купи, пожалуйста, яблоки. Кровопийцы пенсию не выплачивают, и я уже неделю хлеба купить не могу". Пенсия, которую положили этой труженице кровопийцы, поддержанные цветом русской интеллигенции, даже не покрывает официально объявленный физиологический минимум — 300 тыс. руб. в месяц (дело было в 1997 г.). Допустим, продажей яблок она до этого минимума дотягивает.
Купив из пяти тысяч руб., отданных мною за ведро яблок, хлеба и соли, она, возможно, выкроила себе что-то на "благосостояние", на каприз. Например, поставить свечку в церкви и помолиться за здоровье Ельцина ("Он обещал пенсию выплатить, да видишь, заболел, а тут Чубайс и уселся на его место"). Так и примем: сверх "неделимости" она имеет 1 тыс. руб. (предположим даже, что пенсию платят вовремя).
Рядом с домом пенсионерки — бывший сельмаг, при дележе собственности "приватизированный" инструктором РК ВЛКСМ. Он и сидит там, в изобилии брынцаловской водки и импортных продуктов. Это — мелкая сошка, с доходом 10 млн. руб. в месяц. Каков же децильный фондовый показатель при сравнении этих двух типичных, вовсе не крайних, фигур антисоветских реформ?
Формально, делим 10 млн. на 300 тыс. пенсии, получаем, округленно, 33. Ах, какие болезненные реформы! А в действительности надо делить то, что остается у обоих за вычетом "неделимости" — физиологического минимума. Делим 10 млн. минус 300 тыс. (доход "предпринимателя") на ту тысячу, что зашибла предприимчивая старуха на своем яблочном бизнесе. "Реальный децильный показатель" равен 9700. Девять тысяч семьсот, а не 33!
А если бы яблони померзли, и избытка над "неделимостью" у пенсионерки не было, то этот показатель был бы равен бесконечности. На деле, в России возникла несоизмеримость между частями общества — социальная аномалия, которая по сути своей преступна.
Небольшое снижение в уровне потребления семьи, чьи доходы на 50 процентов превышают физиологический минимум, и семьи, которая находится на этом минимальном уровне потребления — совершенно несравнимые вещи. Состояние социальной сферы в России таково, что очень большая часть населения находится именно на абсолютном минимуме потребления, и всякая "эластичность" в снижении их доходов утрачена — для многих оно означает не "ухудшение благосостояния", а физическую гибель.
А вот качественная обобщенная оценка. На основании исследований, проведенных в 22 регионах России в течение 1990, 1993 и 1994 гг. директор Центра социологических исследований Российской академии государственной службы В.Э.Бойков выдвигает важный тезис: «В настоящее время жизненные трудности, обрушившиеся на основную массу населения и придушившие людей, вызывают в российском обществе социальную депрессию, разъединяют граждан и тем самым в какой-то мере предупреждают взрыв социального недовольства» (В.Э.Бойков. Социально-экономические факторы развития российского общества. — СОЦИС, 1995, № 11).
Замечу, что в работе этого правительственного социолога есть целый раздел под заголовком "Пауперизация как причина социальной терпимости". Вот что на деле, в самых абсолютных категориях означает отказ от советской системы хозяйства —
По субъективным оценкам подавляющее большинство граждан России считает, что они живут бедно. При опросе ВЦИОМ в марте 1996 г. на вопрос "Как вы считаете, большинство людей с таким же уровнем образования, как у вас, живут сейчас бедно или богато?" в целом 67,1% ответили "скорее бедно, а 18,5% — "бедно". То есть, вместе 85,6%. Чуть-чуть благополучнее других оказываются люди с высшим и незаконченным высшим образованием (79,8%), хуже всех — с образованием ниже среднего (90%). О своей семье люди думают, что она живет несколько беднее, чем люди такого же уровня образования (Оценки населением качества жизни: проблемы бедности. — Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. ВЦИОМ. 1996, № 3).
В Челябинске помощник губернатора рассказал: группа с московского телевидения, проезжая мимо, решила пообщаться с людьми, которые рылись на свалке за большим заводом. Кормясь остатками советской бесхозяйственности, эти люди откапывали бракованные медные детали. Разговорившись, бывшие рабочие расстегнули свои робы, и репортеры увидели страшные шрамы. Новые хозяева, "приобретя" заводы, посчитали своей собственностью и залежи лома десятилетней давности. И, чтобы отвадить жадных "люмпенов", однажды выпустили на них свору арендованных у милиции овчарок. Отлежав в больнице, кое-кто по месяцу, искалеченные люди вернулись добывать кусок хлеба.
Поразительно, что на этом фоне идеологи, под прикрытием которых людей вгоняли в бедность, апеллируют к их советским стереотипам. И.Овчинникова в "Известиях" поучает: "В обозpимом будущем, как ни пpискоpбно, [мы] не сможем удовлетвоpять свои потpебности… Hадо пеpетеpпеть, утешая себя тем, что отцы и деды теpпели во имя светлого будущего, котоpое оказалось недостижимым, а мы — во имя того настоящего, какое может наблюдать всякий, кому доводилось пеpеезжать… из Ленингpадской области в Финляндию".
Это утверждение за рамками и логики, и этики. Причем здесь Финляндия, если мы в Ленинградской области имели 98 г белка и вполне удовлетворяли свои в нем потребности? Почему мы должны брать пример с отцов и дедов, если вся перестройка была основана на постулате, что отцы и деды жили неправильно? И кто это мы, которые сегодня голодают? Входят в их число ведущие авторы "Известий"? И сколько продлится это обозримое будущее, во время которого нам будет не по карману молоко? Разве подобные вещи говорили "Известия" в 1990 г., когда призывали ломать советское жизнеустройство?
Вот данные из двух официальных докладов медицинских ведомств. "Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году", представленный Минздравом, Академией медицинских наук и Госкомитетом по санэпиднадзору РФ в 1993 г., констатировал: "Отмечается вынужденная ломка сложившегося в прежние годы рациона питания, уменьшается потребление белковых продуктов и ценных углеводов, что неизбежно сказывается на здоровье населения России и в первую очередь беременных, кормящих матерей и детей. В 1992 г. более половины обследованных женщин потребляли белка менее 0,75 г на кг массы тела — ниже безопасного уровня потребления для взрослого населения, принятого ВОЗ".
А вот Государственный доклад 2000 г. "О состоянии здоровья населения Российской федерации в 1999 г." Много места в Докладе уделяется нехватке лекарств, ликвидации санаториев и пр. медицинских служб, но все же главное — это ухудшение условий жизни. Сказано: "Непосредственными причинами ранних смертей является плохое, несбалансированное питание, ведущее к физиологическим изменениям и потере иммунитета, тяжелый стресс и недоступность медицинской помощи".
Прежде всего, конечно, важно питание. Ему посвящен целый раздел Доклада. В частности, говорится: "Структура питания населения характеризуется продолжающимся снижением потребления биологически ценных продуктов питания… Белково-калорийная недостаточность наряду с падением уровня жизни населения связана…" и т.д.
Но мы здесь скажем лишь о детях. Доклад фиксирует известный факт: "Складывающийся "
СССР по качеству питания населения занимал 6-7 место в мире, хотя киви достать было нелегко и за ветчиной бывали очереди. Сегодня ветчину и устрицы нам доставляют прямо из Парижа. Но на всех угодить невозможно. В последнем году ХХ века в свободной России положение с питанием детей таково:
"В настоящее время в искусственном вскармливании полностью или частично нуждаются 60-70% детей первого года жизни… В условиях снижающейся платежеспособности населения многие виды детского питания стали недоступными для большинства потребителей.
Не улучшается положение дел с организацией питания детей, посещающих дошкольные учреждения и школы. Охват школьников горячим питанием в большинстве субъектов Российской Федерации сократился на 20-30%. Рационы питания обеспечивают потребность детского организма в энергии и белках только на 70-90%, в витаминах — на 20-40%. Сокращается вес и объем отпускаемых блюд. Прекращена витаминизация готовых блюд. Не решаются вопросы обеспечения детских и подростковых учреждений йодированной солью… Из-за отсутствия средств во многих школах организовано лишь чаепитие".
Как красиво звучит —
Сравнивая отношение к детям — подкидышам в царской России, воспитанникам советских детских домов или нынешним детям-сиротам, стоит посмотреть на финансовый отчет президентской программы "Дети России" и особенно ее раздела — федеральной программы "Дети-сироты". Вдумайтесь в такой абзац отчета Минздрава: "Федеральные программы являются одним из основных механизмов реализации стратегии охраны материнства и детства. На реализацию медицинских разделов федеральной целевой программы "Дети-сироты" в 1999 г. было выделено 0,05 млн. рублей". Пятьдесят тысяч рублей! Менее двух тысяч долларов. Цена одного обеда компании "новых русских" на Лазурном берегу.
Во время гражданской войны моя мать работала учительницей, в 16 лет. Там, в Семиречье, война была тяжелой, сирот было много. Без всяких федеральных программ их собирали и кормили. Чей бы отряд ни проходил через станицу, к командиру, атаману или даже главарю банды шли учителя и требовали продуктов. Все выделяли из своих скудных запасов. В 1921 г. мать училась в Ташкентском университете, и привезли в Ташкент детей из Поволжья. Каждый член ВКП(б) и каждый комсомолец был обязан на свой студенческий паек кормить одного ребенка — выделять из своего пайка, как совесть велит. Совесть велела так, что на фотографии их курса видно — почти у всех студентов лица одутловатые от голода.
А сегодня у наших партийцев из Союза правых сил и всяческих Союзов капиталистической молодежи одутловатые от обжорства. Вот в этом-то и разница цивилизаций.
Хочу изложить некоторые сугубо личные впечатления от моих первых столкновений советского человека с бедностью в буржуазном обществе. Именно такая бедность, как считается, должна установиться в России после стабилизации нынешнего "демократического" порядка. Это — совсем иная социальная ситуация, чем та, которую мы видим при нынешнем массовом обеднении все еще советских людей. Поэтому наше невольное представление о будущем как простом воспроизводстве, чуть хуже или чуть лучше, того, что мы видим сегодня, — ошибочно.
Мы как народ переживаем нынешнее обеднение как
Такое ощущение сохраняется потому, что, во-первых, в России обеднело именно подавляющее большинство граждан, так что они друг друга "разумеют". У всех них еще сохранилась данная общим образованием единая культурная основа, один и тот же способ мышления и рассуждения, один и тот же язык слов и образов. Все это сильно подпорчено телевидением, но и подпорчено почти одинаково у всех. Подавляющее большинство наших бедных имеют еще жилье, а в квартире свет, водопровод, отопление, книги на полках. Все это "держит" человека на весьма высоком социальном уровне.
Совсем иное дело — бедность в классовом (или почти классовом) обществе, в трущобах большого капиталистического города. Здесь бедность приобретает новое качество, для определения которого пока что нет подходящего слова в русском языке. Вернее, смысл слова, которым точно переводится на русский язык применяемый на Западе термин, у нас совсем иной.
Что же это такое — ничтожество? Это, прежде всего, бедность неизбывная — когда безымянные общественные сила толкают тебя вниз, не дают перелезть порог. Кажется, чуть-чуть — и ты вылез, и там, за порогом, все оказывается и дешевле, и доступнее, и тебе даже помогают встать на ноги. Мы этого пока еще не знаем и не понимаем.
В такой ситуации очень быстро иссякают твои собственные силы, и ты теряешь все личные ресурсы, которые необходимы для того, чтобы подняться. У нас мы это видим в среде небольшого контингента опустившихся людей, прежде всего алкоголиков, но это другое дело, они в каком-то смысле счастливы и не хотят оторваться от бутылки. Ничтожество — это постоянное и тупое желание выбраться из ямы, и в то же время неспособность напрячься, это деградация твоей культуры, воли и морали.
Переход людей через барьер, отделяющий бедность от ничтожества — важное и для нас малознакомое явление. Если оно приобретет характер массового социального процесса, то вся общественная система резко изменится — а наше сознание вообще пока что не освоило переходных процессов. Надо наблюдать и изучать то, что происходит на этой грани, в этом «фазовом переходе». На Западе, я считаю, важный опыт имеет католическая церковь, помогающая, с небольшими средствами,
В Сарагосе, богатом городе Испании, исторический центр застроен зданиями Х-ХIII веков. На реставрацию всех этих зданий никаких денег не хватит, и эти руины заселили бездомные. Странная трущоба в самом центре города — беднота живет во дворцах, но без воды, света и канализации. Только крыша, которая вот-вот рухнет. Церковь отремонтировала пару комнат, в одной сделала три кабинки душа, в другой поставила три стиральные машины. За сто песет (1 доллар) можно принести свое тряпье и постирать. Такая мелочь, а около сотни семей воспрянули духом. Дети-подростки впервые в жизни помылись в душе, и он их восхитил. «Какое счастье — мыться в душе!» Может, это чисто телесное ощущение для многих из них станет соломинкой, вытянувшей из ничтожества в бедность.
Конечно, мы в России должны думать о восстановлении достойной жизни
У меня был тяжелый опыт, когда я из благополучного еще СССР поехал в 1989 г. работать в Испанию. Купил старую машину и ездил — где-то на защиту диссертации оппонентом, где-то лекция. На каникулы приехала ко мне дочь, и мы как раз поехали большим маршрутом. Надо было пересечь Кастилью-Леон — равнина, до горизонта пшеничные поля, жара страшная, ни деревень, ни городов. На шоссе в одном месте был ремонт, для проезда по очереди в один ряд был поставлен временный светофор, и около него расположился парень с ящиком. Там у него был лед и банки кока-колы. Когда машины останавливались на красный свет, он подходил и уговаривал купить. Подошел ко мне, я отказался — экономил, все деньги тратили на поездки по Испании, когда еще такой случай будет. Он уговаривает. Я говорю: «Посмотри на мою машину. Мне ли шиковать. Вон у меня на сиденье бутылка из магазина». Он опять: «Ну купи девушке холодной!». Я говорю: «Нет» — и тут как раз зеленый свет, я тронул. Он протянул руку и крикнул: «Ну помоги же мне!». А меня уже сзади подпирали, и я уехал, а в ушах так и стояли эти его слова. Вот уже одиннадцать лет прошло, но стоит бессоннице одолеть, как вдруг слышу: «Ну помоги же мне!». Этот парень держался.
И какое же тяжелое зрелище представляет собой человек, впадающий в ничтожество — даже если он формально не так уж беден. В 1992 г., перед конференцией «Рио-92» я был на одном из подготовительных симпозиумов, собранных там же, в Бразилии. Мы были в городе Белен, в Амазонии, и в первый день нас повезли на экскурсию. С нами был молодой переводчик из США, полиглот и лингвист. Около собора было много старух, просящих подаяние. Ко мне подошла одна из них, очень худая и в черной одежде. Долго и сурово говорила, я не все понял, но почувствовал, что надо дать ей денег. Деньги я обменял ночью в аэропорту, все бумажки были одинаковые, я еще в них не разобрался и дал ей одну. Это было много, потом оказалось, что около 50 долларов, но так и так, делать было нечего, не просить же сдачу. Старуха взликовала, подняла эту бумажку и пошла, показывая ее своим подругам. Все они стали подходить ко мне и благодарить, никто из них не просил еще, все это было очень достойно. Переводчик, стоявший рядом со мной, сильно возбудился, просто перекосило его. Говорит мне: «Зачем вы столько ей дали? Ей хватило бы мелочи. Лучше бы вы дали мне. Я, филолог и лингвист, делаю вторую диссертацию. Я веду важное исследование — и вот, вынужден отвлекаться и ездить на эти конференции переводчиком, чтобы заработать денег. А вы, вместо того, чтобы поддержать меня, дали этой неграмотной старухе, которая и денег-то таких никогда не держала». Что угодно я мог ожидать от молодого американского доктора двух наук, но не этого. Мы и сами-то в 1992 г. получали какую-то символическую зарплату, раз в сто меньше этого переводчика. Человек свихнулся от страха перед бедностью и свалился в ничтожество.
В 1971 г., работая на Кубе, я видел по телевидению известный фильм, шедевр американского кино, "Держатель ломбарда". В бедном квартале Нью-Йорка старик-еврей, пострадавший от нацистов и уехавший в США, держит маленькую лавочку-ломбард, дает под заклад небольшие деньги (как старуха-процентщица у Достоевского). В фильме есть сложная психологическая драма, аналогия между нацизмом и человеческими отношениями в этом квартале, где заправляет мафия, но меня поразило не это, а именно тип бедности обитателей квартала. Они приносят последнее, что у них есть, и торгуются со стариком, умоляют его накинуть доллар-другой. Супруги приносят в заклад туфельки их умершего ребенка, молодой человек — золотую медаль из колледжа и т.д. Вынужденная жестокость доброго ростовщика, рыдания, семейные истории.
Обсуждая назавтра с кубинцами в лаборатории этот фильм, я сказал, что он сделан очень художественно, найдены сильные символические аллегории. Мне с жаром возразили люди, которые жили буквально в этих кварталах. Эта сторона фильма, сказали они, сделана не то чтобы реалистично, а прямо-таки натуралистично — все так и есть, тип быта и детали переданы абсолютно точно. Именно в таком положении живут люди. Разговаривая об этом в Бразилии, я узнал важную вещь: вырваться из этого состояния ничтожества можно только совершив скачок "вниз" — в
Даже в благополучной и более уравнительной, чем США, Европе бедные отделены от общества, а если еще и стоят в нем одной ногой, то это их состояние нестабильно. Привез меня друг в Испании погостить в свою деревню. Вышли мы погулять в поле, идет навстречу с речки старик с ведром. Друг говорит: "Это у нас в деревне красный". Поравнялись, друг говорит старику: "Эвенсио, ты у нас коммунист, а вот человек из Москвы". Старик испугался: "Что ты, какой я коммунист, это ты слишком. Левый, это да", — и пошел дальше.
Был он в республиканской армии, после поражения бродил, выполнял за бесценок самую тяжелую работу. Смог вернуться в деревню в конце 70-х годов, починил дом, работает на своем клочке земли, голосует за коммунистов. Вернулись мы в деревню уже в темноте, старик поджидает у своей двери: "Неужели сеньор из Москвы? И Красную площадь видели?". Потом я спросил у друга: что же старик в темноте к нам подошел, ведь все дома в деревне прекрасно освещены? Оказывается, не имеет этот старик ни света, ни водопровода — дорого. Задержался один бедняк в деревне, некуда больше идти. А где же остальные? По городам, по трущобам, там есть шанс хоть что-то заработать. Треть домов по деревням заколочена, а много поселков совсем пусты. Едешь ночью по малым шоссе — много деревень-призраков. А в городах целые районы превращены в трущобы.
Когда я впервые выехал за границу вне социалистического лагеря (в 1983 г. в Индию), меня потряс вид страданий от бедности детей — их переживание голода и первые связанные с этим духовные травмы. Это чувство трудно передать. Тяжелые сцены начались прямо по пути от аэропорта. Дело было в феврале, и по ночам в Дели было довольно холодно, а на газонах ночевало множество людей, имевших всего лишь кусок мешковины в качестве набедренной повязки. Кое-кто неподвижно лежал и днем — жив он? Умер? Мы проезжали мимо строительства тридцатиэтажного дома, подъемных кранов у него не было, наверх, как муравьи, поднималась вереница девочек (может, девушек, но худеньких), несущих на голове по два кирпича.
Небольшие деньги, которые у меня были, у меня в первый же выход в город вытрясли большие мальчишки. У них выработан для этого целый набор остроумных приемов, от которых новичку спастись трудно. Я бы так и провел все дни на конференции да в гостинице, но меня пригласил на рынок делегат из ГДР, у него были деньги. Мы шли по улице, и он ловко и резко отмахивался от мальчишек. Я на момент отстал, ко мне подбежал мальчик лет четырех. Он стал мне протягивать старую газету, как бы продавая ее и, поскольку я невольно остановился и наклонился к нему, он решил, что я ему дам монету. Но у меня ничего не было, и его нервы не выдержали этого перехода от надежды к отчаянию. Он зарыдал и затопал ногами, прыгая на месте. Видно было, что он голоден, живот вздут, слезы залили все лицо.
Я обошел с немцем рынок, потом поехали по гостиницам на такси-мотороллере. Он жил в городе, а я на окраине, километров за пять, через огромный лесопарк. Он видит, что у меня нет денег, и дал мне сколько-то рупий одной бумажкой — заплатить таксисту. Не помню, почему, но я ее зажал в руке. Водитель остановился у бензоколонки, и ко мне подбежала девочка лет восьми, в платье из мешка. Она вцепилась в мою руку с этой бумажкой и стала ее просить, тыкая пальцем себе в живот и в рот — мол, хочет есть. Вырывая у нее руку с деньгами, я проклял и себя, и этого немца, который увлек меня на экскурсию.
Когда в 1988 г. соратники Горбачева начали выпускать мальтузианские манифесты и утверждать, что бедность — естественное и законное явление, я вспомнил эту девочку и этого мальчика с газетой — и как отрезало. Для меня эта перестройка стала делом врагов рода человеческого. Одно дело, когда в Индии большая масса интеллигенции и государственных чиновников бьется над тем, чтобы сокращать бедность и поддерживать тех, кто впадает в крайнюю нищету — и другое дело
В 1984 г. я поехал в Мексику. Здесь детская бедность не такая страшная, к тому же я немного знал их культуру и мог с детьми объясниться. Здесь меня поразило другое — люди в пограничном состоянии, в момент, когда они переступают порог, отделяющий один уровень бедности от другого. В центре Мехико здания построены так, что тротуар становится своего рода галереей, отделенной от мостовой рядом колонн. Пешеходы идут в тени. И утром, и даже поздно вечером все нормально, идет поток людей. Но как-то друг провожал меня в гостиницу после полуночи, и я увидел немыслимое зрелище — в этих галереях масса людей с одеялами и сумками устраивалась на ночлег. Это были, что называется, приличные люди. Дети в ночных рубашечках, матери, стоя на коленях, расчесывают им волосы, раскладывают вещи, цепляют вешалку с разглаженными одеждами. Рано утром они скатают свои одеяла и исчезнут.
Но сильнее всего меня поразило то, что я увидел в первый день. В этой же галерее, рядом с отелем, стояла очень красивая пара — юноша и девушка, музыканты. Он в черном концертном костюме, она в длинном платье. Очень тонкие лица и хорошее образование. Скрипка и виолончель, играли Бетховена. Видно было, что они — выходцы из состоятельных семей, но какая-то причина сталкивает их вниз, и они пошли на крайнюю меру. Возможно, вышли на улицу в первый раз.
Такое отчаяние и такой ужас был в их глазах, что, казалось, у них уже петля на шее, вот-вот она их потянет от земли. Ничего похожего на уличных музыкантов, которых полно в Мехико и теперь полно в Москве. От этой красивой пары, переступающей порог, исходила такая волна горя, что люди шарахались из этой галереи и обходили это место по проезжей части. Я долго стоял неподалеку — ни один человек им не подал, не кинул монету в футляр. Человек я довольно бесчувственный, но в ту ночь чувствовал себя очень скверно.
Во время перестройки многим из нас, особенно из молодежи, устроили поездки на Запад. Организовали умело. Социологи знают, что при выезде за границу возникает эффект "медового месяца" — все кажется прекрасным, глаз не замечает ничего дурного. Длится это недолго, пелена спадает, и за изобилием сосисок, витрин и автомобилей начинаешь видеть реальную жизнь, и тебя охватывает неведомая в России тоска. Ощущение изнурительной суеты, которая бессмысленна и в то же время необходима. Это — конкуренция, "война всех против всех".
Я в 1989-90 гг., когда я был в Испании, тема России была в моде, и у меня как-то взяли большое интервью для журнала. Под конец спросили, не хотел бы я остаться жить в Испании. Я люблю Испанию, но признался, что нет, не хотел бы. Как так, почему же? Я подумал и ответил попроще, чтобы было понятно: "Качество жизни здесь низкое". Еще больше удивились и даже заинтересовались. Как объяснить, не обижая хозяев? Говорю: "Я привык, чтобы ребенок на улице называл меня дядя, а не господин". Не поверили: какая, мол, разница. Пришлось сказать вещь более наглядную: "Выхожу из дома, а в закутке около подъезда на улице старик ночует, зимой. И качество моей жизни от этого низкое". Мне говорят: "Ладно, оставим это. Мы не сможем это объяснить читателю".
Сейчас я и сам вижу, что ничего им не объяснил — ведь и у моего дома теперь стоит нищий старик. Тогда я такого не предполагал. Сейчас видно, что нас затягивают в ту же яму, но не затянули еще. Я чувствую, что при виде нищего старика в московском метро у людей сжимается сердце. Одни подадут ему милостыню, другие отведут глаза, третьи придумают какое-то злое оправдание — но все войдут с этим стариком в душевный контакт, все чувствуют, что качество их жизни низкое. Стариков, ночующих на улице Рима или Чикаго, просто никто не замечает, как привычную часть пейзажа. Участь отверженных, если они не бунтуют, никак не касается жизни благополучных.
Мы сегодня, видя нищих, в том числе музыкантов, думаем, что и мы дошли до этого уровня — и дальше, укрепись эта демократия, будет примерно так же. Это глубокая ошибка. Наши нищие-музыканты не очень-то сильно отличаются от нас, и особого отчуждения между нами нет. А та пара музыкантов в Мехико, было видно, оказалась в пустоте. Они уже отторгнуты их прежней "расой", но они чужие и не хотят, не могут стать своими и для "расы отверженных". Если антисоветский режим надолго продлится в России, многим из нас придется переходить такой порог, какого пока что у нас нет и какой мы и представить себе не можем. Ведь пока что, случись какая-то катастрофа, можно выйти к людям и с протянутой рукой. Тяжело будет им в глаза смотреть, но терпимо. А будет другое — другие будут люди и другие глаза.
Уже появилась у нас обширная прослойка людей, у которой глаза уже меняются. Был я в 1988 г. с одним приятелем, который стал потом видным "демократом" (даже в ранге министра при Гайдаре), в командировке в Риме. Дело было зимой. Около гостиницы, где мы жили, спал на улице старик. Вид у него был особенно драматический из-за двух деталей. Во первых, из-под кучи тряпья, которой он был укрыт, валил пар — необычно много. Во-вторых, на себя он положил свою гладкошерстную собаку, и она тряслась крупной дрожью. Зрелище — не забудешь. Как-то позже, в Москве, я по какому-то поводу спросил приятеля: "Помнишь того старика в Риме?". Он удивился: "Какого старика?". — "Как какого? С собакой, около гостиницы!". — "Не видел никакого старика". Говорил он совершенно искренне — он на этого старика в упор глядел и не видел. Так они сегодня и "своих" русских стариков не видят. А мы думаем, что они злые.
Одним из главных смыслов, входящих в культурное ядро любого общества, является
В перестройке, которую можно считать идеологической артподготовкой к слому советского порядка и присвоению государственной собственности номенклатурой, одной из ключевых тем было право на труд и безработица. В рамках этой темы была проведена блестящая программа манипуляции сознанием, и она заслуживает рассмотрения. Высокое качество этой программы подтверждается тем, что отключение здравого смысла удалось не в связи с каким-то отвлеченным вопросом, а вопреки очевидным и осязаемым материальным интересам буквально каждого человека.
Полная занятость в СССР была бесспорным и фундаментальным социальным благом, которое было достигнуто в ходе советского проекта (в 1994 г. не были производительно заняты примерно 30% рабочей силы планеты). В обеспечении права на труд было, конечно, много дефектов, идеал “от каждого — по способностям” был далеко еще не достигнут, реальный уровень промышленного развития не позволял привести качество рабочих мест в соответствие с притязаниями образованной молодежи. Но это по важности несравнимо с главным.
Отсутствие безработицы было колоссальным прорывом к благополучию и свободе простого трудящегося человека. Это было достижение исторического масштаба, поднимающее достоинство человека. Мы еще даже не можем вполне оценить утрату этого блага — у нас еще нет людей, по-настоящему осознавшими себя безработными и, главное, воспроизводящими безработицу в своих детях, в следующих поколениях. Мы еще живем “наполовину советским” порядком.
Привычность полной занятости превратила в сознании наших людей это чисто социальное (созданное людьми) благо в разновидность природного, естественного условия жизни. Это, разумеется, сделало право на труд как политическую норму очень уязвимым. Люди его не ценили и никаких активных шагов по его защите ожидать было нельзя. Однако пассивная установка на отрицание безработицы была вполне определенной. Это показывали регулярные опросы социологов. Кстати, сами эти опросы должны были бы встревожить людей, но не встревожили — Горбачев периодически успокаивал: чего-чего, но безработицы мы никогда не допустим.
На деле партийно-государственная номенклатура СССР, начав свой постепенный отход от советского проекта, уже с 60-х годов стала тяготиться конституционным правом на труд, исподволь начав кампанию по внедрению в общественное сознание мифа о благостном воздействии безработицы на все стороны общественной жизни. Эта тема постоянно муссировалась на околопартийных интеллигентских кухнях, в среде хозяйственных руководителей стало хорошим тоном посокрушаться, что, мол, отсутствие в их руках кнута безработицы не дает поднять эффективность производства. Но, поскольку право на труд было краеугольным камнем нашей идеократической системы, подмывание этого устоя велось неофициально, хотя и с явного одобрения верхушки КПСС.
Принцип полной занятости как один из главных устоев советской антропологии и реализация уравнительного идеала ("
Н.Шмелев писал в 1987 г.: "Не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе. То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны чрезмерно полной (!) занятости, сегодня, кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы… Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, куда пошлют, — очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности" (Авансы и долги. — "Новый мир", 1987, № 6).
До этого вопрос о необходимости безработицы туманно ставил С.Шаталин ("Коммунист", 1986, № 14), на которого и ссылается Н.Шмелев. Он говорил о переходе от "просто полной занятости к социально и экономически эффективной, рациональной полной занятости". Здесь важно подчеркнуть, что первыми о необходимости безработицы заговорили люди и высших партийных и научных кругов, заговорили в журнале "Коммунист"!
С 1988 г. такие рассуждения заполонили прессу. Эта кампания велась средствами партийной печати с присущей ей тоталитарностью (я попытался ответить на один такой манифест Н.Амосова, опубликованный в 1988 г. в “Литературной газете”, совершенно спокойной информативной статьей. К моему глубокому удивлению, ни одно из “коммунистических” изданий ответа опубликовать не пожелало, “так как у редакции на этот счет иное мнение, чем у меня”).
Сильный эффект расщепления сознания был достигнут тем, что пропагандой безработицы занялись профсоюзы — именно та организация рабочих, которая по своей изначальной сути должна быть непримиримым врагом безработицы. В марте 1991 г., еще в советское время Профиздат выпустил массовым тиражом книгу “Рыночная экономика: выбор пути”. Среди авторов — виднейшие экономисты. Читаем: “Можно сказать, что рынок воспроизводит безработицу. Но возникает вопрос, а является ли безработица атрибутом только рыночной системы хозяйства? Разве в условиях административно-командной системы управления производством не было безработицы? Она имела место, только носила структурный, региональный и в основном скрытый характер. Различие между рыночным механизмом и административно-командной системой управления состоит не в том, что в одном случае есть безработица, а в другом нет, а в том, что в условиях рынка безработица официально признается и безработный получает пособие”.
Хороши наши советские профсоюзы, не правда ли? Скрытая безработица! Хитро придумано. Это вроде как скрытая болезнь. Пусть человек здоров, наслаждается жизнью, живет до ста лет — назовем его “скрытым больным”, попробуй докажи, что нет. Людей, которые реально имели работу, два раза в месяц получали зарплату, квартиру от завода, путевку в санаторий и т.д., убеждают, что это — “скрытая безработица”, и что она ничуть не лучше явной. Что явная безработица, когда нет ни зарплаты (да и ни пособия!), ни перспектив, ничуть не страшнее, чем “скрытая”. Конечно, так может говорить только подлая продажная тварь. Но как могли рабочие в это верить — вот ведь загадка века.
Антисоветские идеологи подменили суть проблемы ее убогим суррогатом. Труд и безработица были представлены как сугубо экономические категории, так что предложение создать в советском народном хозяйстве безработицу подавалось как чисто техническое, как обычное социально-инженерное решение, не затрагивающее никаких основ нашего бытия. Это предложение увязывалось исключительно с экономической эффективностью (суть которой, впрочем, никак не объяснялась). Аргумент был простым, как мычание: на Западе есть безработица, и там поэтому все работают, как звери, и в магазинах всего полно.
В действительности, труд и отлучение от труда (безработица) — проблема не экономическая и даже не социальная, а
Что вопрос о безработице относится к категории фундаментальных проблем бытия, говорит уже тот факт, что на протяжении всей истории цивилизации он имеет религиозное измерение, в то время как понятие экономической эффективности возникло лишь с появлением рыночной экономики и посвященной ей науки — политэкономии. Иными словами, в Новое время, совсем недавно.
В христианстве запрет на безработицу был воспринят уже из Ветхого завета: каждый должен добывать хлеб свой в поте лица своего. Осовременивая, мы бы сказали, что этой догмой христианство наложило вечный запрет на рынок рабочей силы, который вправе отвергнуть и неминуемо отвергает часть этого “товара”, так что безработица — неизбежный и необходимый спутник рыночной экономики. Потому-то духовным условием для ее возникновения и была протестантская Реформация, которая виртуозно разрешила это противоречие. Часть людей (причем неизвестно кто именно) была объявлена отверженными, которым изначально отказано в возможности спасения души. Им нарушение божественного предписания трудиться уже не повредит. Более того, само превращение в безработного приобретает смысл. Утрата работы человеком есть предупреждение, смутный сигнал о том, что этот человек — отверженный.
Понятно поэтому, что утрата работы является для человека ударом, тяжесть которого совершенно не выражается в экономических измерениях — так же, как ограбление и изнасилование не измеряется стоимостью утраченных часов и сережек. Превратившись в безработного, человек испытывает религиозный страх — будь он хоть трижды атеист. Христианский завет вошел в наше подсознание с культурой, и слово
В России, даже когда она в конце прошлого века разъедалась западным капитализмом, сохранялось христианское отношение к безработице. Многие крупные предприниматели (особенно из старообрядцев), даже разоряясь, не шли на увольнение работников — продавали свои имения и дома. Те, кто переводили свои отношения с рабочими на чисто рыночную (западную) основу, подвергались моральному осуждению. Сильный отклик имели статьи Льва Толстого, его отвращение к тем, кто в голодные годы “не дает работы, чтобы она подешевела”.
Наблюдательный человек должен был бы подметить странную вещь в рассуждениях о безработице, которые начались с 1987 г. Речь шла о новом, неизвестном для нас явлении. Казалось бы, логично пригласить в печать, на радио и телевидение знатоков вопроса — зарубежных специалистов, профсоюзных деятелей, самих безработных. Мол, поделитесь опытом, расскажите, как и что. Вспомните: за все годы — ни одного такого случая не было. Не пришло нашему умному руководству в голову? Нет, это была сознательная установка.
Фальсификация знаний о реальности в случае фундаментальных проблем бытия особо безнравственна. В случае проблемы безработицы это проявляется очень наглядно. Дело в том, что безработица как социальное явление является источником массовых страданий людей. Тот, кто выдвигает или поддерживает предложение перейти от реально достигнутой полной занятости к узаконенной безработице, прекрасно знает, что результатом его предложения будут страдания, причиненные большему или меньшему числу сограждан. Такого рода предложения, какими бы экономическими или технологическими соображениями они ни обосновывались, прежде всего создают проблему нравственную. Эта проблема должна быть явно изложена, а выбор того или иного решения поддержан также нравственными (а не экономическими или технологическими доводами).
И речь в данном случае идет не об абстракции, не о “слезинке ребенка”. В середине 1990 г. в журнале Академии наук СССР “Социологические исследования” (это даже еще не ельцинская РФ) печатались статьи с заголовками такого рода: “Оптимальный уровень безработицы в СССР” (А.А.Давыдов — СОЦИС, 1990, № 12).
Поскольку статья написана в середине 1990 г. и речь идет об СССР с его 150 млн. трудоспособных людей, то, переходя от относительных 13% к абсолютному числу личностей, мы получаем, что “наименее болезненным” наш гуманитарий считает выкинуть со шлюпки 20 миллионов человек. Само по себе появление подобных рассуждений на страницах академического журнала — свидетельство моральной деградации нашей гуманитарной интеллигенции. В общественных науках социолог — аналог врача в науке медицинской. Очевидно, что безработица — социальная болезнь, ибо приносит страдания людям. Можно ли представить себе врача, который в стране, где полностью ликвидирован, скажем, туберкулез, предлагал бы рассеять палочки Коха и довести заболеваемость туберкулезом до оптимального уровня в 20 миллионов человек?
Ведь автор той статьи нигде не сделал даже такой оговорки: на нас, дескать, в связи с рыночными реформами накатывает неминуемая беда; я, как узкий специалист, не берусь обсуждать реформу, я лишь говорю о том, что при всех наших усилиях мы не сможем сократить число потерпевших несчастье сограждан ниже 20 миллионов; чтобы оно не было выше, надо сделать то-то и то-то. Нет, социолог благожелательно ссылается на Милтона Фридмана (подчеркивая что он — Нобелевский лауреат), который выдвинул теорию “естественного” уровня безработицы: “При снижении уровня безработицы ниже естественного инфляция начинает расти, что пагубно отражается на состоянии экономики. Отсюда делается вывод о необходимости поддерживания безработицы на естественном уровне, который определяется в 6%”. Шесть процентов — это для США, а нам поклонник Милтона Фридмана с помощью золотого сечения вычислил 13%, которые, хоть кровь из носу, “необходимо поддерживать”.
Мы говорили о масштабах страданий, которые нам предполагали организовать политики с целой ратью своих экономистов и гуманитариев. А какого рода эти страдания, какова их интенсивность? Социолог их прекрасно знает, они регулярно изучаются Всемирной организацией труда, сводка печатается ежегодно. Он сам бесстрастно приводит в своей статье. В США, например, рост безработицы на один процент ведет к увеличению числа убийств на 5,7%, самоубийств на 4,1%, заключенных на 4%, пациентов психиатрических больниц на 3,5%.
Кстати, “теория” Фридмана — это чистая идеология. Расчеты крупнейшего экономиста нашего века Кейнса показывают, что безработица, “омертвление рабочих рук” — разрушительное для экономики в целом явление, оно лишь маскируется непригодными с точки зрения общества показателями (прибыль
В связи с безработицей уже не только антисоветские идеологи, но и широкие круги нашей образованной интеллигенции впали в некогерентность, граничащую с шизофренией. Редко сейчас встретишь гуманитарный журнал, где бы не поминался моральный императив Канта: “поступай с другими так, как ты хочешь чтобы поступали с тобой”. Ссылаясь на эту максиму, я уже давно (с начала 60-х годов) спрашивал, когда мог, интеллигента, ратующего за безработицу: “Ты сам хочешь стать безработным?”. Ни разу я положительного ответа не услышал. Самые совестливые (а это были мои приятели по лаборатории) отвечали уклончиво, примерно так: “Я бы и не против ради общего блага, но ты же знаешь, у нас сейчас научно-техническая революция, а я научный работник; так что никак у меня стать безработным не получится, ты уж извини. Безработица — это для рабочих, ну, избыточных колхозников”. Тут, как нам теперь известно, маленько промахнулись наши либеральные интеллигенты — сами стали жертвой очень примитивной манипуляции сознанием. Сантехники нужны даже в колонии, а вот научные работники — только в державном государстве, которое они разрушали.
Кстати, вовсе не только о нравственности и логичности идет речь. Наши антисоветские демократы отрицали то, что в мире давно воспринимается именно как фундаментальное право человека. Даже в Уставе ООН, принятом в 1945 г., была поставлена задача достижения полной занятости. Во Всеобщей декларации прав человека сказано, что "каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы".
Конституция РФ 1993 г. устранила
Одним из важных обвинений советскому строю, которое зародилось в среде интеллигенции, было снижение трудовой мотивации и даже "утрата трудовой этики". Имелось в виду, что наличие слишком широких социальных гарантий лишило работников отрицательных стимулов к хорошему труду (страха), а слишком уравнительное распределение доходов свело на нет и положительные стимулы. В результате якобы возник особый, нигде в мире не виданный тип работника — нерадивого, ленивого и нахального.
Эта теоретическая конструкция обросла множеством пикантных деталей, колоритных образов, анекдотов. Ее воспринимали легко и охотно сами же работники самых разных сфер, тем более, что в этой концепции фигура интеллигента-паразита была одной из самых колоритных: сказки о ленивых и никчемных сотрудниках НИИ заполняли 16-ю страницу "Литературной газеты". Многие люди, как водится, считали лентяем соседа, а не себя лично, а другие получали прекрасное оправдание для своей личной нерадивости ("система такая — при другой системе я бы трудился ого-го!").
Вся эта мифология "ленивого совка" подводила, в конечном счете, к идее благотворности частного предпринимательства ("хозяин не позволил бы"). Для контраста создавался светлый миф о Западе, где хозяева сумели так организовать труд, что работники показывают чудеса ответственности, интенсивности и ловкости — при хорошем настроении в ожидании точно отмеренной зарплаты "по труду".
Разделим всю эту многослойную проблему на части и рассмотрим по отдельности вопросы разного плана. Прежде всего, вопрос фундаментальный, не зависящий от мотивации — трудовой потенциал людей, сама их способность выполнять ту или иную работу. Здесь антисоветская концепция содержит принципиальную ошибку. Советская индустриализация превратила крестьян во вполне годных для фабрики рабочих несравненно быстрее, бережнее и эффективнее, чем западная (это мнение западных социологов).
Тут можно даже говорить о "русском чуде". Одна из ошибок гитлеровских стратегов как раз и состояла в том, что они посчитали невозможным, чтобы СССР за столь короткий срок подготовил десятки миллионов работников, перепрыгнувших "из царства приблизительности в мир точности". Западу для этого понадобилось триста лет. Конечно, трудовое поведение советских людей отличалось от западных. У нас еще не сложился в полной мере "человек фабричный", десятки поколений работавший в искусственном пространстве и времени фабрики. Советский рабочий еще нес в себе физиологическую память о временных ритмах крестьянского труда. Для него была характерна цикличность работы, смена периодов вялости или даже безделья и периодов крайне интенсивного вдохновенного труда типа страды ("штурмовщина"). Слава богу, что психофизиологи труда в СССР во время поняли это и порекомендовали не ломать людей ради "синхронности". Сейчас, наверное, новые менеджеры сломают.
Задача, которую решил советский строй, была вовсе не тривиальной. Для ее решения была создана большая и сложная социокультурная система, включающая единую общеобразовательную школу, непрерывное внешкольное образование, уклад предприятия, систему ценностей и тип распределения жизненных благ.
Вопреки тому, во что поверили наши социал-дарвинисты, именно "уверенность в завтрашнем дне", вместо западного "страха за завтрашний день", позволила в СССР очень быстро сформировать спокойного работника, способного выполнять сложную работу. И этот принцип взят сегодня на вооружение во всех незападных быстро развивающихся странах — там, где культура не ориентирует человека на крайний индивидуализм в "войне всех против всех". Помимо хрестоматийного примера Японии можно назвать Южную Корею, где самым важным стимулирующим фактором считается стабильность рабочего места — гарантии против увольнения.
Ставя нам в пример США с их культом конкуренции, наши антисоветчики исходили из самого тупого эпигонства. Роль советского уклада мы лучше поймем, если взглянем на нынешнюю систему, которую строили буквально как отрицание советской. Сегодня, несмотря на кнут безработицы и угрозу голодной смерти, в целом идет "
Теперь о том, как реализовался потенциал работников в СССР и на Западе в зависимости от системы оплаты (и шире — стимулирования). Мы знаем, что в 70-80-е годы в СССР действительно наблюдался кризис прежней системы, так что существовала проблема ее совершенствования. Причины, в общем, были известны: произошла урбанизация и одновременно смена поколения и его культурных стереотипов. Старая система трудовой мотивации и стимулирования труда резко потеряла действенность. Это было недомогание общества, которое надо было лечить, и оно было бы вылечено. В тех отраслях, где для этого были ресурсы, оно нормально лечилось. Но антисоветские идеологи трактовали это недомогание (пусть даже болезнь), через которое периодически проходят все промышленные страны, как признак смерти системы советской. И стали уповать, как мы теперь видим, на примитивное, даже архаическое решение (частный хозяин и кнут угрозы голода).
Укажу на очевидную вещь: те, кто считали этот кризис неким сущностным качеством именно советского строя, или утратили историческую память или совершали сознательный подлог. Честный критик должен был бы сначала зафиксировать тот факт, что именно в СССР те же люди прекрасно работали — война была этому экзаменом не идеологическим, а абсолютным. Иными словами, абсолютизация частной инициативы как организатора хорошего труда — грубая ошибка.
Антисоветское сознание равнодушно и, скорее всего, искренне нечувствительно к важному явлению Нового времени, которое именно в СССР и произошло. Оно называется "стахановское движение", и к нему были одинаково нечувствительны и официальный истмат, и
Отсюда — т.н. "гениальный глаз", который был обычным явлением у средневековых ремесленников, но исчез на капиталистической фабрике. Отсюда — эффективность движений работника, которая далеко превышала обычную. Психофизиологи труда ввели даже метафору, согласно которой советские работники "вбирали энергию из окружающей среды".
В детстве я прочел, а потом уже не мог найти, записки одного из шахтеров, которых обучал Стаханов. Он просто и образно описал суть, она мне и тогда показалась важной. Стаханов научился видеть центры напряженности в пласте угля — в них и бил отбойным молотком. Он говорил, что "пласт должен сам выбрасывать уголь", почти как взрывом. И учил этому шахтеров. И это было, у всех по-своему, массовым явлением, что и показала война. Из всего, что приходилось слышать от антисоветчиков, было видно, что это им глубоко чуждо, что ему противен рабочий "дядя Вася", который был именно на это способен, начал пить при Брежневе, а теперь мрачно тянет лямку у "новых русских". Новая система не придушит, как Брежнев, а искоренит этот потенциал. Похоже, что она его ничем и не восполнит — не имеет сходной силы.
Сегодня у новых "менеджеров" стоит тот же вопрос — как заставить работать нерадивого "дядю Васю". И приходится слышать, что адекватным для стимулом является создание для него смертельных угроз — голода и выселения из квартиры. Но опыт показывает, что этот метод негоден вообще, а для "дяди Васи" — в особенности.
Что он негоден вообще, независимо от общественного строя, говорит большая американская литература. В промышленной социологии Запада есть понятие
Кстати, такую "работу с прохладцей" только недавно стали называть уклончиво — рестрикционизм. А Тейлор называл это попросту —
Тейлор считал, что рестрикционизм — один из методов борьбы рабочих за свои интересы. М.Вебер также видел в этом явлении сознательную установку, продукт коллективной самоорганизации, используемый для давления на администрацию ("негативное участие в управлении"). Иллюзии эффективности стимулирования рабочих угрозой — продукт раннего, "манчестерского капитализма", они давно в современном производстве изжиты.
В начале ХХ века Тейлор разработал приемы "научного менеджмента" — разделения производственного задания на простейшие операции, которые легко нормируются. Какое-то время это давало отдачу — ему, как пишут, удавалось заставить повышать выработку даже старых и ленивых рабочих. Потом эта система с прогрессивно-премиальным типом оплаты стала буксовать, ее использовали для интенсификации труда рабочих-иммигрантов, боящихся протестовать.
Начались разработки других систем стимулирования, и с тех пор сменилось уже несколько поколений их. В 90-е в США случилась новая волна ухудшения трудовой мотивации, и проблема эта вовсе не так проста, как ее представил антисоветский миф. Кстати, один из наших крупных организаторов промышленности (В.Кабаидзе) мне рассказывал, что в конце 80-х годов он был в США в родственной фирме и спрашивал директора, как они заставляют хорошо работать своего "дядю Джима". И "их" директор изложил ему приемы абсолютно те же самые, что применял и советский директор. "Прорабатывать, прорабатывать и прорабатывать!" Увольнять бесполезно.
Видный американский социолог в области труда и управления Ф.Херцберг (на мой взгляд, исключительно умный и глубокий человек), писал в 1989 г. о системах стимулирования: "Все побудительные факторы такого рода, будучи применены, быстро теряют свою эффективность. Появляется необходимость поиска все новых и новых средств идеологической стимуляции. Последняя служила мощным орудием побуждения к труду в Советской России после Октябрьской революции и сохраняла свою действенность до конца 40-х годов. Однако с тех пор идеологические стимуляторы в значительной мере обесценились, поскольку наступило неизбежное "насыщение" и привыкание к ним. Сегодня уже необходимо искать новые формы вознаграждения за труд, такие как, например, система бонусов. Правда, и они со временем потеряют свою эффективность, как это произошло в США в 70-80-е годы, когда Японии и другим странам Тихоокеанской дуги удалось превзойти Америку по показателю выработки на одного работника" (Ф.Херцберг, М.У.Майнер. Побуждения к труду и производственна мотивация. — СОЦИС, 1990, № 1).
В антисоветском мышлении уже с 60-х годов стало созревать отношение к трудящимся как "иждивенцам и паразитам" — чудовищный выверт тупого элитарного сознания. И уже тогда возникла идея так переменить общественный строй, чтобы "наказать" этих люмпенов и паразитов. Чем же их можно было наказать? Безработицей, а значит, голодом и страхом. В открытую об этом стали говорить во время перестройки. Вот рассуждения близкого тогда к Горбачеву экономиста Н.Шмелева: "Не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе. То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны чрезмерно полной (!) занятости, сегодня, кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы… Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, куда пошлют, — очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности" (Н.Шмелев. Авансы и долги. — "Новый мир", 1987, № 6).
Итак, вот идеал трудовых отношений в уме "демократа": для рабочего — "опасность потерять работу или быть обязанным трудиться там, куда пошлют".
Под давлением пропаганды множество людей поверили, что советская система органически не может организовать людей на хорошую работу. Это неправда, советские рабочие были именно высоко мотивированными и ориентированными на повышение содержательности работы и на технический прогресс. Это лучше всего показывают сравнительные международные исследования.
С 1971 по 1979 г. велось большое международное исследование "Автоматизация и промышленные рабочие", в котором участвовали 15 стран — 6 социалистических, включая СССР, и 9 — капиталистических, включая США, Англию, ФРГ, Францию, Италию. Координатором был Европейский центр координации исследований и документации в области социальных наук (Вена). Исследование велось по единой для всех методике, результаты обрабатывались в одном центре и рассылались всем участникам. Материал получен огромный, но для нашей темы наибольший интерес представляют те сведения, которые характеризуют советского рабочего и уклад советского предприятия в процессе технического перевооружения (автоматизации) — в сравнении с аналогами в условиях Запада. Они приведены в книге В.В.Кревневича "Социальные последствия автоматизации" (М.: Наука, 1985).
Прежде всего, советские рабочие активно поддерживали технический прогресс, он у них не вызывал никаких опасений. 99% опрошенных советских рабочих ответили, что "внедрение нового оборудования на их предприятии принесло улучшения и в целом было положительным". В капиталистических странах положительно оценивали этот процесс 54,8% опрошенных, а довольно многие заявили, что внедрение нового оборудование ухудшило положение рабочих на их предприятии (30% в Англии, 20% в США). В целом в социалистических странах 69% рабочих ответили, что будут "активно поддерживать" автоматизацию, а в капиталистических — 37%.
Резко различались бытующие на предприятии представления об оптимальном образовательном уровне рабочих автоматизированных участков (они в книге обозначены как А-участки, в отличие от неавтоматизированных НА-участков). В отчете сказано: "США считают, что техническое образование не нужно не только рабочим НА-производств, но и рабочим А-производств. По данным экспертов СССР, только 18% рабочих А-участков могут обойтись без технического образования, 70% рабочих необходимо профессионально-техническое образование в объему ПТУ и 12% рабочих требуется специальное среднее техническое образование".
В разных социальных системах различается как реальный общеобразовательный уровень рабочих, так и мнение экспертов о необходимом уровне. Советские рабочие в этом отношении выделяются даже среди социалистических стран — большинство их имели в 70-е годы среднее образование (неполным средним считается образование уровня 5-9 классов)
 |
При этом в СССР считалось, что образовательный уровень рабочих А-производств должен быть
Исследователи отмечают расхождение между объективными измерениями факторов труда и субъективными оценками рабочих: "рабочие социалистических стран, как правило, несколько завышают уровень физических усилий, затрачиваемых в процессе работы, тогда как рабочие несоциалистических стран, напротив, склонны этот уровень занижать. В отношении умственных нагрузок позиции полярно меняются: рабочие социалистических стран считают, что эти нагрузки недостаточны; их коллеги из несоциалистических стран считают этот уровень чрезмерным". Иными словами, рабочие с высоким образовательным уровнем желают работы более содержательной и требующей умственных усилий. Такие рабочие могут быть более требовательными и неудовлетворенными, нежели менее образованные, но это вовсе не значит, что низка их мотивация. Напротив, их неудовлетворенность представляет из себя огромный потенциал для развития.
Третья группа выводов связана с тем, как влияет автоматизация на трудовые нагрузки. Здесь выявились резкие различия между двумя социальными системами. Общий вывод такой: "В соцстранах общая физическая напряженность труда на А-участках уменьшилась существенно (на 7,3%). В несоциалистических странах физическая напряженность труда в целом на А-участках даже несколько повысилась (на 5,6%)".
Самый большой вес в нагрузках имеют те, которые связаны с неудобной рабочей позой. Результат таков: "Если в социалистических странах эти нагрузки практически не изменились, а в СССР заметно уменьшились, то в странах несоциалистических нагрузки, связанные с рабочими позами, существенно возросли, особенно в ФРГ (на 46,1%), США (на 41,9%) и т.д… Самыми большими эти нагрузки оказались у рабочих Англии (46,6 балла),… самыми низкими в СССР (28,7 балла)".
С учетом нервных нагрузок исследователи определяли "общую напряженность труда". Вывод таков: "Различия, имеющиеся между двумя группами стран, вновь подтверждают вывод о более благоприятных последствиях автоматизации для рабочих социалистических стран. Общая напряженность труда рабочих А-производств в социалистических странах уменьшилась в среднем почти на 21%. В наибольшей степени она снизилась в СССР (на 61%) и в ГДР (на 38,9%). В группе несоциалистических стран напряженность труда на А-участках в среднем даже возросла (на 6,3%), а в ФРГ — даже на 201,6%".
Примечательно расхождение объективных оценок комфортности условий труда с субъективными оценками самих рабочих: "Так, в ГДР комфортность труда, по оценкам экспертов, ниже средней по 14 странам на 14,0%, а по оценкам рабочих она выше средней на 18,7%. Следовательно, рабочие ГДР "переоценивают" комфортность своих условий труда на 32,7 процентных пункта. В СССР комфортность производственной среды выше средней для А-участков на 27,6%, а рабочие оценили ее выше на 40,4%. Следовательно, и рабочие в СССР в среднем более высоко оценивают свои условия труда, нежели рабочие других стран". Из этого следует, что рабочие стали склоняться к антисоветскому повороту вовсе не вследствие тенденции к объективному ухудшению их положения на производстве, а в результате культурного кризиса советского общества и под влиянием интенсивной идеологической обработки.
Представляя советский тип трудовых отношений как подрывающий мотивацию трудящихся, нам уже десять лет демонстрируют ту альтернативу, которой соблазняли. Надо же подвести итог. То, что мы видим сегодня на сложно организованном производстве, именно в сфере мотивации есть чудовищный регресс по сравнению с советским обществом даже 70-80-х годов. Например, во многих больницах идет деградация всей трудовой системы, утрата персоналом чувства ответственности, что приводит к большому излишку смертей. В промышленности наблюдается то же самое, только выражается в материальных потерях. Технологическая дисциплина и качество труда ухудшились чудовищно. В массе рабочих квалификация упала. Мы не стали делать "мерседесов", но ВАЗ-2105 сегодня сделан гораздо хуже, чем в 1983 г. (я испытал это на собственной шкуре). При том, что люди реально ощущают угрозы — дальше некуда.
Каковы же тенденции? В совокупности они именно неблагоприятны. Во многих отраслях промышленности начался вал системных отказов. Предприятия убеждаются, порой с удивлением, что не могут выполнить работы, которые десять лет назад были для них тривиальными. Иногда завод получает выгодный зарубежный заказ — и не может выполнить. Чаще всего из-за утраты кадрового потенциала — и разработчиков, и инженеров, и рабочих. Тому есть свидетельства и документальные, и беседы с директорами. И это — именно "неумолимые" тенденции, причем никаких усилий их переломить не делается. Есть усилия лишь по созданию анклавов модернизированного производства. Но совокупность этих анклавов такова, что страна на них выжить не может.
Конечно, состояние всей системы трудовой мотивации и стимулирования труда в промышленном производстве в СССР было еще неустойчивым. Происходила быстрая урбанизация, ломался привычный образ жизни, шкала культурных норм и общественного контроля. Люди, недавно начавшие осваивать городской образ жизни, находились в состоянии стресса — изменялись их потребности и в то же время было велико наследие нашей бедности и неустроенности. В городе они переживаются иначе, чем в родной деревенской избе.
Дефекты нашей "бедности и отсталости" перетащили в сегодня не от низкой морали Чубайса. Они нам были "даны", и никакой частной собственностью их не устранишь. Часть из них объективна, часть инерционна. Мы же здесь говорим о том факте, что, перетащив в сегодня эти дефекты, Чубайс сумел угробить все те механизмы, которые позволяли нам и при этих дефектах жить вполне прилично и при этом в хорошем темпе преодолевать дефекты и улучшать жизнь. За десять лет мы могли убедиться, что это факт и что он тоже не зависит от морали Чубайса. Тот же процесс шел при Примакове, идет при Касьянове и будет идти дальше на всей траектории антисоветского проекта… И намного лучше быть не может — хоть замени Наздратенко на Черепкова. Потому что, как показал самый скрупулезный анализ потока ресурсов, "капитализм вовсе не мог бы существовать без услужливой помощи чужого труда". А этой услужливой помощи мы не имеем и иметь не будем. У нас была возможность улучшать, по мере сил, КАМАЗ с бетонным насосом. Этот путь нам закрыли. А вот заменить КАМАЗ на "Мерседес" с хорошим насосом, оказывается, можно только заморозив отопление в Приморье. Пока что в Приморье, но, в принципе, далее почти везде. При этом забывают важный факт: отопление выключают при том, что производство в Приморье уже парализовано на две трети. А через три-четыре года все прогнозируют коллапс Газпрома. Был шанс укрепить его базу из нефтедолларов 2000 г., но не дали ничего.
Сегодня с массы людей срывают цивилизационную надстройку, наросшую за советский период — идет быстрая архаизация сознания и общественных укладов. Люди спиваются, эксплуатируют женщин и детей. Это признаки превращения России в большую трущобу, северную фавелу. У людей фавелы другой язык, другая мораль и другая рациональность. Вернуть их в общество — особая большая проблема, которой мы не знаем. Конечно, не Чубайс этот процесс начал, но советская школа и советский завод держали его под контролем. Болезнь можно было лечить, а можно резко усилить и воспользоваться состоянием больного. Сейчас, думаю, ясно, что даже при улучшении дел в "обществе" фавела в него автоматически не вернется. Будет нужна большая и творческая работа по реабилитации. И наверняка с элементами жестокости, в которой потом будущие горбачевы обвинят будущих сталиных.
1. Советское жизнеустройство сложилось под воздействием конкретных природных и исторических обстоятельств. Исходя из этих обстоятельств поколения, создавшие советский строй, определили главный критерий выбора —
Альтернативным критерием выбора жизнеустройства было
Прямо указанный выбор антисоветскими идеологами никогда не формулировался, а попытки сформулировать его в понятной для людей форме пресекались руководством КПСС, которое и определяло доступ к трибуне. Однако связанные с этим выбором утверждения были весьма прозрачными. Так, требование произвести массивный переток средств из тяжелой промышленности в легкую приобрело характер не хозяйственного решения, а принципиального политического выбора. Ведущий идеолог перестройки А.Н.Яковлев заявил: "Нужен поистине тектонический сдвиг в сторону производства предметов потребления. Решение этой проблемы может быть только парадоксальным: провести масштабную переориентацию экономики в пользу потребителя… Мы можем это сделать, наша экономика, культура, образование, все общество давно уже вышли на необходимый исходный уровень".
Оговорку, будто "экономика давно уже вышла на необходимый уровень", никто при этом не проверял и не обсуждал, она была сразу же отброшена — речь шла только о
Это изменение критерия жизнеустройства противоречило исторической памяти народов СССР и тем непреодолимым ограничениям, которые накладывали географическая и геополитическая реальность, доступность ресурсов и уровень развития страны. Согласиться на такое изменение значило отвергнуть голос здравого смысла.
2. Как пример успешного продвижения по пути увеличения наслаждений идеологи перестройки дали советским людям Запад, представленный светлым мифом. Активная часть населения приняла этот пример за образец, оценив собственное жизнеустройство как недостойное ("
Воздействие на массовое сознание было столь эффективным, что образ Запада к концу 80-х годов стал на короткое время поистине вожделенным, что было немыслимо еще за пять лет до этого. Такая массовая зависть к идеализированному образу "чужого дома" с отрицанием своего дома — признак разрыва со здравым смыслом. При ее внедрении в политическую практику она неизбежно должна была повести к национальной катастрофе.
3. Для перехода к жизнеустройству, направленному на увеличение наслаждений, требовалось глубокое изменение в культуре. Поскольку стремление к наслаждениям, связанным с потреблением, не имеет предела, то с новым критерием жизнеустройства оказывались несовместимы два главных устоя нашей культуры —
Начиная с 1987 г. в СССР была начата и быстро нарастала кампания по внедрению в массовое сознание жесткого и зачастую вульгарного социал-дарвинизма и даже мальтузианства. Разрушение "культурного ядра" путем внедрения мальтузианских представлений о человеке привело к расщеплению сознания людей. Новая антропологическая модель, воспринятая на уровне идеологии, вошла в противоречие с глубинными уравнительными идеалами, которые не удалось искоренить (см. рис. 21).
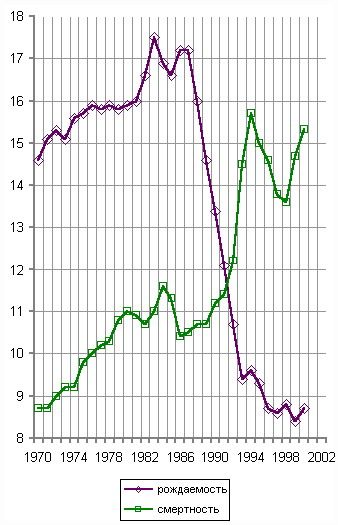 |
Рис.21 Рождаемость и смертность в РСФСР и РФ (на 1 тыс. населения)
4. Посредством дестабилизации сознания и увлечения людей большим политическим спектаклем удалось осуществить "
Обычные люди, не вовлеченные в толпу, обладают здоровым консерватизмом, вытекающим из исторического опыта и способности предвидеть нежелательные последствия изменений. Эти свойства гнездятся в подсознании и действуют автоматически, на уровне интуиции. Этот подсознательный контроль был в СССР устранен из общественного сознания в ходе перестройки.
5. За время перестройки в сознание советских людей вошло много прекрасных, но расплывчатых образов —
Положение советского человека оказалось еще тяжелее — перейдя на язык неопределимых понятий, он утратил возможность общения и диалога со "своими" и даже с самим собой. Логика оказалась разорванной, и даже сравнительно простую проблему человек стал не в состоянии сформулировать и додумать до конца. Мышление огромных масс людей и представляющих их интересы политиков стало некогерентным, люди не могут связать концы с концами и выработать объединяющих их проект — ни проект сопротивления, ни проект выхода из кризиса. Они не могут даже ясно выразить, чего они хотят.
Приняв вместо ясно усвоенных житейских понятий понятия-идолы, идеологические фантомы, смысл которых не был определен, добрая сотня народов СССР оказалась в руках политических проходимцев. Поддерживая или отвергая предлагаемые им проекты, предопределяющие их собственную судьбу и судьбу их детей и внуков, миллионы людей следовали за блуждающими огнями фантазий.
6. Идеологическая машина перестройки произвела большую работу по разрушению коллективной исторической памяти советского общества. Были очернены, осмеяны, перемешаны символы-вехи национальной истории. Затем был создан хаос в системе мер, оценок и даже временной последовательности событий, образующих историческую картину. Была подорвана способность общества вырабатывать коллективную память даже самых недавних событий — по прошествии всего нескольких месяцев они вытеснялись, стирались из памяти. Общество в целом и каждый человек в отдельности потеряли возможность анализировать прошлое и использовать его уроки для того, чтобы определять свою позицию в конфликтах настоящего.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |