"Вибратор" - читать интересную книгу автора (Акасака Мари)
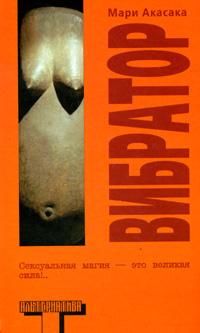 |
Мари Акасака Вибратор
Вибратор
Сдохни, ты, старый ублюдок. И ты — с ним вместе, соплячка. И ты — с ним вместе.
Голоса реально действуют мне на нервы.
Какого хрена ты ничего не сказала какого хрена ты просто застыла какого дьявола ты не ответила как надо черт ты ведь знаешь насколько опасны эти сучьи дети преотлично знаешь что их с лица земли стирать надо ведь знаешь или нет?
Мысли бродят кругами у меня в голове. Мои собственные мысли меня же и оскорбляют. Эй, я не такая, я права не имею учинять хрен знает что, на моем месте волей-неволей приходится вести себя соответственно своему возрасту. Жалкая попытка протестовать. А потом все слова как-то враз прекращаются, мысли резко отступают. И в тишине я слышу голос, который не могу контролировать.
Вести себя соответственно возрасту… или дать ярости возрасти?
Я инстинктивно оглядываюсь. Слова, похожие на те, что я произнесла, то же нелепое извинение — «вести себя соответственно возрасту», — но голос совсем другой. И я сразу же понимаю — этот голос произнес не «вести себя соответственно возрасту», а «дать ярости возрасти». Три ха-ха. Прелесть какая. Хочешь, значит, дать ярости волю, кровь кипит, а ты подыхаешь от желания прибавить огня, хочешь выжечь себя дочиста, точно, да? Нет, ты скажи — точно? Верно тебе говорю, деточка, — ты ж уже на грани взрыва была! Вот и надо было кишки этого ублюдка старого на кулак накрутить, и его, и соплячки поганой. У тебя бы силы на это хватило, да или нет? Ты не дура. Ты побоялась работу потерять, ты много всякого дерьма потерять боишься, только — знаешь? Суть — всего лишь в том, что тебе уверенности в себе не хватает, просто и ясно. И не надо мне лапшу на уши вешать, что, дескать, боялась разрушить атмосферу дискуссии, не надо врать, нечего вину на других перекладывать.
Так я в первый раз услышала голос, который не могу контролировать, на людях, в огромной толпе — и пребывала в опасной близости от желания заорать.
— Ах да… Я ж вина купить собиралась, я ж за этим сюда и пришла, — говорю тихонько вслух, пытаясь снова собраться со своими мыслями. А после неожиданно решаю переложить эти слова на музыку, принимаюсь напевать. Белое, белое, белое вино, белое, белое, белое вино, а на дрянь французскую не-по-хо-же-е, сладкое, сладкое и немецкое, белое, белое сладкое вино… А кислятину не любим — поп, поп, поп! Реальный мир возвращается, ну, по крайней мере относительно. Интересно, почему в Германии не производят красного вина? Прикидываю возможные причины. Но к добру это не приводит — все начинается по-новой. Что значит — да производят они красное, просто здесь его нет? Нет, немецкие вина — белые. Бе-лы-е они, бе-елые, о-фи-ги-тель-но белые, белые-пребелые, о Мадонна, Мадонна, Мадонна Пресвятая всемилостивая, ну почему же в Германии не производят красного вина? Что значит — да производят они красное, просто здесь его нет? Нетушки, немецкие вина — белые, о Мадонна, Мадонна, Мадонна сладчайшая, ну отчего это нет в Германии красных вин?
Вот оно. Все по-новой. Поехали. Они опять принимаются доставать меня своей бесконечной болтовней. Снова ведут беседы у меня внутри. Трепотня, трепотня, трепотня, трепотня, вопрос — ответ, вопрос — ответ. А что хуже всего, на сей раз трепотня-трепотня-трепотня вообще пошла по замкнутому кругу.
В конце концов я все ж таки не выдерживаю. Ору во всю мочь:
— Эй, заткнитесь на хрен, задолбали уже! — а может, и не кричу. Может, я борюсь молча, изо всех сил борюсь с нарастающим изнутри отчаянным криком. По-любому, голоса стихают, и в голове моей воцаряется абсолютный покой. Я бессознательно оглядываюсь. Большой универсам, ночь длится и длится, все как всегда, никакой разницы. Нынче у нас — 14 марта. Великий день! Месяц прошел после святого Валентина. И когда ты сердце отдашь ему в плен, отдаст ли тебе он свое взамен? В этот день прекрасный мужчина узнает, насколько она его страсть разделяет! Черт, нет, надо за собой следить. О’кей, надеюсь, вслух я пока что ничего не сказала. Не трепите нервы, мать вашу, тоскливо стенаю в душе. Хотелось бы верить, что никого из вас, козлов драных, давно уже не одурачить всеми этими Аппаратами Искусственного Поддерживания Страсти. На меня, хорошо это или плохо, никто не обращает ни малейшего внимания. «Семейная выгода» — магазины для счастливых семей!» Нет у меня никаких странностей поведения. Никто на меня подозрительно не косится. Все в порядке. Просто слишком много мыслей у меня в голове, вот и все. Интересно, а как реагируют на меня другие люди? Думаю, абсолютно нормально: просто бизнес-леди средней руки повеселилась вечером в центре, а теперь домой возвращается. Да нет, для бизнес-леди у нее слишком шмотки экстравагантные, говорю тебе, какая-то эта девица странноватая. Нет, нет и нет, я просто слишком сурово к себе отношусь, и все, ничего больше. Истязаем, стало быть, себя за то, что не хватило пороху поступить, как хотелось? То мое «Я», которому бы надо действовать, а не дать себя переспорить, то мое «Я», которому бы надо протестовать, — это они сейчас бушуют во мне, выплескиваются в слова и фразы? Да ладно, так уже сколько раз бывало! Я вечно нахожу у оппонентов слабые места только задним числом. Слишком поздно приходят слова, которые повергли бы их в прах… хвати у меня ума их в дело пустить. Все аргументы — только задним числом. Вечно так случается. Недостаточно быстро я реагирую.
Так ты поэтому и писать стала?
Голос вернулся. Мужской, но асексуальный. Музыкальный. Безжизненный.
Не надо меня об этом спрашивать! Мотаю головой, пытаясь вытряхнуть оттуда голос. Не задавай мне таких трудных вопросов! Не спрашивай. Просто — не спрашивай. Черт-черт, я даже не знаю, кто ты такой. У меня нет собственных слов. Я не умею писать собственными словами. Работа у меня такая? А может, я просто слышала слишком много слов? Слов слишком многих людей? Ничего, ничего своего у меня нет, вот я и решила заполнить пустоту чужими чувствами.
Ощущение беспомощности давит мне на плечи грузом столь тяжким, что я едва не падаю под его бременем на пол. Только что из меня насильно вытянули ответ из тех, о которых я никогда и ничего даже знать не желала.
Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте, — самый слабый голос из всех, что приходили ко мне сегодня, мягкий шепот, урезонивающий, умоляющий; голоса, которые вообще не поддаются моему контролю, пристают с разговорами, лишь когда я особенно напряжена или смертельно устала, — перестаньте ссориться, просит голос очень тихо, на последней грани восприятия. Понятия не имею, чей это голос, но похож он на тот, что я знала когда-то давным-давно. Такой голос получился бы, собери вы все, что существует в этом мире, перемешай в однородную массу и вытяни в единую тонкую нить, — и голос этот возникает невесть откуда, как ветер из пролома в старой, полуразрушенной временем стене, которой окружила я себя.
Я ощущаю мучительную нежность к неведомому существу, что умоляет сейчас у меня внутри, просит голоса остановиться, у меня сердце за него кровью обливается, хочется защитить и прижать к груди это крошечное нечто, явившееся на свет в попытке меня защитить. Но еще глубже внутри меня живет неизбывная ярость, пересиливающая нежность, я чувствую — эта ярость мечется во мне, пронизывает сверху вниз, с головы до пят. Так и пустила бы сейчас на воздух все, что вижу, без изъятия, — сдохните все на хрен! Сдохни, старый ублюдок, и ты сдохни, и соплячка вместе с тобой. И ты подыхай! И ты, и ты, и все вы! Это ведь из-за вас страдаю я так страшно, верно? Это все вы стараетесь в угол меня загнать! То мое «Я», что хочет испуганно сжаться в комок, и то мое «Я», что мечтает в клочья разнести все вокруг — оба они, оба — это Я… и поэтому я просто стою здесь, как статуя.
— Ах да… я ж вина купить собиралась, я ж за этим сюда и пришла… — говорю опять, словно только что вспомнила. Мальчишка-подросток, обернувшись, бегло взглядывает в мою сторону.
Я так часто в этот универсам захожу, что всю его систему работы наизусть выучила. Знаю, какие продавцы в какое время работают, когда чья смена заканчивается… все знаю. Постоянно выхожу из дома и иду туда. Единственный универсам поблизости, где продается все, что нужно мне по ночам. Конкретизируя — тщательно подобранный ассортимент съестного, газировка и алкоголь. Любопытно, и когда ж это все началось?.. Размышляющие внутри меня голоса сделались столь нереально громкими, что по их милости стало невозможно уснуть. Чаще всего то были мои собственные мысли, но нередко среди них попадались и обрывки фраз, услышанных от других людей во время интервью, чужие слова смешивались с моими, и тогда мне удавалось отвечать на вопросы в соответствии с собственными представлениями о том, как бы следовало это сделать. Сцена за сценой переигрывались сообразно моим желаниям… Случаи, когда мне отчаянно хотелось признаться собеседнику, как меня тронула его или ее история. Случаи, когда я изнывала от желания сказать какому-нибудь дерьму — все, хорош гнать, но вместо того, чтоб плюнуть и выложить все как есть, старалась либо сохранять высокую объективность, либо подыгрывать интервьюируемому, придерживая собственные желания в узде.
Голоса, значится, принадлежали или мне самой, или тем, с кем я говорила, — все до единого. Раз или два, правда, я слышала слова, принадлежавшие мамаше какой-нибудь девочки, с которой я дружила еще в младших классах, что-то в этом роде. Идеально сохранившиеся воспоминания, пришедшие неведомо откуда — ну, по крайней мере мне так казалось, — удивляли, но голос, что я не смогла бы определить как некую часть своего прошлого, не возникал ни разу.
Прошло какое-то время, и додумалась я до одной штуки. Сообразила, что заснуть неплохо помогает спиртное, потому что, когда я пьяна, голосов становится поменьше. Расстояние между вопросами и ответами все увеличивается, а потом один за другим, один за другим голоса и вовсе исчезают, и я проваливаюсь в глубокую пучину нормального сна.
Но золотые деньки моего романа с алкоголем оказались, увы, слишком кратки.
Несомненно, существуют ситуации, когда изначально ясно: если уж начинаешь пить, то готовься к тому, что тебя затянет по самое не могу. У пития нет нижней границы. В реальности я пью вовсе не для того, чтоб уснуть, — просто хочу сознавать, что в мире не осталось ни черта, кроме меня и выпивки. Перестаю думать о завтрашнем дне — зачем, коли весь мир — лишь я и выпивка! Ощущаю себя всемогущей. Чувствую, как кипит во мне энергия, и идеи новых и новых статей одна за другой стремительно зарождаются глубоко в сознании. Такое потрясающее ощущение — с трудом сдерживаешься. И тогда, если, допустим, кто-нибудь звонит мне по телефону, мне так ненавистна самая мысль ослабить блаженство, в котором я пребываю, хотя бы чуть-чуть утратить настроение момента, что, даже если мне до зарезу надо в туалет, я не говорю об этом собеседнику, не прошу позвонившего подождать минутку. Потому что меня трясти начинает, стоит только представить себе, каково это — выйти из туалета и осознать, что для человека, с которым ты только что разговаривала, все темы уже исчерпаны, и, очень возможно, для тебя они исчерпаны тоже, и преотлично ясно: как ты ни старайся восстановить исчезнувшее удовольствие — все, его уже нет, ощущение потеряно и больше не вернется. Я этого не выношу. Не способна вынести. Так что как-то раз я просто протянула руку, взяла пустую банку из-под кофе, кофейную кружку, огромную пластмассовую миску из суши-бара, все подряд сосуды, какие на глаза попались, — и мочилась в них, не прерывая разговора, прямо с трубкой в руке. Поразительно, сколько жидкости в себя мочевой пузырь вмещает — гораздо больше, чем я могла вообразить. Банка наполнилась доверху, и кружка кофейная до самых краев, и миска тоже, и еще чуть-чуть оставалось.
Я судорожно вышвырнула ручки из цветастого стаканчика и использовала этот стаканчик по тому же назначению.
И тогда наконец все закончилось.
По утрам после таких ночей я просыпаюсь в отчаянии — тягостном, как крест. В комнате — несусветный бардак, не то зрелище, какое стоит наблюдать в безжалостном дневном свете. О, это отчаяние — оно камнем давит на мое тело, делает усилия подняться невозможными, оно вонзается прямехонько в нервные окончания, — нет, от него надо избавляться. И, даже не задумываясь, я хлопаю очередную стопку джина. Подобные ситуации повторяются одна за другой, без конца накапливаются. Как долго может это продолжаться? Но если что-то происходит, если надо спешить или готовиться к новому интервью, опьянение порождает во мне некую загадочную силу, и ощущение это заставляет верить: я — девушка, которая умеет дела делать, и мне это нравится.
Вторая штука, которую я научилась использовать, — искусственно вызванная рвота. Случилось это примерно тогда, когда от бесконечного пития я начала толстеть, так что вышло, что я одним выстрелом двух зайцев убиваю. Пошла я брать интервью у девчонки, страдавшей пищевым расстройством, — и испытала просветление. У меня булимарексия, объяснила она. Булимарексия? А что это? Если вы отказываетесь есть, если не принимаете еду, у вас анорексия. Если едите чересчур много — значит у вас булимия. А если сначала наедаетесь до отвала, а потом все съеденное выблевываете, если практикуете то, что называется искусственно вызванной рвотой, — значит у вас булимарексия. Термин такой, его для обозначения промежуточного состояния придумали, понимаете? Правда, сейчас его просто булимией называют. Вот это — про меня, вот такое у меня заболевание.
— А как вы полагаете, чем вызвано ваше расстройство? — спрашиваю. Говорю быстро, чтоб она не успела замкнуться в себе.
Возникало подозрение, что она будет просто снова и снова повторять одно и то же — я булимарексик, я булимарексик! — и больше ничего, если не заставить ее прекратить. Ножки у нее были невероятно тощие, в промежутке между ними отлично видно, что происходит на другой стороне; было заметно, как выпирает у нее каждая косточка, были заметны все сочленения суставов… все так, и при этом, между прочим, на девчонке была мини-юбка. Я, похоже, просто не врубалась в ее представления о прекрасном. Девочки с пищевыми расстройствами… люди говорят, мы хотим, чтобы в Токийском заливе была поставлена копия статуи Свободы, похожая на одну из нас. Так и говорят. Говорят — каждая только и думает: ах, я — самая красивая на свете! И это точно, мы и правда хотим быть самыми красивыми, понимаете? Но если на тебя все равно никто никакого внимания не обращает, только одно и остается — заболеть. И потом, продолжала она, если уж у тебя булимарексия, ты так замечательно спишь! Я уставилась на нее.
Поначалу, во время первых экспериментов с искусственно вызванной рвотой, мне было очень страшно. Приходилось постоянно повторять себе: главное в жизни — приобретение нового опыта. В первый раз было больно — конечно, мне ведь никогда раньше не приходилось рвать так основательно, по крайней мере по собственной воле. Но в ту ночь, как ни дико это звучит, я и впрямь спала отлично, не просто отлично — замечательно. Спала сладко и мирно, как дитя у материнской груди. Я принялась рыться в самых разнообразных книгах, посвященных пищевым расстройствам, — и вот что я там нашла. Рвота вызывает у человека непосильный для его тела стресс, и тогда высвобождается огромное количество эндорфинов, призванных смягчить негативный эффект. Так оно и работает. Искусственно вызванная рвота — штука, отменная разом в трех отношениях. Пока ты ешь — вкусно. Когда рвешь — полезно в смысле сбрасывания веса. Ну и конечно, спишь потом как убитая. Я не выясняла это эмпирическим путем, нет, я перешла к экспериментальной стадии лишь после того, как провела некоторые теоретические исследования в этой области, так что, с точки зрения здравого смысла, поведение мое казалось вполне логичным. Проводишь такие вот маленькие эксперименты — и сознаешь: все у тебя под наблюдением. Я, стало быть, и решила, что могу целиком и полностью себя контролировать.
Только вот одно маленькое «но»: рвота начала мне нравиться. Не хотелось тратить впустую съеденное, я ж всегда питалась только тем, что любила, ловила кайф от вкуса и запаха… однако если речь идет об отказе от настоящего удовольствия, это не ко мне. Невероятное ощущение покоя, накатывающее после рвоты, — нет, естественным путем такого точно не добиться, такого просто не может быть — и все. Вообразите: вы можете наслаждаться этим ощущением, не прибегая к помощи всяких там таблеток, используя лишь вещества, изначально содержащиеся у вас в организме! Прямо волшебство — потрясающая, магическая диетическая программа; странный алхимический процесс, происходящий в моем теле, только сто десять фунтов плоти, чистейшей, без примесей плоти — и все. Я обнаружила: когда дело доходит до рвоты, я — стопроцентный гений. Я пью и пью, когда тошнить начинает — совершаю марш-бросок в ванную, скоренько так, резво блюю — и все, я опять готова к бою, можно надираться по-новой. Может, во мне от природы эта способность заложена, и что же она такое? Талант, который дается лишь немногим избранным, а если его у тебя нет, значит, никогда и не будет. У меня — был, к добру или к худу. И потому всякий раз, как телу моему уже становилось хреново, а мозг еще не был удовлетворен, всякий вечер, когда сознание мое отчаянно просило добавки, всякую ночь, когда я квасила литрами, а назавтра предстояло серьезное, важное дело, я непременно устраивала рвоту. А на следующее утро отправлялась на работу — и чувствовала себя преотлично! В подобных ситуациях я чувствовала себя победительницей.
В мире, которым правят мужики, таким манером женщине гораздо проще выжить.
В мои расчеты, однако, вкралась одна ошибка — я никак не могла взять в толк, что выблевывать алкоголь и выблевывать еду — вещи абсолютно разные. Люди изначально стали употреблять алкоголь удовольствия ради — крепкие напитки применялись на празднествах, — так что, если вы не даете спиртному впитаться в организм, эффект разительно отличается от того, который производит отторжение еды. Глупо, конечно, звучит, но я в эту концепцию не врубалась совершенно. Стоит еде начать смешиваться с желудочным соком — и все, рвота становится болезненной. Так что надо уметь вычислять идеально точное время, а еще, перед тем, как все случится, надо пить легкие газированные напитки — они, как я обнаружила, помогают лучше всего. («Кока-кола» почему-то действует слишком интенсивно — может, из-за запаха, может, оттого, что многие ее ингредиенты — стимуляторы, не знаю точно.) По-любому, при помощи жидкости — ну, скажем, просто минералки — вы размягчаете еду в желудке до строго определенной консистенции, скажем, желеобразной, и потом выблевываете ее прямо-таки молниеносно и разом. Пока это происходит, из глаз текут слезы. Потому ли, что вам грустно, потому ли, что жаль себя, а может, это — обычная физиологическая реакция, вовсе не связанная с эмоциями, как не связаны с ними слезы морской черепахи, откладывающей яйца в песок? Понятия не имею. Знаю только — дай этим слезам волю, и остановить их уже невозможно. Потом начинает трясти — дрожь, доселе таившаяся где-то в самых дальних глубинах, прорывается наружу вместе с соленой жидкостью, льющейся из глаз, — и унять эту дрожь тоже невозможно. Как только вода, подобная морской, заливает щеки — вместе с нею из меня словно изливается все, что копилось в сознании. Конечно, я все равно не понимаю, отчего плачу, возможно, происходит что-то типа катарсиса, в таком примерно роде, а возможно, дело просто в тараканах у меня в голове, понятия не имею, — я просто плачу и плачу, а иногда еще и палец начинаю сосать. А потом, как ребенок, потихоньку засыпаю.
С кожей у меня стало реально паршиво. Если соскальзывала рука и мне случалось порезаться — ножом или чем еще, — порезы не заживали заметно дольше. Казалось, ранки не затягивались по сто лет, кожа рядом плотная, багряно-лиловая. До того дошло, что ногти у меня не просто ломались — они постоянно расслаивались, ведь я больше не обеспечивала свой организм нужным количеством питательных веществ.
Ладно, зато спала и впрямь отлично. Надоедливый кавардак мыслей, бесконечно преследовавших меня, пока наконец не заставлю себя уснуть, прекратился совершенно. Только вот однажды — не помню точно когда — я начала слышать голоса, которые не могла контролировать. Как-то ночью завершила я свой обычный ритуал — последовательность действий, принявшую к тому времени уже церемониальный характер, — и как раз собиралась упасть в объятия мирного и глубокого сна, и вдруг последняя бодрствующая часть моего сознания принялась нервничать, выключила ли я газ. Вопрос задавал никогда ранее не слышанный мною голос, голос, упрямо отдававшийся эхом у меня в голове. Весьма неприятная получилась ситуация. Так что даже когда я изо всех сил постаралась отключить свои мысли и кое-как уснуть, сознание мое наотрез отказалось прекратить думать. Мне необходимо было сознавать, что мысли, проносящиеся в моей голове, говорят моим собственным голосом. Я пребывала в растерянности.
Рвать, правда, я не прекратила и тогда.
Может, оттого, что ужин свой я уже переварила куда сильнее того, чем когда еду можно из себя извергнуть… да, наверно, потому я сюда и пришла. Блуждаю бессмысленно по слишком ярко освещенной «Семейной выгоде». Думаю.
Нет и нет. Что-то здесь не то. Я в клуб пойти хотела. Да, точно, теперь вспоминаю — поняла, что уснуть нынче ночью никак не получится, вот и решила в клуб сходить. Но клуб, в который я намылилась, закрыт оказался. Морда у меня в этот раз — чуть получше обычного, так что темные очки я сняла, надела контактные линзы. Помню, каким густым слоем наносила под глаза крем-пудру — а когда ж и где я это делала? Забыла начисто. В туалете какого-то салона компьютерных игр… может, да, а может, и нет. Вот не могу вспомнить — и все, хоть убейте. Переваренную еду я никогда не выблевываю, так что с самого начала, еще когда ела, ясно было — сегодня рвоты не будет. Как только еда начинает смешиваться с желудочным соком — все, блевать больно, словно твой желудок в мясорубке проворачивают, а кислота разъедает зубы и слизистую гортани. Я сегодня, наверно, целую тонну сожрала. Когда ужинаешь с людьми, которых, считай, не знаешь, одолевает такая скука, что по итогам всегда и ешь, и пьешь слишком много. Наверно, именно так чувствуют себя заядлые курильщики, когда начинают задумываться о количестве высаженных сигарет. Черт, мне надо было просто сказать «нет», когда закончилась эта гнетущая журнальная дискуссия, а они вдруг предложили сходить поужинать. Именно так и надо было поступить — сказать «нет», а я взяла и согласилась… но и то сказать, я себя такой усталой чувствовала, такой замученной, что ясно поняла: не съем хоть что-нибудь — свалюсь, идти не смогу. Вот решайте сами: вы бы оторвались по полной, случись вам ужинать в компании таких засранцев, вы бы наелись вволю — да или нет? Накладывай себе сколько пожелаешь с фуршетного стола: креветки, крабы, салаты, лапшу с мясом, вареную лапшу — все, что я обожаю, только вот в тот раз я и вкуса-то еды не ощущала. Припоминаю — да, я, считай, в одиночку бутылку китайской водки высадила, но и тогда кожа не утратила этой дурацкой сверхчувствительности, и я ощутила острую необходимость всем телом окунуться в волны громкой, очень громкой музыки. Если ты в клубе, натыкаться на окружающих — нормально.
В первый раз, когда сталкиваешься с кем-то, гневно на него обрушиваешься. Столкновение вызывает ярость. А потом, без малейшего перерыва, сталкиваешься с кем-то еще, а потом — третье столкновение, четвертое, пятое, ты ударяешься о них разными частями тела и чувствуешь — ярость начинает рассасываться, сменяясь медленно исчезающей болью: ярость разбита в осколки, разъята на составные части, ни одна из которых более не является гневом; тело же твое одевает нечто, похожее на прочную пленку тупой ледяной усталости. Желание сшибаться с людьми под немыслимыми углами пропадает, и ты уже не наталкиваешься на них — прогибаешься, тянешься, вскидываешь дрожащие руки, чтобы коснуться тел танцующих рядом, трешься о них. Словно крадешь частицы чужих личностей. Глубоко внутри загорается эротическое возбуждение. Благодаришь себя, что живешь вот так, что не позволяешь ярости овладеть собою. В ситуациях, подобных этой, хочется оказаться в действительно огромном клубе с невероятной, потрясающей акустикой. В клубе, забитом настолько под завязку, что, если поглядеть сверху, танцующие в нем выглядят как ягоды в корзинке. В клубах никогда не бывает пауз между разными мелодиями. Неудивительно — зато очень, очень важно. Ритм безостановочно пульсирует где-то в воздухе, ритм безостановочно пульсирует у тебя внутри, где-то в глубинной глуби твоего тела, ты — покорная жертва звука. Кажется, что тебя здесь и вовсе нет. Кажется: ты — это вовсе не ты.
Мне нужно прикоснуться к кому-нибудь. Если прикоснуться к кому-нибудь слишком трудно, значит, мне нужен повод для прикосновения. Я опасаюсь людей, до которых нельзя дотронуться, опасаюсь тех, чьей кожи не могу коснуться собственной кожей, пусть даже совсем легко, просто ладонью к ладони. Возникает чувство, что на меня вот-вот нападут, ну а тогда я готовлюсь напасть первой. Боюсь, в состоянии самозащиты я окажусь чересчур агрессивной, просто наброшусь внезапно и убью кого-нибудь…
И какого хрена я вообще согласилась участвовать в этой недотраханной дискуссии?
Продолжая тихонько ругать себя последними словами, брожу взад и вперед по уставленным товарами просторам «Семейной выгоды» и более ни черта не делаю. Может, мне польстила возможность сделать себе более громкое имя — примерно то же, что кайф, который я испытываю от того, что теперь меня называют журналистом, а раньше звали всего лишь репортером? Может, я решила, что это будет для карьеры моей полезно — выйти наконец на свет юпитеров? Было дело — я носилась по городу, звонила в двери людей, переживших какие-то трагедии, садилась и спрашивала их и их родных: «Вы можете описать, что вы сейчас чувствуете?» Такая вот милая у меня работка была. Но потом я начала заниматься действительно серьезными случаями типа школьников, подрабатывающих проституцией (называйте как хотите, но проституция — она проституция и есть), а также СПИДом, и наркоманией, и проблемой бездомных, и вариантами решения проблемы бездомных, и малолетними преступниками, и малолетними наркодилерами, и трансплантацией органов, и всеми «за» и «против» эвтаназии и клонирования. И вот когда я начала писать о подобных вещах, да еще и освещая их со своей собственной, необычной точки зрения, имя мое стало привлекать внимание немалого количества людей. Ну вот, а однажды все просто случилось, меня как громом поразило, озарение почище алкогольных, и я подумала: вот оно, детка! Вот он, тот великий прорыв, которого ты ждала! Меня пригласили участвовать в серьезной дискуссии, устраиваемой знаменитым глянцевым журналом.
Темой обсуждения стало: «Что заставляет мальчиков-подростков стрелять в людей?» После жестокого убийства и нескольких покушений, в которых был повинен четырнадцатилетний мальчишка из Кобе, юноши — чаще всего восьми- и девятиклассники — снова и снова убивали и совершали чудовищные преступления — преступления, несомненно, выглядевшие так, будто в них заложено некое скрытое послание. Если женский глянцевый журнал посвящает подобной теме целый выпуск, то одно из двух: либо тема действительно сенсационная, либо журналу катастрофически не хватает идей для нормальных статей. Этот журнал всегда работал с фотографами, известными отличными съемками живой натуры. Я ведь тоже в масс-медиа не так чтоб чужая, мне это было известно. Тут вот в чем фишка: есть фотографы, отлично снимающие живую натуру, и фотографы, отлично снимающие предметы, и журналы работают как с теми, так и с другими. Так что ребята, которые снимают людей, — это ребята, которые снимают людей первоклассно. Ясно. Но все равно я за три дня до дискуссии решила — надо выглядеть на фотографиях как можно лучше. Экстренно необходимо временно завязать с рвотой, очень уж это на коже сказывается. Но как только я стала об этом думать, стресс от категорической невозможности рвать подарил мне бессонные ночи, так что я принялась выжирать дикие смеси из снотворного и алкоголя, и в итоге физиономия у меня чудовищно распухла.
А перед камерами надо выглядеть прилично.
Обстоятельства, увы, оставляли не слишком широкий выбор возможностей. Я решила остановиться на образе эксцентричной, богемной дамы, которая в принципе не слишком-то любит подобные сборища, но зато способна держать себя в руках даже во время самого жаркого спора. Глаза мои так распухли, а мешки под ними были столь основательны, что волей-неволей пришлось прикрыть их очками с бледно-лиловыми стеклами. Химия моя уже начала отрастать, но я как следует поработала с щипцами для завивки и уложила волосы тугими спиралями, ну прямо из парикмахерской, а вдобавок надела фиолетовую шляпку, чтоб отвлечь внимание от своей кожи. Волосы у меня очень объемные, они водопадом вырывались из-под туго прилегающей шляпки — идеально соблюденный баланс, отличный стиль, мне самой и то понравилось. Слушайте, думайте все что вам угодно, но мы же, в конце концов, модный журнал тут обсуждаем!
Вот искренне любопытно, чем руководствовались и о чем вообще думали устроители дискуссии, выбирая участников? Университетский профессор лет так пятидесяти с хвостиком, доктор философских наук. Какая-то звездочка телесериалов, которой только-только двадцать стукнуло. И я. Вот, значит, три персоны, которым предстояло сойтись в тот день в споре: мужчина, способный увидеть картину в целом; девушка почти того же возраста, что и подростки, которых мы обсуждаем; и женщина, верящая, что важно всегда влезать в чужую шкуру. Я понимала, на что они нацелились, собрав нас вместе, но почему-то не могла отделаться от дурного предчувствия. Редакторша оказалась прехорошенькой особой лет так под тридцать, похоже, весьма далекой от суровой повседневной реальности, фотограф — мужиком за тридцать. У него было детское лицо и смешные густые усы.
Каждый раз, когда фотограф снимал меня во время разговора, я полностью теряла концентрацию и была совершенно не в силах сказать что-нибудь более или менее осмысленное. Казалось, взгляд его проникал мне прямо под кожу. Прекрати это, перестань смотреть на меня, не надо заглядывать так глубоко. Не надо заглядывать мне в сердце. Лучше используй светофильтры, чтобы лицо мое показалось более гладким; кожа моя смотрится чудовищно, она страшно пересушена, на фотографиях она будет смотреться точь-в-точь как в обычной жизни, такая же грубая и потресканная. Не снимай меня в естественном освещении. Используй светофильтры, чтоб я выглядела прилично. На самом-то деле кожа у меня настолько грубая, что, должно быть, сильнее рассеивает свет. Кто знает, может, именно благодаря этому на фотографиях она будет выглядеть поровнее? Слышу щелчок фотоаппарата. Когда приходится волноваться о том, как тебя фотографируют, это ощущается физически — словно из тела твоего нервы клочьями огромными выдирают. Я не выдумываю. Просто не могу сфокусироваться. По коже бегут крошечные мурашки, они разбиваются на множество других, еще более мелких; кажется, что весь мир — это только поверхность моего тела. Значит, пока дифференциал уменьшается и уменьшается, пока единица измерения становится все меньше, интеграл — скажем, поверхность моей кожи, — все увеличивается… так, что ли, это происходит? Ухты, врубилась! Внезапно так и хочется восторженно захлопать в ладоши: надо же, впервые в жизни поняла разницу между дифференциалами и интегралами! Словно вспышка света в голове промелькнула. И именно тогда, когда я сообразила: не лучшее сейчас время на такие темы размышлять, тогда.
— А ваше мнение?
Мяч, значит, отбили на мою половину поля. Камера смотрит мне прямо в глаза. Делаю на морде надлежащее выражение, пару секунд держу паузу, расслабляюсь и начинаю говорить:
— Полагаю…
Мгновение ока, вот и все — смазанная в движении доля секунды, я и отреагировать не успела, — и молниеносный отклик камеры. Пытайся не пытайся рассчитать время — палец, щелкающий кнопкой, срабатывает слишком стремительно. В этой комнате приятно работать — огромное окно, яркий свет, солнечный полдень, — и фотограф не хочет использовать ничего, кроме естественного освещения. Ну пожалуйста, я тебя умоляю, прошу тебя, неужели так трудно воспользоваться светофильтром, воспользуйся светофильтром, загладь неровности у меня на коже, а пока будешь делать это — яви божескую милость, помоги мне еще и соображать перестать!
Твою мать, да ты хоть со вспышкой снимай! Фотограф продолжает снимать при естественном освещении.
— Иногда, когда отправляешься, скажем, за покупками, неожиданно становится тревожно. Понимаете, вы испытываете тревогу, хотя, по идее, должны бы получать удовольствие. Даже если вы что-то покупаете, телереклама продолжает вас преследовать, пытается снова поймать на крючок. «Вперед, настало время перемен! Продукт такой-то откроет для вас целый мир новых возможностей!» И так далее, и тому подобное. Они продолжают давить вам на мозги, пока вы невольно не начнете думать — а может, этот новый продукт действительно лучший? Так что купленные вами предметы начинают утрачивать свою привлекательность практически в самый момент покупки. Лично я временами отбрасываю покупку с глаз подальше, как только домой приду, распаковать ее — и то неохота. И еще — с тех самых пор, как я еще девчонкой была, если меня спрашивали, сколько стоит та или другая моя обновка, я всегда называла цену меньше реальной. Почему? Да потому, что я прямо-таки ненавидела себя за то, что купила эту вещь. Но откуда же идет эта ненависть?
Реклама и я — мы сосуществуем исключительно по рыночным законам, сомневаться не приходится, но мне кажется, что принципы купли-продажи в современном обществе стали основополагающими. Вот так я и живу на основе этих принципов — ничего больше.
Черт-черт-черт. Я сейчас единым духом выдала длиннющую речь, которую никто не поймет, кроме как в напечатанном виде. Ничего, полагаю, в гранках я ее подредактирую.
— И эта ситуация меня раздражает. Раздражает практически невыносимо. Я иду в банк — и хотя намереваюсь совершить совершенно законную операцию, скажем, снять деньги со своего счета и ничего больше, даже тогда — вдумайтесь! — я начинаю ощущать слабые сигналы тревоги, направленные окружающими в мою сторону, потому что я, допустим, слишком долго стояла, прежде чем взять из банкомата банкноты. В голове отзванивает звоночек, он звонит и звонит, звонит и звонит, тебя словно постоянно наказывают, и ты начинаешь задаваться вопросом — по какому, черт побери, праву тебя так травят, понимаете? И даже сам того не сознавая, ты пускаешь в ход клыки или… Суть, к которой я веду, такова: мы оказались в сплошном окружении подобных стимуляторов. Они везде и всюду, их вполне достаточно, чтобы превратить нормального человека в невротика, само ощущение этого давления уже бесконечно действует на нервы, сжигает нервные клетки с максимально возможной скоростью. И, разумеется, пока мы продолжаем жить в современном обществе, мы вынуждены стараться игнорировать такие вещи, а это означает, что нам приходится перманентно обманывать собственную нервную систему. Заставлять себя ничего не чувствовать. Так не случается ли, что, когда взвывает сирена настоящей тревоги, мы попросту ее не слышим? Не замечаем, даже если ситуация действительно опасна? Разве в подобные времена, в подобном состоянии, когда происходит что-то нелепое, что-то совершенно неожиданное, вы не испытываете ужас, и автоматическая ваша реакция не чрезмерно выраженный защитный инстинкт? Так ведь и происходит, верно? И знаете, что это означает? Это значит, что наши нервы, ответственные за реакцию на неожиданные события, уже задействованы на полную катушку. Так происходит и со мной. Когда бесконечные телерекламы доводят меня до ручки, я выхожу на улицу, вижу там совершенно незнакомых людей — и испытываю острое желание чертовски сильно дать им по мозгам. Скажем, вижу велосипедиста — и просто умираю от желания внезапно схватить его за шкирку и скинуть сукина сына с велосипеда на землю, уничтожить кого-нибудь одним выстрелом, не важно, — вы понимаете, что-нибудь в этом духе.
Детка, ты сама-то понимаешь, что за пургу несешь?
— Но ведь лично вы не совершаете реальных актов насилия?
— Нет, конечно.
— Тогда это просто пассивное сопротивление, не так ли? В том смысле, что вы отгораживаетесь от истинной борьбы?
— Простите?
На секунду я так фигею, что слова выговорить не могу. Спасите ради Бога. Что это за идиотический выбор слов? Да какой сейчас год на дворе, козел ты старый, ты как полагаешь? Мы тут что — в Объединенном студенческом комитете борьбы за гражданские права заседаем или как? Эта страна существует только в твоем воображении, чувак. Ты живешь в Лапуте, чувак. Черт подери совсем, я смею предположить, существует колоссальная разница между не нанесением ущерба другому человеку и пассивным, как ты изволишь выражаться, сопротивлением. Что вообще за хрень ты несешь, старый дурак, да какого черта мне вообще с тобой делать, какого хрена, нет, ты что хочешь, чтоб я тебя, мать твою, в клочки порвала, да? Мысли мои еще только пытаются сложиться во что-то внятное, когда…
— А «пассивное сопротивление» — это что? — вопрошает соплячка-телезвездочка.
И комната замирает.
После чего старикан во всей красе раскручивает перед нами дебильный силлогизм длиной во всю жизнь и еще пять минут. Подминает нас под себя жуткой возможностью того, что ежели существует разрыв между, с одной стороны, злостью и подавленностью, и с другой — поножовщиной или нападением на людей по малейшему поводу, так вот, ежели этот разрыв существует, однако не существует никаких логических объяснений самого факта его существования, он возьмет на себя смелость предположить, что этого разрыва не существует вовсе. А телестарлеточка все это время снова и снова пытается донести до нас два своих ценных довода, которые звучат примерно так: «Слушайте, нельзя же спорить, что у каждого из нас найдется в жизни один-два врага, которых на самом деле очень хочется убить, ведь правда?» и «Извините, но я что хочу сказать — я действительно думаю, что насилие — это очень возбуждает, ну, вы понимаете, и я совершенно уверена, что каждый представитель моего поколения примерно так и считает, серьезно…» Так разговор и продолжался, собеседники были абсолютно не способны понять и услышать друг друга — и, пожалуй, на свой лад это было очень даже увлекательно, вроде как прослушать краткий курс популярной психологии или что-то типа того, — в воздухе порхали термины «Эрос», «Танатос», «эдипов комплекс» и «гнев остраннения», употреблявшиеся к месту и не к месту, а я предпочитала держать рот на замке. Взгляд мой метался туда-сюда, как мячик для пинг-понга, и чувствовала я себя так, словно пришла материал для статьи собирать. Я застыла в глубоком молчании, а мысли занимало одно, но пламенное желание — надраться. В конце концов, при помощи выпивки напряжение снимается быстрее всего.
Говорят, нельзя смешивать психотропные препараты с алкоголем, но вот я, сказать по чести, такое сотни раз делала. Причина в том, что алкоголь действует как очень мощный органический растворитель. Алкоголь способен растворить что угодно — и превратить это в спиртовой раствор. Мозг оберегает себя от возможного вреда, отвергая большинство веществ, с которыми вступает в контакт, это делается при помощи какой-то хитрой штуки по имени «барьер кровеобеспечения мозга», но алкоголь пробивается через этот самый барьер на только так. Вот потому-то питие — одно из древнейших удовольствий человечества, по этой вот самой причине. Так что же происходит, если запиваешь таблетки алкоголем? Они срабатывают слишком хорошо, действуют по-настоящему быстро, прямо в мозг попадают. Мозг в основном состоит из липидов, то есть большая часть мозга — жир. А поскольку алкоголь — органический растворитель и, стало быть, способен растворить практически любую органику, он и жир растворять может. Я продолжала держать рот на замке в слабой надежде, что дискуссия поскорее подойдет к долгожданному финалу.
До меня дошло, когда я увидела собственное отражение в стекле витрин «Семейной выгоды».
Все это время я пила себе и думала: ну, просто пью — и все тут. Алкоголизм был проблемой каких-то старых мудаков из какого-то иного мира. Но в реальности я давно уже стала абсолютно зависимой. Да, я стала зависимой, я хотела использовать алкоголь в качестве органического растворителя, каковым он, кстати, и является, хотела, чтоб он растворил постоянное, неизбывное чувство моей инакости, уверенность, что все, находящееся вне моей кожи, мне не подходит. А под кожей-то — я, маленькая, вечно дрожащая, вечно съеживающаяся в комочек. Выпустить эту личность. Позволить ей выйти во внешний мир, не ощущая его чужеродности. Чтобы я могла трепаться по телефону сколько пожелаю. Чтобы расхохотаться над какой-нибудь глупейшей историей. Чтобы сократить эмоциональную дистанцию, которую мне необходимо пройти, прежде чем заплакать над чужим горем.
Это было… не знаю. Похоже, словами здесь не объяснить. Просто я оказалась на стороне тех, кто не хочет убивать, не хочет причинять зло окружающим. То же самое, что сказать — я стараюсь ломать и людей, и даже вещи как можно реже, пытаюсь наносить как можно меньше обид, и это ощущается так отчаянно — право, зареветь в пору. Но вот ведь в чем проблема: нежелание причинять боль всегда идет рука об руку с признанием собственной слабости, собственной неспособности к поступкам, а я так хочу забыть, и поэтому мне надо — правильно — еще выпить.
Потребность в алкоголе вернулась с победой.
Алкоголем я блюю, только если уж никак не могу удержаться или если в этом действии возникает некая практическая необходимость. Запаха и кислого привкуса просто не выношу. Это примерно то же, что сказать: хотите получать от рвоты удовольствие — вырывайте хорошей едой. Извращение полнейшее. Никогда и в голову не приходило чем-то подобным заниматься. Мысль о жизни без рвоты в уме у меня совершенно автоматически перетекла в мысль о желании выпить. У меня даже нет права смеяться над вымученными силлогизмами старого ублюдка… хотя нет, свою правду я чувствую отлично. Алкоголь, который попадает ко мне в кровь прямехонько через вкусовые рецепторы. Без промедления. Алкоголь, который всосется как можно скорее, алкоголь, курсирующий по моим кровеносным сосудам, — да, это единственное, что в силах помочь мне сейчас.
На Токио стремительно обрушился мокрый снег. Бутылка белого вина и бутылка джина. Вообще-то по-настоящему мне бы хотелось анисовой водки, но она уже закончилась. Бросаю бутылки в пакет и направляюсь к журнальной стойке у дверей, прихватываю несколько попавшихся на глаза изданий. В одном из журналов, кажется, какая-то моя статья быть должна, но я боюсь взглянуть. Мозг требует от меня одного — как можно скорее напитать его алкоголем, мое второе «Я» как умеет старается препятствовать «Я» основному — блин, эти ребятки у меня в голове никак не могут между собой ужиться. Женщина, злящаяся на ту, что умоляет о выпивке, совершенно не беспокоится, ей плевать, никого она удержать не пытается, нет, она просто стервозность свою проявляет. Мысли мои и действия совершенно не связаны между собой. Я бегло просматриваю содержание нескольких журналов. Питие и рвота — проблемы страшные, чудовищные, но что-то о них нигде не упоминается. Ни один журнал их и близко не касается — похоже, такие вещи вообще происходят только где-то на других планетах. Нет уж, скорее я почувствую симпатию к журналу, освещающему проблему молодежных байкерских группировок. У меня гораздо больше веры в моделей, подсевших на винт. И уж как удержаться от сочувствия к женщинам, признающимся, что они стараются любой ценой удержать своих любовников, что бы те с ними ни делали?
Я что — одна такая? Я что — уникальна?
Накатывает раздражение столь сильное, что противостоять ему уже невозможно. И еще — боюсь голосов… Господи, как же я мечтаю о едином, связном потоке мыслей! Стою, поглощенная чтением, листаю страницы журнала. Миура Рисако [1]. Это еще кто, черт подери? А, все, точно, вспомнила — жена Миуры Кадзу. Того футболиста. Он за какую команду сейчас играет-то — за «Верди Кавасаки»? Слушай, да ты откуда вообще эту фигню знаешь? Давно ты стала себе башку забивать и мозги плавить еще и проблемами Национальной футбольной лиги, ехидно интересуется голосок, и хотя я немедленно приказываю ему заткнуться, это прорывает плотину. Теперь у меня в голове — полное разноголосье, творят, что хотят, затеяли игру в «Угадай, какая команда Национальной лиги — из какого города»! «Белльмер»… Хирацука. Кашива? «Рейсоль». «Юбилей?» Ивата… Киото? «Перпл санга». Урава?.. «Редс». Заткнитесь на хрен. ИОКОГАМА? Два разных голоса создают мощный стереоэффект — вопят, явно соревнуясь, одновременно один кричит «Маринос», другой — «Флагелс», а потом еще один голос вклинивается — ладно-ладно, пока мы идем просто замечательно, но как же мы забыли «Ганба» и «Серизо» из ОСАКИ?!! — и я едва не взрываюсь.
— Ух ты, так она ребенка родила, надо же, — тихонько бормочу себе под нос. Снова с головой ухожу в чтение, листаю журнал. Плевать мне, Миура Рисако там или еще кто, плевать кто, я просто хочу снова оказаться на собственной стороне бытия. «Уверена, кроме меня, найдется не так уж много женщин, способных на девятом месяце беременности заниматься на велотренажере», — утверждает Миура Рисако. «И действительно, она выглядит сейчас так же великолепно, как и когда работала моделью», — продолжает автор статьи. Потом Миура Рисако возвращается, ее цитируют: «Я ощутила настоятельную потребность в действиях, понимаете? Примерно так: я должна снова стать собой — сейчас или никогда».
Потребность в действиях.
Я должна снова стать собой — сейчас или никогда.
Не сделаю сейчас — не сделаю уже никогда.
«В выходные мой основной мотив — расслабиться и насладиться своими хобби. Но в моем гардеробе вы не найдете потрепанной домашней одежды. Нет, я предпочитаю, чтобы основное настроение создавали элегантные и простые черные вещи от Ральфа Лорена или «Эмпорио Армани», а завершающим штрихом к облику становятся спортивная обувь и вязаные шапочки». Слушай, ты, сучка, как, черт подери, ты ухитряешься расслабляться, если превращаешь отдых в гребаные «мотивы»? «Расслабление: — тяжкая работа, которой занимаются в свободное время». Потрясающе, просто потрясающе. Ну и гадство же… Стоп. А на кого это я злюсь?.. И вот так — впервые за почти что десять лет в журналистике — я наконец-то постигаю значение слова «монтаж». Журналы не редактируют — монтируют. Конечно, в кино, телесериалах и всяких таких штуках тоже присутствует монтаж, а как же. Вопрос в том, что этот монтаж собою являет? Задача монтажера — создать образ некоего человека или группы люден, соединяя между собой сцены и эпизоды. Чтобы составить каждую из таких сцен, монтажер должен выбрать кадры с наиболее удачным освещением и склеить их вместе. А потом все, что было вырезано, тонны, километры пленки, просто выбрасывают. Кадры, выкинутые в мусорную корзину ради успеха кадров выбранных, брошенные и забытые вместе со всем трудом, потраченным на их съемку — со всей монотонностью и скукой, изнеможением и депрессиями, — нежелательные, нежеланные, это обыденность, повседневность, ведь большая часть жизни каждого из нас проходит именно среди кадров, которые вырежут на монтажном столе.
И пускай в статье и говорится о «Простых радостях и удовольствиях жизни», или о чем еще там говорится, не важно, — в ней собраны лишь сверкающие осколки целого, ничего больше. Не жизнь — монтаж. Полагаете, Миуре Рисако не случается днями напролет не вылезать из вытянутых на коленках треников? Полагаете никогда не случается? Она никогда не ходит с утра до вечера в пижаме, потому что даже простое одевание — и то слишком много сил требует? И эмоциональная нестабильность ей тоже совсем не свойственна? Ну конечно, сколько раз мне становилось очень скучно и одиноко, да, а муж вечно уезжает куда-то на матчи, а я иногда чувствую себя настолько несчастной, что двадцать, а то и тридцать раз за день мучительно хочу ему позвонить на мобильник и поговорить, просто поговорить. По-вашему, это ненормально? Конечно, если он в это время на тренировке или что-то еще в этом роде, я знаю, нельзя его отрывать, я прекрасно понимаю… просто заняться совсем, совсем нечем, и я одинока, одинока, и ребенок… Знаете, иногда я буквально ненавидеть своего мужа начинаю, а иногда перестаю испытывать материнские чувства к своему сынишке, как будто, понимаете, я никогда не научусь любить его по-настоящему, и тогда мне вдруг хочется его ударить, так сильно хочется… Странно. Ничего подобного в журналах для молодых мам не читала. Мне так страшно. Может, мне лучше к психотерапевту обратиться, может, это — самый разумный выход, как вы считаете? Один из голосов у меня внутри шепчет слова, которые должна бы произнести Миура Рисако, хотя, конечно, настоящая Миура Рисако никогда ничего подобного не скажет, а если и скажет — все равно из интервью это вырежут. Она независима, она естественна! Вот это женщина! А домохозяйки строят свои жизни по отредактированным сценариям. Да, я припоминаю, однажды пришла мода на этих странных персов — не хотелось бы называть их «талантливыми женами», а вот как насчет «жен знаменитостей»? Вы отлично знаете, кого я имею в виду. Хори Чими стала первой ласточкой. По-моему, с нее все и началось, хотя до конца я и не уверена, а потом появились они все — женщины типа Мита Хироко и Миура (в девичестве Шитара) Рисако, и так далее, и так далее. Все, что успели выскочить замуж, когда стало ясно — в развлекательной индустрии им уже недолго оставаться, и обрели новый жизненный статус, как же, они стали женами, которыми мечтают сделаться домохозяйки всех времен и народов. Да, еще одна такая есть, ну, совсем недавно еще вышла за того чемпиона, как же его — а, Хабу Ешихару, ну, та, чье лицо до сих пор еще красуется на каждой упаковке салфеток, которые в рекламных целях раздают на улицах представители кредитной компании… Я еще, помню, очень удивилась, когда эти фотографии увидела, только чьи же все-таки фотографии? Думаю, думаю, вспомнить не могу. Вот оно — Хатада Риэ. Стоп. Кажется, та, которая на салфетках — все-таки Икуина Акико. Ладно, не важно, может, для мужа ее это и значит черт-те что, но для масс-медиа — ни хрена. По сути, имеет смысл только гигантский разрыв между образом жизни «жен знаменитостей», восхваляемым журналами, и вашим собственным, он стимулирует потребление, он вызывает…
Депрессию. То, что обитает в интервале между абсолютным нулем и чувством удовлетворенности. Такова обыденность. Такова повседневность. Депрессия.
Депрессия смотрит на совершенно пустой экран компьютера в то мгновение, пока вы еще не начали писать. Просто один из примеров, не больше.
Возможно, именно от жажды любой ценой избавиться от этого чувства я и начала собирать слова чужих мне людей. Чужие истории, похожие на мою собственную, мои слова, обретающие жизнь где-то вовне, странное ощущение могущества, испытываемого от связи с миром. Собирать слова. Связывать слова. Связывать, потому что в процессе ты начинаешь видеть близость там, где ранее она казалась невидимой. Возникает чувство, что мир заставляешь крутиться именно ты. Речь каждого человека — фрагмент целого, но на какой-то миг каждый из этих фрагментов становится катализатором, и мое «Я» исчезает, стирается, и тогда накатывает волна немыслимого блаженства. Такие мгновения — наркотик, наркотик, на который я подсела, я должна снова и снова переживать эти секунды абсолютного наркотического опьянения, и, значит, я буду продолжать писать. Но всякий раз, как я заканчиваю, становится ясно: удалось воспроизвести лишь крошечную частичку мира — и все. Не важно, сколь много слов сорвала я с чужих губ, собирала-то их и располагала в нужном порядке все-таки я, — и если мне удалось расположить их верно, это, несомненно, удача, но, по итогам, усилия, затраченные на это, отнимут у меня и молодость, и красоту. Вот ведь какая хохма получается — тяжко жить, не ощущая хоть изредка, что тебе удалось чего-то достичь, а сохранять свою красоту и добиваться успехов — вещи, если честно, абсолютно несовместные. И что? Считай, все журналы не перестают утверждать, что надо как-то исхитриться совместить и то, и другое! Не хватает материала на выпуск, посвященный чему-то конкретному, вот они и предлагают усидеть на двух стульях разом. Попробуйте то, попробуйте это, пробуйте все подряд, советуют журналы. Эй, то, что вы говорите сегодня, как-то не больно сочетается с тем, что вы утверждали на прошлой неделе, вы не заметили? Если хотите действительно сохранить свою красоту, не ждите, что вам удастся добиться серьезных успехов. Живите осторожнее. Не выходите за рамки, не льститесь на то, что лежит за отведенными вам границами. Возможно, это и есть правда. Возможно, это — послание, которое отправляют «жены знаменитостей», а получают их последовательницы. Если верить всему, что пишут в журналах, вы никогда не заработаете приличных денег, вам даже на еду хватать не будет, вы можете сократить расходы на питание до отрицательных чисел, а концы с концами все равно не сойдутся, так что лучше с самого начала подцепить состоятельного муженька. Все во имя пущего потребления. Можно принять за некую специфическую концепцию, но сейчас — впервые — я осознаю, что, по ходу дела, это подлинная суть всех журналов и уж тем более — содержащихся в них реклам. И, сказать по правде, не сильно-то они и лгут…
Я поработала во всех мыслимых направлениях журнального бизнеса. И редактором в глянцевых изданиях для женщин тоже быть случалось. Я делала это, делала все, чтобы вбить в голову читательницам мечту о потреблении, чтобы втиснуть желание в разрывы, в пустоту между депрессией, скукой и монотонностью работы, между пригодными и вырезанными кадрами. Основной мотив женщины в выходные — расслабиться и насладиться своими хобби, но, разумеется, она никогда себе не позволит одеваться совсем уж по-домашнему. Разрыв между этим образом и образом некоей реально существующей где-то особы, которая скверно себя чувствует и днями напролет не вылезает из пижамы, — вот как вызывается жажда потребления. И за пределами работы, в собственной жизни, я по итогам попалась в ловушку, которую сама же и смастерила. Перестала понимать, где кончаются другие и где начинаюсь лично я. Стала выбирать только самые удачные кадры, выбрасывать в корзину все прочие… печально явственный факт, что жизнь по ту сторону обложки закончилась.
После Миуры Рисако следует статья о косметике. Заглавие: «Насколько защищает вас оздоровительная косметика?» Нездоровая окружающая среда чаще всего портит кожу. Если это относится и к вам, советуем попробовать оздоравливающую косметику! «La Prairie Defence Shield» [2] — один из самых популярных оздоравливающих и омолаживающих кремов, который производит сейчас фурор во всей Европе. «La Prairie Defence Shield» сочетает в себе десять различных антиоксидантов, которые бережно и надежно защитят вас от любых вредных воздействий окружающей среды, приводящих к старению кожи. Еще совсем недавно весь эффект оздоровительной косметики сводился к обычному увлажнению кожи и ощущению свежести, женщины признавали, что действует она медленно, а результаты оставляют желать лучшего. Но с этой совершенно новой серией косметических средств вы забудете о старых проблемах! Продукция красуется рядом на фотографиях, все — в натуральную величину.
Перевернуть несколько страниц, и там — реклама.
Цитирую:
«Должно быть, вы и сами видите, что ваша кожа в последнее время стала выглядеть заметно хуже… Такие повреждения кожи характерны для многих женщин… Но эти изменения вполне обратимы…» Я замираю. Я судорожно сглатываю.
Эти изменения вполне обратимы…
«Эти изменения вполне обратимы. В основе их — просто недостаточно здоровый баланс».
Новый способ помочь вам восстановить утраченный здоровый баланс кожи! Призовите на помощь силу Природы!
«Эти изменения вполне обратимы». Будь я копирайтером — непременно выделила бы эти слова. В них — основной смысл рекламы.
Вы ни в чем не виноваты. Не произошло ничего необратимого.
Мы протянем вам руку помощи. Мы защитим вас от окружающей среды!
Слушайте, люди, а давайте я для вас рекламы писать буду? Я вам покажу, как совершаются настоящие прорывы. Покажу все слабые точки, на которые следует нажать. В конце концов, я состою из чужих ощущений.
Когда я выхожу взять материал для статьи, мужики-репортеры вечно говорят гадости. Слушай, а с кожей у тебя последнее время что-то не то, что происходит? Ты вроде малость поправилась, да? И, конечно, если я теряю вес, а я постоянно теряю вес, они и над этим издеваются: эй, что-то ты совсем тощая стала! И глаза у тебя распухшие — что, давно парня не было? Или наоборот — слишком много секса, лапочка? Ладно. Кто спорит: когда женщина не спит и не ест регулярно, у нее на морде это все сильнее отражается, чем у мужчины, но с какого хрена я обречена сносить такие оскорбительные замечания только потому, что я — женского пола? Друг другу-то мужики ничего подобного не говорят! Не ваше собачье дело, думаю я, я принадлежу только себе самой, но все равно — где-то в самом дальнем уголке сознания зреет мыслишка: я могу это остановить, но, возможно, если не начать действовать прямо сейчас, станет слишком поздно.
Завтра пойду и куплю эту новую косметику. Заметить мысленно — номер один в списке неотложных дел. В каком ближайшем универмаге эта серия продается-то?.. Ну, все. Старые песни о главном. Слушай, идиотка, ты ж лучше кого-либо знаешь, что никаких, никаких кардинальных перемен не произойдет. Ты ж сама копирайтером работала, разбираешься в рекламе покруче прочих. Издевательский смешок щекочет изнутри, царапает болезненно горло. Ха-ха. Считаешь, значит, что стала уродиной? Но ведь ты ни в чем не виновата, и это неправда, что ты стала уродиной. Просто в последние дни у тебя было слишком много стрессов, вот и все, я совершенно уверена, скоро опять в норму придешь. Придешь в норму. Придешь в норму. Придешь в норму. Снова идем по кругу.
Стресс вызванный окружающей средой стресс вызванный окружающей средой стресс вызванный окружающей средой. Прекратите! Прекратите сейчас же!
Слабый голосок вернулся — и в мгновение ока заполнил все мое тело.
Все как всегда. Тебя просто вечно несет по одному и тому же кругу, вот и все. Ты — та, кто ты есть, разве недостаточно? Или ты не обретешь уверенности в себе, пока не услышишь бурные массовые овации? Так примерно?
Ну, может, и так. А все же…
Пытаюсь подойти к кассе.
Эй, как насчет мороженого?
Тот же голос.
Насчет мороженого? Этот голос проявляется реже всех. И почти никогда — в одиночестве, в тишине.
— Мороженое-мороженое, — бормочу себе под нос и, как марионетка на веревочках, тащусь в нужном направлении. В мою сторону из самого дальнего конца зала, от холодильника, где хранится мороженое, движется мужчина.
На нем ореховый в полоску комбинезон, штаны свободно заправлены в темно-синие, отделанные желтым сапоги. Сапоги — резиновые. Снег пошел совсем недавно, время — к полуночи, да и вообще мы в Токио или где? Странно он одет. Прямо как рыбак. Но мне нравится, как он выглядит. Широкая грудь. Литые, чуть покатые плечи. Красивая грудь. И волосы красивые. Совершенно прямые, а челка — чуть длинноватая. Челка, кажется, чуть вьется, потому что надо лбом волосы растут немножко вверх и только потом, опускаясь, естественно и легко разделяются на две половины. Шея переходит в плечи довольно изящно. Мускулы на груди аж комбинезон распирают. Вот разве что уж слишком высок!
Создания, живущие у меня внутри, ровно разом с ума посходили. Рот что-то наполняет. Не вдруг понимаю — это слюна. В последнее время у моей слюны — постоянный кисловатый привкус, я уж и забыла, какова она на вкус ощущалась, когда еще чистой была. Пульс ускорился.
Голоса совсем взбесились.
Но подобно столбу бессчетных воздушных пузырьков, что поднимаются порой со дна моря на поверхность, они перемешались, переплелись, и невозможно стало понять, что пытается сказать каждый голос в отдельности. Все равно что прислушиваться к смеху и голосам, доносящимся из-за стены, прислушиваться к шуму толпы в соседней комнате, когда ясно слышно, что люди там разговаривают, но никак не разобрать слов. Ну, давайте скажите что-нибудь путное, начните болтать и переругиваться, как обычно, давайте же! Позволяю своему сознанию нырнуть глубже и пытаюсь выудить какой-нибудь из голосов из общего шума — да не важно какой, мне любой подойдет, — и тут совершенно неожиданно все они разом принимаются метаться у меня внутри и вопить, словно их режут. Будто взрываются звуком — столько информации одновременно, что уловить в ней какой-нибудь смысл невозможно. Чувствую — я задыхаюсь, застонать — и то сил нет. На секунду пересушенная кожа увлажняется — блаженное ощущение. Возможно, это голоса прорвались наверх и покровом окутали все мое тело?
Есть хочу.
Голоса были, а звуков — не было. Послание — яростная масса осмысленных слов — передавалось напрямую, в каждую частицу каждой клеточки моего тела.
Я есть хочу. Кушать, кушать хочу. Я есть хочу!
Но это — уже я, я — и никто другой, мое и только мое желание. Голоса превратились в нечто, покрывшее все мое тело. Оценивающе оглядываю подходящего мужчину. Голоса исчезли, внутри меня теперь царит полная тишина, там теперь совсем пусто, и что-то, не владеющее даром речи, трепещет трусливо в этой пустоте.
Прислушиваясь отныне лишь к поверхности своей кожи, я ищу глазами глаза мужчины. Слегка поднапрягшись, пытаюсь сконцентрировать во взгляде всю энергию своего тела. И тогда — на клочке пространства, которое можно охватить взором, прищурившись, — фактура воздуха изменяется, плотность его многократно возрастает, и тонкая гибкая нить, подобная струне, протягивается от меня к мужчине. Он принимает ее взглядом. Чуть вздергивает подбородок, демонстрируя, что получил мой сигнал, и тоже слегка напрягается — точь-в-точь как я. Струна уплотнившегося воздуха стремительно протягивается уже от него в мою сторону, мгновение — и мы накрепко связаны меж собою, и тогда — именно в этот миг — меня с ног до головы пробирает отчаянная дрожь.
Понятия не имею, что происходит. Я даже говорить не могу, единственный звук, что удается выдавить из горла, — всхлип, с которым я втягиваю воздух. Пульс учащается. Первая приходящая на ум мысль — это землетрясение. Прикрываю голову руками. Осматриваюсь. Во мне, вовне все яростно трясется, однако вокруг — никакой паники. Зал магазина по-прежнему залит светом. Люди читают журналы. Мужчина пристально глядит прямо на меня, он совершенно спокоен.
Это вибрирует мобильник у меня в кармане!
Когда я осознаю это, требуется какое-то время, чтобы вернуться в реальность. Интересно, как удалось мужчине перехватить контроль над моим телефоном? Что вообще происходит?
Этого просто не может быть.
Какого черта? Какого черта? Какого черта?!
Чуть наклоняюсь. Мужчина в упор смотрит на то место, откуда исходит вибрация.
Невозможно. Не может быть.
Господи боже мой, да это ж смерть мозга! Смерть мозга — единственная причина, по которой мне могут звонить так поздно ночью! Снова становлюсь журналистом. Я давно подумываю написать статью о смерти мозга и трансплантации органов — вот и попросила больницу связаться со мной, как только поступит подходящий пациент, в любое время суток. Недавно появилась технология, позволяющая предотвратить смерть мозга, — технология, срабатывающая на сто процентов. Она называется «гипотермическая терапия». Если понизить температуру человеческого тела, можно увеличить время, которое требуется, чтобы мозг перестал функционировать. Единственная сложность: если поддерживать низкую температуру слишком долго, в остальных органах тела начинается некроз. Нужен высокий профессионализм и огромный опыт, чтобы определить точный момент, когда будет достигнут необходимый баланс. Впрочем, это — не особо новая информация. Лично меня заинтересовало другое: больница, на всю страну известная своей гипотермической терапией, теперь лидирует также и в области трансплантации органов. Другими словами, с одной стороны — доктора, из последних сил старающиеся вытащить больного буквально с той стороны, а с другой — пациенты, чья единственная надежда на выживание — скорая смерть другого человека. Я собиралась провести глубокое, детальное исследование драмы, суть которой — конфликт между этими двумя взаимоисключающими ситуациями. Что случилось? Состояние кого-то из пациентов, с кем я уже встречалась, стало критическим? Или в больницу только что поступил новый?
Мне надо ответить. Я должна ехать. Мне надо ответить. Я должна ехать. Повторяю эти слова как заклинание, но сама будто парализована, тело отказывается двигаться. Смерть мозга. Может, вот так ее и ощущаешь? Тело — живое, по-прежнему теплое, сохраняет все функции, но команды не передаются по назначению, конечности холодеют, контролировать температуру тела невозможно, дрожь, судороги, нарушения перистальтики, глаза закатываются, дыхание почти прекращается, мускулы сокращаются совершенно бессознательно, нельзя скоординировать собственные движения.
Мужчина все приближается, но я не в силах сделать даже шаг ему навстречу. Мобильник провибрировал, с той минуты как я стала считать… и замер, когда мужчина поравнялся со мной. Кровь по-прежнему стремительно бежит по моему телу, но мысли наконец-то спустились на относительно твердую поверхность. Где-то в глубочайших глубинах моего содрогающегося от тока крови тела есть место, недоступное для движения. Что же это за место? Существует только мое тело, здесь и сейчас тело мое — это я. Во мне — метр пятьдесят восемь росту, ну, самое большее — метр пятьдесят девять, но место это — словно на сотни, сотни миль внизу. Мужчина проходит мимо, задев ладонью тыльную сторону моей руки. Ладонь его — чуть влажная. Очень теплая. А мне холодно. Ощущаю его руку целиком — даже грубость папиллярных линий на его ладони. Слышу шорох, что издали, соприкоснувшись, рукава наших курток — два разных материала. Но не могу взглянуть ни на наши руки, ни на наши куртки. Ничто во мне не способно двинуться. Он еще всего лишь на шаг от меня, а я уже забыла, каким был этот шорох. Мучительно, до смерти хочется обернуться, но я не в силах пошевелиться, не в силах заставить себя пошевелиться. В воздухе еще остался запах его волос. Что за шампунь? Мне нравится, как он пахнет.
Слышу звук влажной резины, с которым подошвы его сапог, чуть скользя, соприкасаются с линолеумом пола. Невероятный звук удаляющихся шагов…
«Поднимись и иди вперед, да, вперед…»
Внезапно в уши мои врывается песенка, обычная фоновая мелодия. Чувства вернулись ко мне, все опять нормально! Эта песенка звучит в магазине, и я ее слышу! Поднимись и иди вперед. Ладно. Но куда идти-то? В голове у меня — только одно: есть хочу. Секундочку, погоди-ка секундочку. Что-то здесь не то, явно не то, это же песня Лоусона, ей не место в магазине «Семейная выгода», это все еще твои галлюцинации, дорогуша, говорит ясный мальчишеский голос. Да плевать мне, сынок, да насрать мне, мне нужно идти, нужно жить, жизнь продолжается, я жива.
В основном действия типа «остановиться» или «идти» я совершаю совершенно бессознательно. Теперь же, когда я приказываю своим ногам двигаться, возможно, у меня задрожат пальцы, возможно, случится что-то еще — действия и команды слишком перемешиваются. Когда все тело напряженно ожидает сигнала, никогда не знаешь, что на что отреагирует. Импровизирую способ заставить себя идти. Прежде всего необходимо следовать простейшим правилам. Воображаю несколько нервных окончаний, добавляю картинку, на которой они повинуются нервному импульсу — и останавливаются, снова повинуются — и снова останавливаются, словно бы весь процесс примитивен, как азбука Морзе, просто серия включений и выключений. Приказываю своим клеткам следовать лишь одному простому правилу: все, что должна делать каждая из них, — это в точности повторять действия клетки впереди. Если мне удастся задать нужное направление первой клетке, то так же будет двигаться все, включая конечности. Самое главное — переставить во главу движения клетку, которая и впрямь функционирует нормально. Так поддерживается порядок в птичьих стаях, именно так удается им столь резко, неожиданно и красиво менять направление полета. Припоминаю — где-то я слыхала, что и муравьи вроде движутся по тому же принципу. Плевать мне, насколько этот метод примитивен. Я просто хочу двигаться.
Я двигаюсь. Меняю направление. Ставлю корзину с бутылками на пол, у ног. Слышу звяканье стекла о стекло. Вижу глаза продавца.
Двигаясь подобно роботу, я направляюсь к выходу. Дверь — единственное яркое пятно, все остальное растворилось во мраке. Автоматические двери, скользя, раскрываются. Два часа ночи. На Токио падает мокрый мартовский снег. Если понадобится зонтик — вот он. Чужой, правда, зонтик, ну да что с того? Вон их сколько, зонтиков — раз, два, три, четыре, пять, ше…
Да кому он нужен, этот зонтик?
Смотрю вверх. Снег засыпает мир хлопьями. Белые снежинки непрерывно падают мне на лицо и тают, впитываясь сквозь пересушенную кожу глубоко внутрь. Снег пожирает меня все сильнее и сильнее. Когда-то вода струилась с моей кожи, а теперь — нет, вы только взгляните! Если я говорю «когда-то», то имею в виду вовсе не детство и не отрочество, ничего подобного, — так было еще примерно год назад. Если живешь в мире, которым, по преимуществу, управляют мужчины, если не хочешь, чтобы окружающие делали тебе замечания по поводу вещей, которые, между прочим, абсолютно не их собачье дело, тебе остается одно из двух — либо раз и навсегда наплевать с высокой горки на свой внешний вид, либо выходить из дома, только если выглядишь потрясающе. Но есть предел человеческих возможностей. Количество времени и усилий, необходимое мне, чтоб оставаться красивой, уменьшаться не собирается. Чем дальше, тем больше понадобится на это сил, а мне, естественно, и помимо своей внешности есть чем заняться, я ж — полноценный, работающий член общества. А возраст еще никто не отменял, время идет, тик-так, не спастись… Сама мысль о борьбе со временем вызывает у меня такое бешенство, такую депрессию, просто терпеть невозможно. А что, если я не могу ни бросить пить, ни прекратить рвоты? Может, я вообще начала делать все это, потому что устала вечно быть красивой? А может, просто потому, что хотела избавиться от вечной депрессии?.. Поднимись и иди вперед.
Строчка из песенки Моритаки Чисато безостановочно крутится у меня в голове, всего одна фраза — в странном, ленивом противостоянии с общим безотрадным настроением. Понятия не имею, то ли я и впрямь напрягаю голосовые связки, напевая, то ли эту песенку просто кто-то играет у меня в голове. Поднимись и иди вперед. Совсем мало времени прошло, он не мог уйти слишком далеко. Если я пущусь бегом, вполне успею его догнать. Замолкли все голоса, кроме одного, того, что поет песенку Моритаки. Но существует ли этот голос в действительности? Может, он — всего лишь воспоминание или что-то типа этого? День, когда я с утра до вечера пила тот разрекламированный джин, да, помню, точно, с самого утра начала, джин, джин, джин, французы вечно его мешают то с тем, то с другим, да что же это за джин-то был? Помню, для начала выпила, чтоб башка с похмелья не раскалывалась, да, точно, вот так все и началось, я посмотрела в зеркало — физиономия такая отечная, смотреть противно… Воспоминания возвращаются одно за другим, надо же, отменная скорость!
Поле моего зрения сужено до предела. И видно очень скверно. Снег падает все сильнее, вымачивает меня до костей. Шаги мои — едва в четверть своей обычной ширины. Пытаюсь шагать с правой ноги, вкладывая в движение всю возможную силу, примерно так… чудно. Едва не полетела вверх тормашками. Различные части тела все еще испытывают сложности в сотрудничестве, каждая норовит двигаться сама по себе, по большей части я даже не в силах идти ровно. Взгляд никак не желает фокусироваться. Голова плывет, что ли? Нет времени пытаться понять, почему все вокруг кажется таким размытым, давай, детка, включай мозги, надо идти. Меня заставляет двигаться лишь воля к движению. Я понуждаю себя идти вслед за мужчиной; может, у меня не хватает воли ни на что больше, потому и не удается удержать контроль над собственным телом. Что-то — должно быть, душа моя, — бежит, мчится впереди сама по себе, далеко обгоняя тело. Глаза мои бессмысленно блуждают по сторонам, вне всякой связи с сознанием, ловят стоп-кадры окружающей реальности, резко впечатывают их в сетчатку. Метрах в ста от меня — машина, она приближается, мгновение — и вот она уже прямо передо мной. Я уже ступила одной ногой на «зебру» наземного перехода, и теперь — ни туда, ни сюда. Порыв ветра. Хаос шумов, хаос ощущений.
Слышу, как хаос шумов прорывает резкий звук, доносящийся издали.
Тело мое совершает цельное движение. Бесчисленные клетки у меня внутри покидают голову и начинают наконец-то двигаться в едином ритме.
Кто-то свистит?
Звук повторяется.
Протягиваю руку в направлении свиста. Теряю равновесие. Падаю на колени — прямо в снег. Несколько секунд нелепо барахтаюсь, потом удается вспомнить последовательность движений, необходимую, чтобы подняться. Как по кусочкам себя собираю. Светофор загорается ярким огоньком зеленого света. По ту сторону перехода — микрорайон семейных двухквартирных домиков, машинам туда нельзя. Звук доносится с улицы, огибающей микрорайон. Теперь свет снова красный, но, по счастью, ни одной машины поблизости нет. Перехожу на другую сторону. Свист приближается. Мокрый мартовский снег бьет в лицо, мешает смотреть. Глазам больно, но я никак не могу заставить веки моргнуть. Никого не видно. Бреду вперед, ориентируясь только на звук. Где ты? Это ты, правда ведь? Парень, что толку свистеть, лучше бы подошел и помог! Ладно, хорошо, я знаю: надо идти. Мне обязательно надо идти. В конце концов, это ведь я ощутила голод!
Там, откуда доносится свист, никого. На пути у меня что-то огромное. Смотрю вверх. Эта штука — темно-синяя, гладкая, огромная. Зрение у меня все еще почти не работает, от прочих чувств остались жалкие осколки, а потому я не сразу понимаю, что это.
Стою, раскинув руки, пальцами скольжу по темно-синей поверхности. Грузовик-трейлер.
— Ой!
Невольно вскрикиваю. На водительском сиденье — мужчина, которого я видела в магазине. Кто бы мог подумать, он — дальнобойщик! Я ведь не машину — просто человека искала, потому и нашла с таким трудом. Он усмехается и слегка прищуривается, глядит в упор, словно бы сердито, в точности как глядел при нашей первой встрече в торговом зале. Внезапно понимаю — я вот-вот заплачу. И действительно, слезы льются из глаз, но почти мгновенно смешиваются со снежинками. Пакет с кубиками льда из «Семейной выгоды» свисает с одного из «дворников». Он, наверно, лед снаружи оставил, потому что холодно на улице. Он кивает на место рядом с собой. Поворачиваю серебристую ручку, и дверь открывается. Из кабины вырывается поток теплого воздуха. Ступенька невероятно высокая. Робко ставлю на нее левую ногу.
— Да ты держись, — говорит он.
На потолке — ручка, за нее можно ухватиться. С трудом подтянувшись, плюхаюсь на сиденье. Впереди, позади — везде раскинулся мир белого безмолвия. Район, столь хорошо мне знакомый, словно бы в одночасье обратился в заснеженную пустыню. Может, это имеет какое-то отношение к ветровому стеклу — оно ведь больше и выгнуто сильнее, чем у обычных машин, — но все, что можно окинуть взором, точно расширилось. В двери, прямо у моих ног, — маленькое застекленное окошко, кажется, словно я парю в воздухе, и возникает чувство, будто я взлетаю вверх, в снег, а не сижу, пытаясь стряхнуть с себя тающие снежинки.
— Добро пожаловать.
Внутри грузовика все равно что в утробе этого мужчины, думаю я. Никаких украшений, зато уютно, мягко и тепло. Мужчина протягивает мне полотенце. Стремительное изменение температуры вызывает сильный озноб.
Эта кабина — его тело и мое сердце. Он вознесен высоко над землей, а я прикована его взглядом. Он наблюдал за мной, пока я гналась за ним, пробиралась через сугробы, падала в снег, ползла. Он все время наблюдал. У него изначально более выигрышная позиция.
— Ты все время сидел и наблюдал за мной?
— Нет, не все время. В смысле — я и не надеялся, что ты правда придешь.
Я благодарна снегу — ведь кожа моя настолько мокрая, что он и не увидит, какая она скверная.
С первого же взгляда замечаю: его кожа чудовищно гладкая. На мгновение в сознание врываются голоса, но тотчас же замолкают. Что еще сказать — понятия не имею.
— Выпить хочешь? Китайская водка, здорово крепкая.
— Конечно, хочу.
Дальнобойщик выпрыгивает из кабины, подхватывает пакет с кубиками льда, свисавший с «дворника». Он перекладывает лед в пластиковые стаканчики, и я вижу — снежинки прилипли изнутри к пластику пакета и к кубикам тоже. Он разливает по стаканчикам водку, добавляет чуть-чуть лимонного тоника. Лед тает, еле слышно потрескивая. Я разглядываю густой слой снега, покрывающий один из кубиков в моем стаканчике. Лимонный тоник почти совсем не кислый, так, легкий, специфически цитрусовый привкус, напиток почти не пахнет алкоголем, он больше похож на газировку, которую я пью, когда хочу рвоту у себя вызвать. С одной только разницей: коктейль, сделанный мне мужчиной, — вкусный. Хочу, чтоб голоса вернулись. Ну, давайте, ребятки, все разом, учините снова истерику, объясните, как вам нужен этот мужчина. В одиночку мне не справиться. В трезвом виде у меня не выйдет. Говорят, от китайской водки похмелья не бывает, только что-то она на меня совершенно не действует. По крайней мере напиться мне точно надо. Парень, я уже зашла слишком далеко. В трезвом виде ни черта не выйдет. Я вообще впервые в жизни подцепила незнакомого мужика, человека, которого никогда раньше и не видела. Рядом открытый пакет воздушной кукурузы, дешевка, на каждом углу продается, я спрашиваю мужчину — можно мне? Съедаю немножко. Думаю — вкусно.
— Вкусно, да? — говорю тихонько. Понятия не имею, к кому обращаюсь: то ли к мужчине, то ли к кому-то внутри себя в тщетной надежде дождаться ответа.
— Тебе сколько лет-то? — спрашивает он.
— Тридцать один. — Не задумываясь, называю ему свой истинный возраст. Не знаю почему, только врать и по-бабски лукавить с ним не хочется совершенно.
— Правда, что ли? Ну, тогда ты постарше меня.
— Ага, я сразу поняла, что я старше. А тебе сколько?
— Двадцать шесть.
— Ого! А я подумала, ты моложе.
— Я видел — ты покупала бутылку джина и бутылку вина.
— Да… ко мне в субботу гости прийти должны. — А пакета-то у меня и нет, руки пустые, надо быстренько что-то придумывать. — По зрелом размышлении, я решила ничего не покупать. Как-то усомнилась, понимаешь… в том смысле, что сегодня — еще только среда…
— Вообще-то сегодня четверг.
На секунду зависает молчание.
— Хочешь телевизор посмотрим?
— Конечно.
На приборной панели — тюнер, а над тюнером — маленький телеэкран. Несколько минут мы смотрим какую-то комедию, потом переключаем канал. Показывают церемонию открытия Олимпийских игр для инвалидов.
— Господи, — говорит мужчина, — с ума сойти можно.
На маленьком экране танцуют парами люди, стоящие на собственных ногах, и люди в инвалидных колясках. Люди в инвалидных колясках кружатся и поворачиваются в такт музыке с изяществом, не поддающимся описанию. В центре — колонна, увенчанная огнем. Похоже, он чем-то отличается от Олимпийского, но экран настолько маленький, что как следует разглядеть нереально.
— Господи, эти ребята — просто что-то!
Смотреть на огонь. Танцевать. Пить. Ощущение такое, словно мне удалось постичь, что это означало в древности — быть счастливым, постичь счастье возвращения в глубокую древность. На экране певец исполнял тему открытия Олимпийских игр для инвалидов. В тысячу раз лучше, чем тема открытия обычных Олимпийских игр, да и сама церемония в сто тысяч раз, в миллион раз красивее, чем церемония открытия Олимпиады [3]. Я что хочу сказать — конечно, Озава Сейджи известен во всем мире, он великий музыкант и все такое, конечно-конечно, но какого же дьявола, если Олимпиада проводится в Японии, надо было играть Девятую симфонию Бетховена? Какого черта надо было играть немецкую музыку? А в самые торжественные моменты на заднем плане вообще музыка из «Мадам Баттерфляй». В смысле — привет, музыкальный режиссер Асари Кейта, ты что — круглый идиот или просто дебил? Раскрывается гигантский веер, и появляется Ито Мидори в гриме, достойном тряпичной куклы, ни больше ни меньше, — Бог мой, у меня просто шок случился, точно говорю, слова «национальный позор» были придуманы, наверно, специально для этого дня. А речь Хагимото Киничи во время церемонии открытия?! Прямо выступление чревовещателя, честно, и вообще непонятно, на кой черт было нужно вытаскивать из чулана такую седую древность, как Хагимото Киничи, вот к чему это? В сознании снова бьется застарелая злость, я верчусь на сиденье и беззвучно шевелю губами. Сердито, несомненно, мое взрослое «Я», однако с губ почему-то срываются детские слова. Когда я ругаюсь, в мозгу обычно срабатывает некий механизм, но сейчас сцепление ослабло, мотор работает, но энергия вовне не передается — странное, очень необычное ощущение. Но чем-то оно мне нравится.
Инвалидные коляски плавно двигаются до самого конца песни.
— А приятная песня, да? — говорит он.
— Да, приятная. Знаешь, как только я тебя увидела…
В дверь со стороны водителя стучат. Тук-тук. Мужчина опускает стекло. Снаружи — полицейский. Тело мое чуть напрягается.
— Привет. Мне сообщили о машине с работающим мотором, стоящей возле микрорайона, но в такой страшный холод, как сегодня, мне вряд ли стоит вас просить заглушить мотор, да?..
— Спорю, полицейским в такую погодку тоже несладко приходится.
Мужчина протягивает копу свои права. Надо же, сколько лет живу, в жизни не подозревала, что дальнобойщики и полицейские такие добрые друзья.
— Значит, господин Окабе. Как правильно произносится ваше имя?
— Такатоши. Слушайте, подскажите, пожалуйста, есть здесь поблизости, где припарковаться? Я не могу доставить заказ раньше завтрашнего утра.
— Угу. Иероглиф «ки» — он ведь обычно «надежду» означает, а в вашем случае надо, значит, читать «така»? Весьма необычно, правда?
— Не знаю. Может, и так.
По окончании обмена любезностями с полицейским решаем припарковаться возле кладбища, что позади станции метро. Мужчина легонько поворачивает руль то вправо, то влево и бормочет сквозь зубы нечто нелестное в адрес кретина, который нам присоветовал проехать по этой улице, по обе стороны от проезжей части — сплошные магазины, но нам все же удается протиснуться на другую сторону. Поперек улицы натянуты рекламные плакаты, один из них хлопает по стеклу. Я инстинктивно отшатываюсь.
— А у тебя, похоже, с полицией просто замечательные отношения.
Он припарковал машину на большой площадке перед кладбищем, мотор заглушать не стал.
— Это, верно, потому, что я тоже на открытом воздухе работаю.
Да, звучит резонно.
— А как долго ты водишь трейлер?
— Да, думаю, лет семь уже.
— А до этого?
— Когда-то в строительной компании работал, а потом купил грузовик, работаю теперь сам на себя. До этой куколки у меня другая колымага была.
— Что значит — «работаю сам на себя»?
— Я свободный человек, вот что.
— А почему именно грузовик?
— Ну, я ведь не больно-то образованный. В старших классах — и то недолго проучился.
— А я и не знала, что можно взять и запросто бросить школу. Все-таки обязательное среднее образование…
— Я и сам не знаю. Наверно, когда средние классы оканчиваешь, тебе все-таки что-то выдают, да? Какое-то свидетельство? Только я и на выпускной не пошел, вот и не знаю, выдавали бы мне там что-нибудь или нет.
Следующий мой вопрос был абсолютно идиотским:
— А почему ты не пошел на выпускной?
— Да ни почему особо. Просто не захотел — и все, — рассмеялся он.
Какой он здоровый, этот парень, подумала я. Я инстинктивно ощутила его здоровье. Не пожелать оставаться в месте, к которому душа не лежит, — естественно, как вдохнуть или выдохнуть.
Откидываюсь на спинку сиденья. Прижимаюсь щекой к короткому, пушистому ворсу обивки. Это — его тело. Кожей и душой ощущаю, как вибрирует работающий вхолостую мотор, эта вибрация словно окутывает меня. Понимаю внезапно, почему замолчали голоса — да они же в безопасности себя почувствовали! Вибрация вновь разъяла их на элементы, из которых они некогда сложились. Они уже не примут форму языка. Голоса растворились друг в друге, отныне они циркулируют по моему телу, как составляющие некоего раствора. В шуме вибрации я различаю биение своего сердца.
— Ты что-то говорила про то, как меня увидела, да?
— Ах да, — смеюсь. Вспоминаю фразу, которую начала произносить, когда явился, прервав меня, полицейский. — По-моему, я собиралась сказать, что мое внимание привлекли твои сапоги.
— Ага. Только это не из-за сегодняшнего снега. В смысле — просто совпадение, что сегодня и в Токио снег пошел. В Ниигате все время снег идет.
— А почему Ниигата?
— Там много мебельных и деревообрабатывающих фабрик. В Шизуоке тоже много, но все равно в Ниигате гораздо больше. Видишь — вон там, наверху? Это многоквартирный дом строят. Я для этого дома уйму дверей доставить должен.
Недолгое молчание. Пока оно длится, внутри меня снова нарастает шум. Похоже, голоса способны расслабляться, только когда слышат человеческую речь.
— Так у тебя мотор всю ночь работать будет?
Предотвратите загрязнение воздуха. Остановите глобальное потепление. Защитите озоновый слой… Эти лозунги молниеносно проносятся у меня в голове, но не складываются в слова — так, пустые, лишенные смысла концепции, не больше.
— Угу, — отвечает он незамедлительно.
— А почему ты не возишь с собой переносную жаровню или что-то вроде?
— Да мне с огнем дышать нечем будет, неужто не понимаешь?
— А как насчет электрообогревателя или электрического одеяла?
— Для них генератор нужен.
Да, полагаю, так. Этот трейлер — сам по себе генератор. Он работает как генератор в настоящий момент. Возникает странное ощущение: если сегодня его включили, чтоб нам было тепло, ничто более не важно — и пусть мир погибнет хоть завтра! Слов нет.
В этот момент шум мотора становится громче, и стрелка на тахометре на секунду резко отклоняется.
— Эй… — Придется сказать ему правду. — Я хочу прикоснуться к тебе.
— Ну… Если хочешь — пожалуйста.
Он подставляет щеку — словно дает понять, что, если я захочу, могу влепить ему пощечину. Он улыбается — очень осторожной, вежливой улыбкой. У него милая манера прищуриваться, совсем чуть-чуть, необычная, характерная, и этот прищур придает его лицу выражение легкого, добродушного удивления. Переносица у него красивая, четкая, нос аккуратно вздернут. Нижняя часть лица необъяснимо обаятельная, чтобы улыбнуться, достаточно раздвинуть губы лишь на несколько миллиметров. Длинноватая челка колышется у самых глаз.
— Мне страшно.
Слышу себя как бы со стороны, слова точно доносятся откуда-то издалека. И подумать не могла, что выговорю их. Концентрируясь на своих ощущениях, понимаю: некая часть меня сейчас трепещет, дрожит, как желе, как медуза, та же самая часть, что говорила раньше жалким, чуть слышным голоском — «прекратите, пожалуйста, прекратите». Обычно это существо не способно выражать свои мысли словами, оно обретает дар речи, только если я крайне напряжена — или наоборот, если все вокруг совершенно спокойно, — только в таких ситуациях появляется у него способность говорить, похоже, совершенно случайная. Теперь голоса примолкли, подчинившись вибрации мотора, и дрожащее существо вышло на прямой контакт с внешним миром. А может, просто моя собственная дрожь попадает в такт дрожи работающего вхолостую мотора?
— Прости. Не надо мне было это говорить. Не знаю, понимаешь, мне кажется — раз мы с тобой едва знакомы, ты в любой момент можешь повести себя по-другому, можешь на меня напасть — для меня проблема доверять незнакомым людям, серьезная проблема. Не понимаю почему. Я имею в виду — меня в жизни никто не ударил, не обидел. Странно, да? Слушай, я правда не хотела этого говорить, прости.
Мужчина по-прежнему молчит — непонятно, слышал ли он или нет все, что я лепетала. А потом — все так же молча — он передвигается в дальнюю часть кабины между сиденьями и трейлером. В этой части он, судя по всему, спит: там лежат футон, подушка и еще какая-то ерунда. Он ложится на футон, головой к окошку с противоположной стороны, сохраняя между нами вполне естественную дистанцию.
— Я тебя слушаю, — говорит он с улыбкой.
Я испытываю облегчение — испытываю как некое биологическое ощущение, не объяснимое разумом, — и принимаюсь плакать, словно боль внутри растворилась в слезах и каплями сочится из моего существа.
— Я хочу прикоснуться к тебе. Просто хочу прикоснуться к тебе.
Плачу, гладя спинку сиденья. Минуту длится тишина. Слезы мои падают на ворсистую обивку и висят на ворсинках, как капельки росы. Я поднимаю глаза. Мужчина говорит:
— Хочешь, перебирайся сюда.
Киваю. Протискиваюсь через тесное пространство между сиденьями. Слезы все не останавливаются. Забираюсь на мужчину. Он приподнимается. Мы целуемся. Он задергивает занавески на окошках и занавеску, отделяющую заднюю часть кабины от сидений.
Я все время этого хотела. Хотела с той самой секунды, как впервые его увидела. Языки наши, обмениваясь слюной, изучают друг друга. Слезы стекают на мои губы, и я ощущаю их соленый вкус, мой собственный вкус. Он слизывает слезы с моей щеки. Накрывает губами мои глаза, всасывает их в безвоздушное пространство поцелуев, пьет мои слезы, не давая им пролиться. Глаза мои все время остаются открытыми, половина мира исчезает во тьме. У него — теплый рот, теплее моих глаз, теплее моих слез. Начинает он с правого глаза, потом все в точности повторяется уже с левым. Слезы все стекают и стекают — одна за другой. Языком он касается моего глаза, скользит по тонкой грани между глазным яблоком и веком, совершает полный круг. Трудно сказать, то ли мои глазные яблоки более чувствительны, чем я считала, то ли совсем наоборот, — я ощущаю едва заметную грубость сосочков его языка, но сморгнуть не хочется, глаза мои позволяют ему делать с ними, что он пожелает. Чувствую, как мягки и упруги мои глазные яблоки. Что-то мешает — одна из моих контактных линз скользит по поверхности глаза. Зрение затуманено. Но я не хочу, чтобы он останавливался. Он гладит меня по волосам. Как маленькую. Как ребенка. Я целую его высокую шею и не без труда расстегиваю его комбинезон. Там — две молнии. Прежде чем расстегнуть пуговицы, надо потянуть их вниз. Стягиваю с него первый слой одежды, потом — второй. Целую его обнаженную грудь. Он освобождает меня от одежды ниже пояса, и теперь я — уже под ним.
— Нравится тебе, когда тебя лижут? — спрашивает он.
— Что?
Я даже ответить не успеваю, а он уже принимается лизать мои гениталии. Поднимает мои ноги повыше, раздвигает их наподобие латинской буквы «V», пристраивает на свои нагие плечи. Мои ступни примащиваются на его плечах подобно двум птицам.
— Ты прекрасна. Ты такая красивая…
На дворе — зима. Кожа на моих ступнях грубая и потресканная, и на ногтях никакого там лака или педикюра. Он касается пальцами места, где собирается влага, раздвигает его. Место это не поскупилось на соки. Язык его скользит везде, где эти соки собираются, движется широкими кругами, потом проникает в меня. Лучик света с улицы пробивается сквозь занавеску позади меня, освещает мою влажную плоть.
— Окабе Такатоши… Тебе что, не интересно знать, как меня зовут?
— Имени мне хватит.
Печально это звучит.
— Реи меня зовут. Хаякава Реи.
— Потрясающе. Очень красиво.
— Так красиво, что просто потрясающе?
— Назови меня по имени.
— Реи. Потрясающее имя. Потрясающее. Ты п-Реи-красна, Реи.
Я чувствую… Чувствую…
Чувствую — со мной происходит что-то очень хорошее.
Кое-как совмещая звуки, которые редко формируются в связную речь, спрашиваю его, почему я прекрасна?
— У тебя там — как губы.
Не знаю, кто шепчет это. Множество молекул, составляющих мое тело, ударяются друг о друга, и мне становится жарко. Всею спиной чувствую, как дрожит грузовик. Язык его, как теплый червячок, скользит по складкам, окружающим мою щель. Пальцы моих ног рефлексивно поджимаются.
— Слушай, а как женщины мастурбируют? Можешь мне показать?
Я всегда мастурбирую через белье. Никогда не прикасаюсь к себе напрямую. Но сколько ему об этом ни говори — не слушает, просит показать. Начинаю водить средним пальцем по задней части своего клитора. Он увеличивается, приобретает отчетливо треугольную форму, встает, поднимаясь из складок окружающей его кожицы. Мне приходит в голову — возможно, я никогда не прикасалась к себе так, потому что на меня никто не смотрел?
— А к груди своей ты не прикасаешься?
— Намочи.
Протягиваю пальцы, засовываю ему в рот, увлажняю слюной. Влажными пальцами ласкаю свои соски.
Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя…
Нет. Я не могу выговорить это.
Моя нога касается большим пальцем окна за занавеской, оставляет след на запотевшем стекле, заканчивает свой путь на ручке переключателя скорости. Вибрации поднимаются по ногам вверх, сотрясают все мое тело. Только и могу что стиснуть покрепче кулаки. Впиваюсь зубами в пальцы, другой рукой вцепляюсь в его челку. Чувствую — голоса вырываются из самой моей сути, из тьмы, присутствие коей я могу ощутить в себе, лишь закрыв глаза, из пустоты в самой глубине тела. А потом то, из чего состоят мои голоса, всплывает на поверхность, так бывает, когда используешь пятновыводитель, чтоб уничтожить жирное пятно, — долгие столбики какого-то вещества впитываются в ткань, окутывают жир, всасывают его в себя. Это как-то связано с притяжением положительных и отрицательных ионов, я забыла, как это происходит, — но когда голоса мои восстали, вышло очень похоже. Они отняли у меня что-то — и исчезли с ним вместе, они что-то вытолкнули из моего сознания. Сила, которая бушевала во мне ранее, когда все тело изнывало от желания пожрать этого мужчину, собралась теперь снаружи, у меня на коже, точно тончайшая маслянистая пленка.
Я ощущаю себя другим человеком. Ничего страшного. Ничего похожего на ужасные перемены, что постигают людей, страдающих мультипликацией личности, людей, о которых я читала во множестве книг. Это… это как если бы я достигла точки замерзания, или точки испарения, или точки кипения, да без разницы, любой температуры, при которой вещество меняет свои свойства: чтобы вода закипела — сто градусов, для масла — другая какая-то температура, не знаю, как должно быть горячо, чтоб масло закипело. Для каждого вещества — своя температура; используя высокие температуры, можно получать особенно чистые субстанции из растворов, содержащих в себе массу примесей… да как же она называется, эта технология? По-любому, я была… да какая там «Я», все мои многочисленные «Я» были как такой сложный раствор. Может, потому мне и больно было — из-за этого растворенного состояния? Я одевалась как картинка перед выходом во внешний мир, старалась выглядеть, соответствовать, и все это время единственное, чего я хотела, единственное, о чем мечтала, — избавиться от примесей.
— У тебя резинка есть?
— Да.
— Хочу заняться с тобой сексом.
Сажусь на его бедра, резко опускаюсь вниз. Пенис его скрывается из виду, пах прижимается к моему, он и я идеально подходим друг другу. От жары по телу мужчины течет пот. Вокруг зима, а по нему течет пот. Какая кожа! Кожа настолько совершенная, что невозможно сказать, откуда только пот появляется. Кожа настолько гладкая, что даже страшно становится. Кожа, одинаково увлажненная по всему телу. Где ни касайся его — ладонь скользит. На груди, на руках, на животе — ни волоска. У него, черт его подери, даже пор не видно! Яростно сжимаю коленями его бедра. Руки бессознательно поглаживают его спину — вверх-вниз, вниз-вверх, снова и снова. Ладоням моим так легко скользить по мощным мускулам его спины, что кажется, торс его движется необыкновенно, неправдоподобно медленно. Наши бешено сшибающиеся бедра словно отделяются от тел, их движение живет совершенно самостоятельной жизнью. Не важно, что я делаю, никогда мне им не насытиться. Кусаю его за ухо. Словно уловив некий сигнал, мужчина медленно поворачивается, теперь его тело накрывает мое. Мои ладони скользят по его груди столь сильно, что практически невозможно поддерживать его вес. А потом мои руки и вовсе из-под него выскальзывают, и у меня вырывается тихий стон. Он приподнимается, и на мгновение тело мое кажется совершенно невесомым. А потом, когда я начинаю опускаться, я чувствую, как он мягко подхватывает меня под спину. Голова моя отклоняется, откидывается назад, он сжимает в кулаке мои волосы, и я дрожу, пойманная посреди падения. Не мигая смотрю в лицо, склоненное к моему, — вот он, человек, которого я совсем не знаю. Секунда — и он приникает к моим губам своими. Он наблюдает за мною. Я, не способная даже сморгнуть, продолжаю глядеть на него в упор. Как только рот его прижимается к моему, движения его убыстряются. В рот мой вонзается его язык. А потом — очень медленно — я снова опускаюсь спиной на простыню. Мне нравится этот парень!
Какой у него подбородок — просто очаровательный! Из-под этого подбородка, из горла, когда я двигаюсь и когда двигается он, вырываются стоны. Смотрю, как по этому подбородку скатывается и прочерчивает дорожку дальше, по шее, капелька пота. Кожа у него совершенно мокрая, так что дорожка прорисовывается совсем слабо, едва заметно. Грудь у него мягко круглится мышцами, сжимаемыми ниже в жесткую «шоколадку» пресса. Не могу нащупать границы между мускулами у него на спине, но ощущаю их тугую упругость — да, сразу видно, это тело привычно к тяжелой работе.
Вздергиваю бедра. Трусь ими о его тело.
— Погоди, если будешь делать так — я сейчас кончу, — шепчет мужчина.
— Ну и ладно, — отвечаю, и живот его сотрясают несколько содроганий. Одинокая капелька пота падает с вздернувшегося подбородка. Внезапно рот мой широко распахивается. Теплый солоноватый вкус впитывается во вкусовые рецепторы, отдается одновременно и выше, в ноздрях, и ниже — в горле. В первый раз в жизни ощутила я, как мне это необходимо — поймать ртом каплю пота лежащего на мне мужчины. На вкус — почти как обычная соль, однако к ней примешивается легчайший привкус чего-то еще — чего-то иного, не похожего на пот, что собирается на поверхности тела, чего-то, что он, двигаясь, выдавил, выжал из самых глубин своего существа.
Мужчина прижимается грудью к моей груди, утыкается лицом мне в плечо. Дышит он в такт с сотрясающими его содроганиями. Плечи тяжело вздымаются и опадают, рисуя в воздухе широкие полукружия, лицо, волосы, горло — такие мокрые, словно он горько плачет. В миг, когда мужчина изливает семя, он — мужественнее, чем когда-либо в жизни, однако меня привлекает, похоже, совсем иное — то, как беспомощен и беззащитен он в эти секунды. Глажу его по голове, закладываю спутавшиеся волосы ему за уши. Они тоже чуть волнистые, и хотя поначалу казались легкими и сухими, сейчас тяжело обвивают его затылок наподобие латинской буквы «C». Тело его вздымается еще раз или два, а потом, полностью истратив свою энергию, обрушивается на меня. Я хочу навсегда запомнить эту тяжесть.
Тело мое впитывает воду. По звуку слышу — снег снаружи превратился в дождь. Я окружена водой со всех сторон. Моя кожа покрыта водой, но кожа дышит глубже всего, именно когда ее увлажняет вода. В воде каждая клетка напрямую впитывает кислород. Я впитываю в себя пот мужчины так, словно он — мощный увлажнитель. Кто-то сказал мне когда-то, что человеческое тело способно впитывать в себя вещества лишь в растворенном состоянии. Даже кислород, которым мы дышим, сначала растворяется в нашем организме в воде.
Снег растаял, не оставив на асфальте даже легчайшего намека на белизну.
— Скоро рассветет. В это время года рано светает, — сказал мужчина и был абсолютно прав. Утреннее небо на мгновение полыхнуло зарей — и тотчас же воздух наполнился ярким светом. Мужчина немедленно, за секунду, натянул на себя одежду, и хотя я понимала, что это всего лишь признак здоровой практичности не желающего подхватить простуду человека, привыкшего работать в связке, все равно стало грустно.
Он повел грузовик назад, к домам. Мокрый бетон блестел, далеко отбрасывая солнечные искорки. Чтобы разгрузить двери, ему не понадобилось и часа. Я решила — неохота одеваться, так и поджидала его — голая, завернутая в одеяло. Шерсть одеяла удерживала тепло тела, футон прижимался к коже. В кабине стоял сильный запах пота, не похожий на тот, что я ощущала раньше. Я снова задремала.
Разбудил меня звук открывающейся двери. Мизансцена изменилась. Мужчина расстегнул верх своего комбинезона. Может, ему от работы жарко стало? А может, он только что в туалете был?
Он поворачивается ко мне спиной. Оглядывается через плечо.
— Спину мне поднимешь?
Он хочет, чтоб я подняла лямки, болтающиеся сзади, но я предложение игнорирую. По-прежнему завернутая в одеяло, вскакиваю быстро, как молния.
Рывком задергиваю занавеску у ветрового стекла со стороны водительского сиденья.
— А теперь изволь-ка мне свой член показать. Давай-ка. Хочу рассмотреть тебя, как ты меня ночью рассматривал.
— Не сейчас. Он сейчас маленький. Не надо сейчас.
— Да не имеет значения.
— Имеет. Хочу, чтоб ты его увидела, когда он большой.
— Что так?
— В каком смысле «что так»? Просто всегда так бывает.
— Знаешь, ты — это ты, стоит твой поршень или нет. Так?
Задергиваю занавеску со стороны пассажирского сиденья. Всего в грузовике пять занавесок. Две — у ветрового стекла, по одной — у окошек сзади, и еще одна, отделяющая пространство сзади от сидений.
— Давай-ка я с тобой поиграю, как ты со мной.
Склоняюсь над его пахом, стараясь, чтоб из окошка меня видно не было. Член его проскальзывает мне в рот, касается задней стенки горла. Не задернуты ни занавески задних окошек, ни та, что отгораживает нас от сидений. Он запускает пальцы мне в волосы, наматывает их себе на пальцы. Конечно, заглянуть в кабинку трейлера, поднятую так высоко над землей, можно только либо из другого грузовика, либо из очень больших внедорожников, и сомнительно что-то, чтоб подобные средства передвижения вдруг появились здесь в этакое время суток. А хоть бы и появились — сиденья достаточно загораживают обзор, ни его, ни меня им не увидеть. Я взглядываю назад, в крошечное окошко в самом конце кабины, и вижу: солнце медленно поднимается все выше. С каждой минутой, с каждой пробегающей мимо секундой вращается планета. Колеса грузовика (резина на них не шипованная, Окабе мне объяснил, что дальнобойщики зимой резину не меняют) тихонько погромыхивают по земной тверди, и мир продолжает крутиться, Земля вращается в такт вибрациям грузовика. Чувствую что-то, пришедшее бог весть из какого далека. Звуки приходят издали — из мест, отстоящих отсюда неизвестно насколько. Каждый из этих звуков — иной, ни один не похож на другие. Птица скачет по ветке. Слышны голоса идущих в школу детей. Я поднимаю глаза.
Глаза наши встречаются, и в эту секунду меня с ног до головы пронизывает горячая волна смеха, достигает самых глубин моего существа, но я у него отсасываю, так что вырваться наружу бедному смеху никак не удается. Смех опускается ниже, впитывается в меня, подобно вчерашнему снегу. Люби меня.
Смех опустился ниже, впитался в меня. В моем теле — в истинном моем «Я» — более нет слов, в нем нет ничего, кроме вибраций, все, что надо, — заставить его чуть шевельнуться, сделать первый шаг, и оно постарается само найти направление движения. Это — не мысли, не значения. Нет. Это — нечто, подобное желанию или голоду; если перевести ощущения в слова, выйдет слишком просто — люби меня, люби меня, люби меня. Голоса трепещут в дрожащем сосуде, в который обратилось мое тело, голоса всплывают изнутри, вздымаются, замирают и снова движутся, плывут то туда, то сюда в теплой сонной тьме, не знающей мыслей и значений. Температура моего тела распалась на множество температур, у каждой части — своя, отдельная, но — неизвестно как — все эти разные температуры — точки кипения.
Фелляция?
Дистилляция?
Слова прорастают во мне подобно зернам, повторяются, напевают следом за далеким, чуть слышным голосом, который произнес: — Очищение.
Извлечение определенных компонентов из раствора при помощи высокой температуры. Наконец-то я вспомнила. Дистилляция. Очищение.
На сей раз я понятия не имею, вслух или нет произношу эти слова. Чувствую, все вокруг успокоилось, боль утихла. Перед глазами все плывет — и я падаю.
Я отключилась.
Первое, что замечаю, придя в себя, — сиденье откинуто, я — голая, завернутая в одеяло — лежу на мужчине, он одет, обнажены только гениталии. Снова сажусь, но мужчина не спешит подниматься, валяется себе на спине. Поднимаю верх его комбинезона. Любопытно, и когда это он успел новый презерватив надеть? Протискиваюсь назад, в тесное пространство между сиденьями. Собираю свои шмотки. Одеваюсь. Тело все еще помнит смех, налетевший подобно порыву ветра, пронесшийся сквозь меня. Но самоуверенная, сильная женщина, которой я была совсем недавно, уже исчезла, слетела с меня, точно сброшенная кожа, и снова влезть в эту кожу более не удастся.
Мужчина садится. Помню ли я, как его зовут? Окабе… а дальше? «Иероглиф «ки» — он ведь обычно надежду означает, а в вашем случае, значит, надо читать «така»? Весьма необычно, правда?» Иероглиф, означающий надежду, всплывает у меня в мозгу, становится на свое место в складывающемся паззле. «А имя свое вы как произносите?»
…Такатоши.
После ночного снегопада день всегда ясный. Указатели с названиями городов, через которые мы проезжали, с потрясающей регулярностью оставались позади. В каждом новом городе висели они под светофорами, но мне никак не удавалось связать надписи между собой, сообразить, в каком направлении мы движемся. В данный момент я представления не имела, ни куда Окабе едет, ни когда ему надо там быть, ни какую часть своей работы он сейчас выполняет. Я даже не знала, стоит ли мне ехать с ним или нет. Не знала, куда себя девать.
Снег, который падал в Токио ночью и растаял под утренним солнцем, здесь еще лежал. Поскольку дело тут явно было не в широте или в долготе, я довольно долго терялась в догадках, почему же он не тает, пока не уперлась носом в совершенно очевидный ответ: просто большие города производят гораздо больше тепла, чем эти крошечные городки!
— Мы в Ниигату едем? — спрашиваю просто для того, чтоб разговор начать.
— Нет, в Кавагучи.
— В Кавагучи?! — неожиданный ответ меня потряс.
— Я там груз шин хочу взять. Глупо мотаться с пустым грузовиком.
— Да, наверно, ты прав. Пустой грузовик — плохо, да?
Впереди возникает железнодорожная станция. Читаю указатель: «Мисато». Мы проезжаем транспортную развязку, мимо проносятся палатка с горячей лапшой, зал игровых автоматов, закусочная и пирожковая. А потом — впереди, позади — опять только безмолвная, безжизненная земля.
— Ты сам себе заказы находишь?
Домов здесь очень мало, расстояния между ними огромные, те немногие здания, которые мне удалось рассмотреть, либо бары с караоке, либо большущие залы с игровыми автоматами. Дорога все еще мокрая, покрытая слякотной грязью.
— Нет, заказы мне представители торговой компании подбирают.
— А я думала, ты сам на себя работаешь. Разве «свободный человек» не это означает?
— Так я ж в компании и не работаю. Просто дальнобойщику-частнику очень уж трудно получить коммерческий регистрационный код — ну, такая зеленая штука на водительских правах, которая нужна, если хочешь на машине денежку зарабатывать, понимаешь? Я ради нее контракт с компанией и заключил.
Когда он закончил грузить свои шины, было уже пять дня.
Я смотрю с эстакады вниз. Вижу, как на долгом речном берегу зажигаются один за другим редкие огоньки. Лучи заходящего солнца окрашивают тонкий покров еще не растаявшего снега и низко зависшие ближе к западу облака. Красивая картинка: городок словно парит в оранжевом пространстве! Стиснутое между двумя длинными до бесконечности полосами отраженного света небо наконец-то поменяло цвет с бледно-голубого на ультрамариновый.
— Мы в Ниигату поедем?
Хорошо бы все-таки знать, что со мной и как.
— Угу.
— А как мы туда доберемся? По скоростному шоссе Канецу?
— Нет, мы по обычным дорогам поедем. Мы ж дорожные пошлины из собственного кармана платим.
— А-а…
— Послушай-ка. Ты сказала, что просто покататься хочешь, так?
— В каком смысле?
— Понимаешь, я женат.
— Ну, женат. Мне-то что?
«Мне-то что?» Пытаюсь сделать вид, что мне вообще плевать с высокой горки, и ощущаю, что это правда, мне действительно абсолютно все равно. А с другой стороны — на меня словно ушат холодной воды выплеснули.
— Да ничего такого. Нет проблем.
— Что-то я тут заминочку уловила, — ехидно тяну детским голоском.
— Просто за мной довольно долго одна баба гонялась. Прямо преследовала, как маньячка какая. Я так понимаю, она маньячка и есть. Если честно, она и сейчас еще за мной бегает. Я тут подумал — хреново выйдет, если и ты из таких окажешься. Очень она настырная, баба эта.
Сказать на это мне нечего.
— А ты сама-то чем занимаешься? Вроде говорила…
— Я чем занимаюсь? Пишу.
— Ты в фирме, что ли, работаешь?
— Нет.
— Значит, вроде меня — сама на себя? Тоже человек независимый? И платят сдельно, да?
Мы проезжаем Ноду, потом — Касукабе, потом я вижу дорожный указатель, на котором написано «Кисаи». Железная дорога сюда, должно быть, не добралась, потому что домики и лавчонки нигде не собираются группами, они просто разбросаны здесь и там, раскинуты в полном беспорядке. Снег лежит на жестяной крыше ветхого, бедного магазинчика, вывеска его облупилась и проржавела, надпись на этой вывеске выведена старинной каллиграфией. Между домиками проглядывают поля, поникшие стебли жалко торчат из оголенной мерзлой земли.
— А какие преимущества у независимого дальнобойщика?
— Ну, во-первых, ты ни с кем особо не связан. Потом, еще совсем недавно можно было получать реально денежные заказы. Сейчас, ясно, экономика наша в паршивом состоянии, и такой работенки больше нет. Или, скажем, есть у тебя груз мороженого тунца, а в кишках пакетики с коксом припрятаны, — ну вот, такие перевозки всегда частникам поручают. С таким товаром тебе никак не стоит засвечиваться с крупными грузоперевозочными компаниями, но, с другой-то стороны, неохота и рисковать, вручая такой товар какому-нибудь хмырю, которого впервые в жизни видишь, точно? Ну, вот. Значит, надо использовать связи, поспрашивать, понимаешь, через приятелей своих приятелей или через кого там еще, поискать ребят без прошлого, с чистой биографией, чтобы постоянный адрес был и все такое, и правильно, если так не поступишь — груз свой, считай, потерял. Кокс они в рыбу запихивают, пока суда еще в океане, где-то к югу от Кюсю, а поскольку рыбины эти мороженые, даже ищейкам, которых копы на наркоту натаскивают, запаха кокса не унюхать. Так вот, приходит корабль в гавань, а покупатели — не то что с нормальной рыбой — товар поджидают. И значит, посредники — я якудзу в виду имею — говорят: груз надо доставить в Токио как можно быстрее, прямо на рыбный рынок Цукидзи, так что они дорожные расходы оплачивают, пошлины для скоростных шоссе и все такое, пятьсот тысяч йен наличкой, прикинь? А когда приезжаешь на Цукидзи, ясное дело, тебя там уже ждут.
— А они что, так и говорят тебе, что внутри?
— Конечно, говорят. Очень уж необычные условия, понимаешь? И еще спрашивают: ты какую оплату предпочитаешь — пятьсот тысяч наличкой или кокса на ту же сумму? Чем захочешь, тем и дадим. Мне кокс ни к чему, так что я всегда бабками беру.
— А что, есть водители, которые кокаин употребляют?
— Хватает. На Кюсю половина дальнобойщиков на нем сидит. Ну а по-честному, ты-то чего ожидала? Всю ночь в пути, за рулем — как?
У Окабе обычно такое спокойное, ласковое лицо — голову дашь на отсечение, что человек он очень тихий. Но, оказывается, если его разговорить — как вулкан взрывается. Болтовня с ним помогает мне забыть о голосах внутри.
— А давно ты женился?
— Да года три будет, наверное.
— Дети есть?
— Есть ребенок.
— Мальчик или девочка?
— Девочка.
— Сильно ее любишь?
— Мы с ней не очень-то близки. Я ж дома почти не бываю.
— Да, полагаю, дома ты действительно бываешь не слишком часто…
— Не слишком часто — это точно. Я что имею в виду: у меня ж в основном ездки одна за другой идут, как только один груз сдам — сразу же следующий беру и сразу опять на трассу.
— Значит, вот как ты называешь свои путешествия — ездки?
— Ага. Или ездки, или возки.
— Но если ты так и ездишь по кругу, значит, в половине случаев ты привозишь грузы в Токио, так? И где же ты ночуешь, когда в Токио приезжаешь?
— Компания содержит такое заведение, «Приют водителя» называется, только я там почти никогда не останавливаюсь, мне в грузовике расслабиться проще. Фура — это вроде как дом мой.
— Как ты это место называешь? — киваю в сторону пространства позади сидений.
— Спальней называю.
— Можно попробовать там прилечь? — Скидываю туфли, снова перебираюсь в «спальню» и укладываюсь на футоне. Я впервые вытягиваюсь на нем в полный рост. — Ух ты, здесь даже ноги свободно вытянуть можно!
— Надо думать — твои-то. Я свои и то вытянуть могу.
— И сколько же в тебе росту?
— Думаю, где-то метр девяносто будет.
— Господи. Высокий ты парень, однако!
— Ага. Наверно, очень высокий.
— Слушай, а та баба, которая за тобой охотится, она знает? Ну, знает, что ты женат?
— Да знает она все. В смысле, она за мной уже, считай, десять лет гоняется, при помощи женитьбы от нее не отвязаться, не из таких. Она просто сразу все неправильно поняла, вот в чем проблема, ну и вбила себе в голову всякие там дурацкие идеи типа того, что только одна она меня и понимает по-настоящему, — в таком вот духе. Я правда никак в толк не возьму, как это она сама в такую хрень верит? Парню вроде меня, который постоянно с места на место разъезжает, никогда такую психологию не понять. Никогда. Ты прикинь — кто знает, вот сейчас мне кажется, что женщина рядом со мной — лучшая в мире, а потом приеду я, скажем, в Сендай — и встречу там кого-нибудь, кто мне еще сильнее понравится, а если, скажем, потом на Кюсю поеду — может, там встречу другую, кто мне еще больше подойдет, ведь правда же? Если ты, например, служащий женатый, и живешь в таком мире, где все считают, что всю жизнь быть верным одной женщине — правильно и естественно, вот тогда, если свяжешься вдруг с какой-нибудь сотрудницей, люди правильно скажут — сволочь, жене изменяет! Но в чем штука — такое годится только для мужиков, у кого только и есть дом да служба, а больше у них в целом мире ничего и нету. Я номер своего мобильника, может, раз десять, может, больше менял, знаешь? А я по телефону постоянно насчет работы договариваюсь, так что хреново это для меня — слов нет, каждый раз свой новый номер скольким людям пересылать приходится! А баба эта потом еще дурочку из себя разыгрывает! «Что? — говорит. — Откуда я твой новый номер знаю? Что ты имеешь в виду? Ты же сам мне его дал!» Нет, ну, Господи, да я бы в аду раньше сгорел, чем этот гребаный новый номер ей дал. И сколько бы мы ни ездили, куда бы ни переезжали, однажды она все равно является. Прямо домой приходит.
— А как ей вообще удается тебя найти?
— Детективов она нанимает. А как-то раз в компанию позвонила и целую историю наплела, представляешь! Сказала, что она из страховой компании и ей срочно надо со мной поговорить, дескать, я жизнь свою застраховал, а теперь срок страховки почти истек, так как же ей со мной связаться? И пошла, пошла языком трепать. В таком вот духе. А один мудак из офиса и правда решил ей мой номер мобильника дать, дебил, твою мать, Сато этого дурака зовут. Нет, ну, вот каким местом он в этот момент думал? Я потом ему говорю — слышь, каким боком у меня срок страховки может почти закончиться, если я жизнь свою застраховал? Мне, по-твоему, сколько лет — сто? Не мог мозгами пораскинуть, сказать ей, чтоб отвалила на фиг? А раз не сказал — значит твоя это вина, что мне номер менять приходится, ты мне это и оплатишь, усек? И никогда больше мой номер никому давать не смей, никому и никогда, понял, пускай хоть полиция спрашивает!
— Боже мой, она и в полицию уже обращалась?
— Нет, этого пока не пробовала, но я так понимаю — раз уже страховую компанию в ход пустила, то, верно, следующим номером программы полиция пойдет. А ты не думаешь? Хотя, конечно, полицейские свои собственные каналы для получения информации используют, да и не станут они с ней говорить. И потом, меня полиции найти — раз плюнуть, с моим-то прошлым.
— Вот как? А что ты натворил?
— Восемь случаев оскорбления действием, два случая хранения легких наркотиков, что там дальше-то… ага, один случай продажи легких наркотиков и два случая шантажа. Я тогда был — как это называется-то? — несовершеннолетний правонарушитель. С восьмого класса и пока мне восемнадцать не стукнуло, в уличной банде состоял.
— А, таких, как ты, полицейские называют «бывшие малолетки».
— Ага. Думаю, ты все правильно говоришь.
— Надо же, а по виду твоему никогда не подумаешь!
— Правду хочешь? Разборки между бандами уличными — совершенно не копов собачье дело, честно. Держались бы они подальше, всем бы лучше было. Меня почему тогда замели? Да потому только, что в драке победил! А проиграл бы, так оказался бы потерпевшим, так? Вот я и полицейским это втолковать пытался, ну, свою точку зрения отстаивал, только они меня и слушать не стали.
Понимаю, что хохочу во все горло.
— Слушай, а и правда — логично!
— Угу. Но я тогда мальчишкой был, говори не говори — один хрен. И потом, если б копы могли просечь такой ход мысли, они бы меня с самого начала не стали задерживать. А, да, хорошо, что вспомнил: мне еще один раз из службы спасения звонили.
— Эта, которая за тобой бегает? Она сказала, что она из службы спасения?
— Мне из больницы службы спасения позвонили, ага. Сказали, что она вены себе порезала — в смысле, баба эта, — и она сейчас у них, вся кровью залитая, типа помирает, но не дает никому к себе подступиться, пока они со мной не свяжутся. Ну, я им говорю:
«Дайте-ка мне ее к трубке». Подходит она к телефону, и тут я как рявкну: «Да сдохни ты наконец, идиотка!» — и трубку бросил.
— Бросил трубку, когда женщина вены себе перерезала?
— Я тебя умоляю! Если в этой истории и есть жертва, так это я, точно! Слушай, если человек и вправду помереть хочет, он идет в ванную, наполняет ванну горячей водой и, когда вены себе порезал, руки в воду опускает. Вот как это делается. Если так сделать, то тебе точно не жить.
— Вы с ней что — встречались когда-то?
— Да ни в жизнь! Никогда мы с ней не встречались… Я ее как-то на грузовике прокатил, вот и все. В смысле, она мне говорит — покатай меня, пожалуйста, понимаешь? И что мне делать было? Я типа решил: может, если я ей разрешу в кабине посидеть, с нее этого хватит, может, потом она от меня отвянет? Да уж, точно тебе говорю, с моей стороны это колоссальная ошибка была. Потому что, пока я фуру загружал, она такое выкинула! Представляешь, перерыла все, нашла мою записную книжку — адреса там, телефоны, все такое — и переписала все, что только успела. Номер девчонки, с которой я тогда встречался, номер моих родителей, все на свете. А потом с этими номерами как с цепи сорвалась — стала звонить везде, истерики устраивать и все никак, ну, никак не затыкалась. Я тогда родителям ее позвонил, поговорил с ними. Вежливо так им сказал: «Слушайте, мне из-за вашей дочки уже несколько раз квартиру менять пришлось, так может, вы наконец проснетесь и хоть что-нибудь предпримете, а?» А папаша ее отвечает: «Ах, мы так сожалеем, нам так стыдно, делайте с ней что хотите, хоть поколотите — нам все равно, не наша проблема!» В таком вот роде… Только знаешь, у кого неприятности начались, когда я этому совету последовал? Не знаешь? А я знаю.
— Ты ее правда избил?
— Да.
— Неужели кулаками бил?
— Ясен пень, кулаками! Слушай, эта баба гонялась за мной с огроменным таким кухонным ножом. Я ее на пол сбиваю, а она вскакивает и опять за мной гонится, представляешь? Если ты к женщине никакой симпатии не испытываешь, если ты женщину на дух не переносишь, так она, знаешь, похуже любого мужика будет.
— И где это происходило?
— Дома у нее.
— Что-о?! Какого дьявола ты поперся к ней домой, если так ее ненавидел?
— Из-за двух несовместимых личностей.
— Ничего себе!
Почему-то я от этой фразы буквально обалдеваю.
— Бывают, знаешь ли, времена, когда я не за рулем. Мне тогда хочется просто прийти домой и расслабиться. А когда я в таком настроении, меня лучше просто оставить в покое, и все. Тот «Я» и этот «Я» — совершенно разные люди, и личности у них несовместимые. Есть «Я», которому хорошо, когда он домой возвращается и расслабляется, — и другой «Я», который по-настоящему расслабляется, только когда из дома выходит и в кабину залезает, и хотя эти двое — один и тот же человек, по-настоящему они — не один и тот же человек. Проблема, что бабе этой — ну, которая за мной бегает — одному «мне», вот этому, пакостить недостаточно. Ей, видишь ли, до смерти охота еще и ту, другую мою жизнь сломать. В смысле, я, когда в грузовике, ничего не имею против оттянуться как следует, но в другой жизни…
— А страшно это было — тогда, с ножом?
Перед грузовиком неожиданно проносится машина, и Окабе с силой жмет на тормоза.
— Блин, ну и козел!
Когда я с кем-нибудь разговариваю, голоса внутри успокаиваются, засыпают. Я превращаю их в некое подобие крови, бегущей по моему телу.
Две несовместимые личности. Чувствую, что услышала что-то очень важное.
Окабе — великолепный рассказчик, он меняет тембр голоса, изображая разных людей, он умело вставляет в свои истории прямые цитаты. Слушать его — сплошное удовольствие, и я хочу послушать еще, вот и пытаюсь снова вытащить его из раковины, заставить снова заговорить.
Две несовместимые личности.
Так — дословно — выразился Окабе. Что он имел в виду? Что личность, которой он становится за рулем грузовика, и личность, в которую он превращается вне грузовика, отдалились друг от друга настолько, что утратили способность к совместному существованию? Очевидно, так. Есть у меня прелюбопытное подозрение — вполне возможно, что две эти несовместимые личности обитали в нем с самого рождения, и грузовик он стал водить лишь для того, чтоб держать их порознь.
Мы движемся по Семнадцатому маршруту, едем по каким-то окольным дорогам. Я заставляю его показать мне карту и сразу же вижу: да, так мы почти прямиком доберемся до Ниигаты, по пути проедем через Саитаму и Ганму. Спускается ночь, шум и вибрации трейлера словно стали громче и заметнее. Я наполовину опускаю стекло. Высовываюсь наружу. По краям дороги еще осталось немного снега, но холодный воздух за окошком уже сухой. Ветер играет с моими волосами, кусает лицо. Пытаюсь что-нибудь крикнуть, но ветер подхватывает крик, разбивает в осколки и стремительно уносит вдаль от грузовика. Рядом, на водительском сиденье, — Окабе. Он улыбается — очень осторожной, вежливой улыбкой. Не могу определить точно, но все время чувствую разницу между его словами и манерой изъясняться, с одной стороны, и выражением его лица — с другой. Эта разница вызывает желание узнать о нем побольше и одновременно — ощущение, что я совершенно его не понимаю.
Я оставляю окошко чуть приоткрытым. Немного спустя осознаю — именно здесь внутреннее пространство грузовика особенно созвучно пространству внешнему. Шум мотора, шорох крутящихся колес и гул, с которым грузовик рассекает воздух, сливаются, объединяясь в своеобразную мелодию, подобную хоровому пению множества женских голосов. Лучше всего я слышу эти голоса, когда Окабе переключает скорость, пока механизм не стабилизируется. Не созвучие, скорее диссонанс, какой создают, сталкиваясь, сходные звуки, взлетая и понижаясь почти незаметно для человеческого уха. Прислушиваешься к таким звукам — и они, искажаясь, начинают постепенно эхом отражаться друг от друга, порождая в тебе чувство странной успокоенности. Но чем сильнее прислушиваешься, тем явственнее возникает уверенность: если когда-нибудь эти столь разные звуки сольются в единый напев — то, что я услышу, будет исполнено глубокого значения. Приходится поскорее снова поднять стекло. В груди возникает неприятная, тревожная тяжесть, волоски на коже буквально встают дыбом. Принимаюсь то ерошить пушистый ворс обивки сиденья, то вновь его приглаживать. Хочется коснуться обнаженной шеи Окабе, но он ведет машину, нельзя. Поэтому только и остается, что скользить, лаская, ладонью по ворсу. Говорить абсолютно не о чем, и я расспрашиваю его, что и к чему у него в кабине. Есть, например, два багажных отсека — один над пассажирским сиденьем, другой — над водительским. В том, что над пассажирским, Окабе хранит рубашку с длинными рукавами, а в том, что над водительским, — тенниску. Спинки сидений откидываются до самого конца, а если понадобится, то можно опустить даже рычаг переключателя скоростей. Рычаг откидывается так же, как и спинки сидений, он так и называется — «откидной переключатель». Я думаю — надо же, какое смешное название, право, очень хочется записать, чтоб не забыть. Шарю в своем рюкзаке, пытаясь отыскать блокнот. Тотчас же всплывает мыслишка: привычка — вторая натура, и я ехидно ухмыляюсь. Я ведь тут не на задании. Неожиданно вся ситуация кажется невероятно забавной, и я взрываюсь смехом. Слова. Да что такое слова, в конце-то концов? Могла бы я улыбаться, если бы слов не было? Могла ли я испытывать удовольствие, когда слов не хватало, а улыбка становилась всего лишь рефлексом?
— Весело тебе, да? — говорит Окабе.
И я впервые осознаю, что это правда, сейчас мне и впрямь по-настоящему весело. Верно. До меня мои собственные ощущения всегда доходят как до жирафа. Прошлой ночью я поняла, что хочу Окабе, и незамедлительно пошла и прямо сказала, что хочу его, — большое событие в моей жизни! Продолжаю шарить у себя в рюкзаке. Рука натыкается на что-то, явно не похожее на блокнот. Что-то холодное. Мой диктофон. Я постоянно ношу его с собой, чтоб всегда быть готовой на случай, если кто позвонит, — не важно кто, не важно, в какое время суток.
«Добро пожаловать на гору Касе!» — написано на указателе с изображением горы. Судя по стилю написания иероглифов, сразу можно догадаться, что гора — священная, где-то на ней расположен храм. Не знаю точно когда, но в какой-то миг дорога, по которой мы движемся, начала понемногу подниматься вверх, в гору. Проезжаем еще немного, и справа возникают ярко освещенные алые ворота синтоистского святилища. Огромные ворота. Грузовик въезжает внутрь. Окабе поворачивает руль, перед глазами у нас — куда более крутой склон другой горы.
— При-и-ве-ет, гора Акаги! — кричит Окабе.
— Это все еще Семнадцатый маршрут? — спрашиваю.
Окабе сердито фыркает:
— Три — пять — три.
Потом продолжает:
— В Маэбаши вечно пробки, даже поздно ночью — и то пробки, все из-за светофоров. Так что мы лучше через гору Акаги поедем.
Я снова смотрю на карту. Маршрут 353 огибает гору с южной стороны. Святилище, должно быть, на самой вершине, ворота, через которые мы только что проехали, — внешние, указывающие к нему дорогу. Ниже, на уровне моря, воздух был сухим, но здесь, на большой высоте, я замечаю: в воздухе плавают крошечные, поблескивающие кристаллики снега. Пристально разглядываю эти кристаллики. Постепенно в воздухе — вперемешку с кристалликами — появляются и маленькие белые снежинки. Снежинки, кружась, пролагают себе путь среди кристалликов и медленно падают на землю. Едем сквозь эти белые хлопья — и спустя немного времени начинает казаться, что я нахожусь внутри трубы или тоннеля, надежно отгороженная от прежнего своего «Я». Истинная «Я» — здесь и сейчас, в полусонной заснеженной пустоте. Впереди возникает движение — это заработали «дворники». Ощущение такое, словно звук, с которым они движутся по стеклу, по капле просачивается откуда-то издалека, — так по крайней мере мне кажется. И — не сразу, далеко не сразу — я вспоминаю о существовании своего тела. «…Снег идет».
Слова рождаются у меня во рту, словно вынесенные прибоем из бездонных глубин памяти. Произношу их снова, произношу ясно, вслух:
— Снег идет.
Но я продолжаю всматриваться в снежную белизну и слово «снег» распадается, рассыпается на «с», «н», «е» и «г», а сила, объединявшая эти четыре буквы, сила, связывавшая их между собою, бесследно исчезла, и уже никак ее не вернуть. Не понимаю больше ни почему «с», «н», «е» и «г» следуют друг за другом именно в таком порядке, ни почему эта буквенная последовательность означает имя белого нечто, падающего с неба. Ну ладно, врубаюсь. Сила, объединяющая четыре буквы, исчезла, потому-то эти штуки так сухи, легки и бестелесны, потому-то и валятся они с неба, потому-то… может быть. Я касаюсь ладонью одной руки запястья другой, убеждаю себя в теплоте собственного тела, но к снегу это не имеет ровно никакого отношения. Прижимаю ладони к щекам, но у них тоже нет со снегом ничего общего. Поворачиваюсь к сидящему бок о бок со мной — нет, конечно, я знаю, кто он, уж его-то я знаю отлично, но… скажите, какое все это имеет отношение к снегу? Снег… у него нет ничего общего ни с чем на свете. Как нет связи между буквами «с», «н», «е» и «г». Но теперь в голову приходит новая мысль — а возможно, все вовсе не так? Не в том дело, что ничто более не связывает между собою «с», «н», «е» и «г». Совершенно не в том. Дело в том, что нити, связующие «с», «н», «е» и «г» между собою, бесконечно длинны, можно соединять эти буквы в любой последовательности, а в итоге — после множества случайных комбинаций — все равно выйдет чистейшая, ярчайшая белизна, как белым становится свет на пересечении направленных в одно место лучей спектральных цветов. Возможно, именно это и вижу я сейчас — впереди и позади, вверху и внизу, крошечные слепяще белые штуковины, что падают и падают с небес — неустанно и бесконечно. Возможно, именно в этом и заключена суть снега. Я подозреваю, что так оно и есть.
Резкий горизонтальный толчок отбрасывает меня вбок. Такое ощущение, что у меня сейчас кишки наружу вылетят. Судорожно обхватываю живот руками. Наклон становится круче. Может, случилось именно поэтому? Может, именно так я утратила смысл слова «снег»? Тело мое с силой заносит вперед — и все. У подножия матового, тускло блестящего белоснежного склона сияют и искрятся крошечные огоньки. Разноцветные огоньки города, широко, до бесконечности разбросанные впереди, не тесными кучками, но и не в слишком большом отдалении друг от друга — интервалы между ними достаточно ровные. Это уже Маэбаши? Мысль мелькает, но прежде чем я успеваю выразить ее словами, рот трескается — он тоже разбился в осколки, превратился во множество белых снежинок, падающих все ниже, и одновременно в дрожащие огоньки внизу, за которыми я сейчас слежу взглядом. В отдалении слышу какой-то шум. Слышу голос, доносящийся из места, что очень похоже на одну из снежинок, водящих вокруг меня неторопливый хоровод.
Кто-нибудь меня слышит ?
Я — точно.
Один голос — совсем близко, другой — очень далеко.
Мишуку юнайтед… Говорит Мурасаки-один.
На десять-тринадцать к северу от Цукиено снег идет ?
Да, в Нумате — лед.
— Это у вас коротковолновая внутренняя связь?
Голос исчезает без предупреждения. Снег все еще падает, но ощущение снежного тоннеля, в котором я заблудилась недавно, пропало.
— Да, — отвечает Окабе. — В Цукиено приезжаешь, если движешься по скоростному шоссе Канецу — хоть туда, хоть обратно. Мы скоро там будем.
Снежный Хоккайдо…
Этот голос — тише, он звучит более отдаленно, чем остальные. Понимаю, почему электромагнитные волны так назвали. Голоса и впрямь звучат волнообразно, поднимаясь и затихая, они — настоящие волны, волны в самом прямом смысле слова. Волны, повинуясь напору друг друга, вздымаются, принимая новые формы, — голоса дрожат.
— Господи, а вот такое точно нечасто услышишь! — изумленно, в полный голос восклицает Окабе.
— Что? Что случилось?
— Этот парень — черт знает где на Хоккайдо. Зимой сигналы с такого огромного расстояния почти никогда не доходят. Летом, понимаешь, звуки отражаются — не то от ионосферы, не то еще откуда. Но зимой!..
Мало-помалу мы аккуратно спускаемся все ниже. Городские огни, за которыми я наблюдаю, медленно перемигиваются на подножии мягко круглящегося склона, мне кажется — они пульсируют в такт волнам внутренней связи, и теперь во всем мире слышим друг друга только мы двое и владелец того далекого голоса с Хоккайдо. Мы связаны нитью, протянувшейся сквозь мрак, присмотревшись, можно увидеть, как соединяет она две светящиеся точки. Голос и сопутствующее ему потрескивание постоянно прерываются, разбиваются на отдельные сигналы. Но все равно мы их слышим. Голоса — звуки, которые мы привыкли именовать голосами, — обратились в некое подобие азбуки Морзе. Я полностью сосредоточена на звуке — словно пытаюсь уловить скрытое в нем тайное послание. Тело кажется пустым. Мне знакомо это ощущение. Скоро на поверхность стремительно всплывет нечто из самых глубин моего существа, нечто, все это время лежавшее под спудом, придавленное собственной тяжестью. Что это будет? Когда произойдет? Когда, когда точно? Что-то, чего мне всегда не хватало, что-то, чего я страшусь…
— Странно как, — говорю чуть слышно, почти себе под нос. — Он так далеко, а чувство такое, точно прямо в груди у тебя разговаривает!
Внутри меня что-то происходит. Чувствую — внутренности вновь слегка сводит. Понятия не имею, что происходит, от этого становится очень тревожно, и я просто не выдерживаю — протягиваю руку и кладу ладонь на рубашку Окабе, ощущаю сквозь ткань тепло его предплечья. Хочу прикоснуться к его коже. Хочу, чтоб прекратилось это сжатие внутри. Хочу… нет. Не хочу, чтоб оно прекращалось. Мне не нравится шум внутри, порожденный голосами внутренней связи, но в то же время мне чудовищно их не хватает. Что происходит?
— Иногда, если проводимость хорошая, звук даже громче, чем от раций, которые гораздо ближе. Хоккайдо — он очень удачно расположен, так что если все нормально идет, звуковые волны иногда очень далеко разносятся. И тогда если парень с Хоккайдо в эфир выходит, спрашивает, хочет ли кто поговорить, его все — понимаешь, вообще все — вокруг слышат. Вот и получается — все вокруг разом отвечают, типа «Токио на связи!», «Чиба Бозо на связи!» — ну, в таком духе.
Чиба Бозо? Клоун Чиба?.. А, не Бозо — город Босе!
— Поймать можно только очень сильные сигналы. И если тот водитель с Хоккайдо снова в эфир выйдет и скажет: «Токио, прием, говорите!» — ну, тогда куча народу из Токио разом ответит, а уловить опять-таки можно будет только самые сильные сигналы, как и вначале.
У меня внутри словно что-то кружится. Может, это оттого, что едем мы по горной дороге, извилистой, полной крутых поворотов. Окабе убирает с руля одну руку, легонько накрывает ею мою. Я закрываю глаза, но увиденное, надежно впечатавшееся в память, всплывает перед сомкнутыми веками: долгие лучи придорожных фонарей, возникающих и исчезающих через одинаковые промежутки времени; белые фары машин, движущихся нам навстречу; красные задние фонари впереди идущих автомобилей — и все они подрагивают почти что в такт непрестанным поворотам дороги. Потом — за краткий миг, за крошечную долю секунды — ощущение его руки на моей, его слова, состояние, в котором я пребываю, огни, что я успела увидеть, вибрации — все переплетается, соединяется в единое, неразрывное целое.
— Вся штука в том, что самые сильные сигналы всегда верх берут, понимаешь?
Я — в месте, расположенном в сердце пустоты. У меня больше нет никакой формы.
— И сколько случаев было, когда сразу и не определишь…
Слова, картины, ощущения ложатся друг на друга подобно слоям плотной ткани. Все они — части меня. Видеть и слышать, прикасаться и чувствовать прикосновения — как все смешалось, как сходно стало одно с другим! Достаточно близко? Достаточно сильно?
Не разобраться, не различить зрения, слуха и осязания. Все превратилось в бессчетные крупицы информации, вспыхивающие стремительно и ярко, как огоньки.
— По-любому, на нашей стороне сейчас проходимость никакая, вот я и не могу ответить.
Я очнулась и обнаружила, что глаза мои открыты и я все еще рассматриваю проносящиеся мимо огни.
Понимаю: я сказала, что голос, слышный по рации, звучит словно у меня в груди, и имела в виду вполне абстрактное значение этого словосочетания, пытаясь передать ощущения от приближенности к звуку, а он решил, что я подразумеваю под этим громкость передачи. Я говорила об играх сознания, а он понял так, что я попросту удивляюсь, как ясно слышен голос на огромном расстоянии. А может, эти два понятия и впрямь одно и то же? Ведь уверенность — это и есть приближенность к тому, в чем уверен, ощущение, что разрыв между тобой и предметом твоей уверенности минимален и все продолжает сокращаться, и в итоге голосу уверенности предстоит зазвучать у тебя в груди. Я моргаю. Вспышки, фейерверком раскинувшиеся перед глазами, не имеют ничего общего со светом встречных фар, который я впитываю зрачками. Крошечные, мерцающие, мигающие искры, виденные мною раньше, исчезли.
Когда мы добрались до подножия горы Акаги, снег идти перестал. Даже на земле и то не осталось.
Дорога впереди выравнивается. Нас оглушает громкий, вибрирующий статическим электричеством голос.
Окабе берет микрофон, отвечает:
— Добрый вечер, Путь в Нариту.
— Этот мужик — тоже дальнобойщик, — объясняет он мне, убрав большой палец с кнопки микрофона. Человека слышно, только пока он продолжает жать на кнопку.
— Почему ты зовешь его Путь в Нариту? — спрашиваю. Окабе отвечает — это называется «позывные», специальные прозвища, которые используются во время переговоров по рации.
— Но ведь ты сказал — он тоже дальнобойщик, да?
— Ага.
Еду вверх по семнадцатому, Мииаками. Слышишь меня ? Десять-десять!
Голос у говорящего — густой, глубокий бас. Громыхающий рев несущегося вперед грузовика то и дело заглушает его.
— Достойный-Пять. Иду по Семнадцатому, Камиширои.
Выражение, появившееся на лице Окабе, пока он говорит, яснее слов объясняет мне: он и человек на том конце линии, кем бы он ни был, — добрые друзья.
— Почему его называют Путь в Нариту?
— Понятия не имею. Наверно, просто потому, что все это незаконно, вот и нельзя использовать настоящие имена.
— Что? Это незаконно?
Эй, эй, всем. Достойный-пять тоже здесь.
Голос прорывается сквозь многочисленные помехи и с треском исчезает.
— Законно использовать только рации мощностью не более пяти ватт. По-моему, где-то так. Все, что мощнее пяти ватт, — уже незаконно. Моя малышка тут на пару киловатт потянет.
— А не более пяти ватт — это много?
— Достаточно, чтоб тебя ни одна собака не услышала. Если погода плохая, звук вообще дальше передатчика не пойдет. Передатчик — и все, дальше никуда, так-то. Все ставят усилители, чтобы увеличить мощность, понимаешь?
— А сколько видов раций существует?
— Ну, есть профессиональная и любительская.
— Это вы любительскую болтушкой называете?
Черт, черт. Ну, в этом году в Токио и снега!
Прежде чем Окабе успевает ответить, мужчина на том конце линии продолжает: Серьезно, вот опять снег пошел!
— «Си-Кью, Си-Кью, ля-ля-ля…» Вот это болтушка, да?
— Ага.
Сегодня утром у меня все электричество отрубилось, блин, ну и дерьмо, прикинь, как паршиво вышло, с ума сойти. Фары тю-тю, и нагреватель тю-тю, и тахометр тоже… Ничего не поделать было, ну, я и подался на шоссе.
— А кстати, что вообще означает это «Си-Кью»?
Конечно, с этой электрической фигней все проблемы враз исчезают в ту же секунду, как попросишь его заменить. Такие дела, приятель.
— Кто-то мне рассказывал, что это пришло из английского, сокращение слов «seek уоu» — «ищу тебя». Правда, я и другое слышал: что это значит «come here quick» — «быстро сюда». Код, который используешь, если хочешь отыскать кого-то в толпе.
Я подумал: черт, надо бы съездить завтра в мастерскую «Мицубиси», но, ясное дело, все тут же наладилось, никаких проблем… Как тебе понравится?
— Ой, а я и не знала, что «Мицубиси» грузовики тоже выпускает.
— Выпускает. «Мицубиси Фусе».
И вот когда на моей красотке все электричество полетело, оказалось, ключ застрял в зажигании. Постоянно, ну постоянно это случается. Что делать — ума не приложу. Черт, может, это со всеми автомобилями «Исузу» такая проблема, не знаю. Я и заявки подавал, и сам ремонтировать пытался, все на свете. Только мы ж не на компанию работаем, у нас жизнь другая, сам знаешь. Или ты за рулем, или голодный.
— Разве «Фусе» — это часть «Мицубиси»? Я думала, «Фусе» — отдельная компания…
— Нет, часть «Мицубиси».
Как было хреново, друг, как хреново!
— А этот человек — он на «Исузу»?
— Угу… Эй, Путь в Нариту, вокруг Акаги знаков понаставили, туда вот-вот «Накамото» заявится. Обвалы будут останавливать вроде. Так что шевели задницей.
— «Накамото»?
— Строительная компания.
Что? Так левый поворот накроется?
— А вы только мощными передатчиками пользуетесь?
— С мощными жить веселее.
— В каком смысле?
— Ага, накроется.
О’кей. Спасибо, приятель. Алло, алло. Слышит меня кто?
Из динамика доносится новый голос.
— Ты перекрываешь чужие сигналы, тебя перекрывают чужие сигналы. Кто победит, кто проиграет — зависит от мощности. С болтушкой в такую игру не сыграешь, да к тому же болтушками пользуются все эти идиоты — треплются там бесконечно, как по сотовому телефону.
— Привет. Слушай, у меня тут свиданка с Путем в Нариту, извини.
— Свиданка?
— А когда разговаривают трое или больше, это называется «сетевое общение».
Ладно, мужик. Слышу тебя ясно и громко.
— А на заднем плане кто? Ну, те, которых почти не слышно?
— Другие каналы. Они вот так вклиниваются в разговор, если передатчики достаточно мощные. Эти ребята на самом деле не так близко, просто сигналы у них по-настоящему сильные. Мой сигнал, наверное, их не заглушает.
Что, вчера журнал порнушный купить не удалось? Какое горе, брат!
Это — снова владелец второго голоса.
Ха-ха-ха.
— Веселый, наверное, человек.
— Да здесь всегда так. Ровно они либо нажрались, либо обкурились.
Мы едем и едем, и наконец я вижу, как впереди загорается дорожный указатель с надписью «Цукиено». Окабе включает индикатор, и мы прибываем в пригород. Но на автостоянку он не сворачивает, вместо этого въезжает в переулок, ведущий назад, на шоссе. У левой стороны тротуара он останавливает трейлер. Выключает рацию. Не считая шума работающего вхолостую мотора, к которому я уже привыкла, тишина стоит полная. Рядом — хрупкий зеленый мостик, под ним бежит неглубокая речушка, свет почти полной луны, разбиваясь на блики, отражается на поверхности воды. Сразу над узким речным руслом начинается гора. Я старательно прислушиваюсь, но никак не могу уловить шума воды. Снег, лежащий на камнях, одновременно белый, оранжевый от уличных фонарей и голубовато-желтый от лунных лучей.
Речушка бежит меж заснеженных камней, часто виляя то вправо, то влево. Кажется, несколько секунд назад Окабе еще разговаривал — и вот он уже спит.
В тишине снова и снова проигрываю мысленно обмен репликами по радиопередатчику. Поражает неожиданное понимание — это точь-в-точь походило на напечатанный в книге диалог с прямой речью, отграниченной знаками тире. Когда используешь рацию, передавать слова возможно, лишь пока палец нажимает на кнопку, и пока говоришь ты, голос другого человека до тебя не доходит. В точности так набирают прямую речь в книгах: пока один из собеседников заполняет своими словами пространство между тире, никто другой вступить в разговор не может. Это — общее правило, исключений из него нет. Никогда не прочитаешь, как говорят одновременно двое, никогда не увидишь, как смешиваются меж собою разные замечания, разные истории. Сделать подобное на бумаге при помощи знаков препинания совершенно невозможно. С каждым новым тире меняется личность собеседника, и ты переключаешь внимание с одного на другого. Так что пока один говорит, остальные принуждены ждать, сохраняя молчание. Конечно, к реальности это не имеет никакого отношения, просто так уж уговорено между людьми. Слушаешь передатчик — и ощущаешь, как маленькие динамики доносят до тебя настоящую вибрацию воздуха, звучание воздуха, и никакими тире этого не обозначить.
Мешанина голосов и помех снова и снова без устали прокручивается в моей голове.
Сверху и снизу, слева и справа льется лунный свет, растворяется в лучах уличных фонарей, расписывает лицо Окабе оранжево-голубым узором.
Оторвавшись от созерцания его лица, вижу — снова пошел снег.
— А ты не испугался ножа? Ну, когда она за тобой гонялась?
— Не, я такой ерунды не боюсь. Я к ножам привычный.
— В каком смысле? Почему привычный?
— Ох, знаешь, я, когда пацаном был, сам достаточно ножичком поиграл.
— У тебя в старших классах нож был?
— Нож-то? Сам я нож или что подобное с собой не таскал, но когда с парнями из банды тусовался, был там один, так он постоянно меч с собой таскал, настоящий самурайский меч. Любил его демонстрировать, попросишь показать — не отказывал.
— Что? Действительно настоящий меч? Правда подлинная катана?
— Подлиннее не бывает.
— Так как же тебе все-таки удалось с ножами познакомиться?
— Если в банде состоишь… нет. Когда уличную банду перерастаешь и опыта поднабираешься, чаще всего потом в настоящий криминальный клан попадаешь, вот так. Многие ребята даже со стволами ходили.
— Ну, уж тебе-то точно в преступной группировке делать было нечего, верно?
— Почему? Я в одной был.
— Че-го?!!
— Правда, я на самой нижней ступеньке стоял, ученик еще, не настоящий член клана. В доме служил, все такое.
— «Служил в доме» — это как?
— Примерно на недельку переселяешься в дом босса, по хозяйству помогаешь, делаешь, что велит. Предполагается — обучение проходишь. Потом потихоньку и к настоящей работе подключаешься — на звонки в штаб-квартире отвечаешь, бары, забегаловки обходишь, в таком вот духе. Как только пейджер пищит — идешь в какой велено кабак и разводишь на бабки буйного клиента, если он платить отказывается.
— Как «разводишь на бабки»?
— Ну, смотри… Начать надо полегоньку, типа все в порядке, но заплатить придется. А сам, пока суд да дело, визитку у него из бумажника вытаскиваешь. А потом откуда-нибудь издалека фотографируешь, снимаешь, как он там с девкой какой-нибудь путается. Так. Это уже тысяч на сто потянет, не меньше. Или вот еще… понимаешь, козлы эти, когда в кабак приходят, что там делают? Нажрутся и как пойдут друг дружке рассказывать, что там у них да как, все как есть выкладывают, а у каждого из них немало тайных грешков имеется. Сидишь, слушаешь про эти самые грешки, а как узнаешь что интересное — обращаешься в детективное агентство, просишь, чтоб тебе фотографии сделали, а с ними идешь к тому мужику и говоришь: «Слушай, приятель! Вот что у меня на тебя есть. Но, знаешь, я так полагаю, что лучше бы все это осталось между нами, верно? Потому как я ведь и адрес твоих родителей знаю, где же это они живут?.. А, вспомнил…» — ну, в таком вот разрезе. А потом: «Нет, что ты, доить я тебя не собираюсь, черт, как ты мог подумать, никакой это не шантаж, просто отстегни пятьсот тысяч — и все будет в лучшем виде, точно. Ты ж с пятисот штук не обеднеешь, правильно?» Несколько раз подкатывать нельзя, раз взял свое — и порядок. Чем я еще занимался-то? Да всем понемножку — плату с хозяев баров и магазинчиков собирал, долги выколачивал, которые платить не хотели, там дела вот как делаются: скажем, должен кто-то пять миллионов иен, если ты эти пять миллионов из него вытряс, тогда миллион или около того — твоя доля. Так… а еще что было? А, да. Можно девчонку найти из этих старшеклассниц, которые вечно в центре крутятся, а бабок даже на косметику не хватает, и пристроить такую девчонку на работу в бар или клуб — а то и с боссом познакомить, пусть его бабой будет. Знаешь, у рядового бандита жизнь довольно скучная.
— А когда ты завязал?
— Я в криминале меньше двух лет прокрутился. Я вообще очень быстро ко всему интерес теряю, такой уж у меня характер, понимаешь, так что от всей этой фигни с якудза у меня скоро с тоски глаза на лоб полезли. А потом в Токио работал, в квартале Угуисудани, менеджером в агентстве девочек по вызову. Есть такой мужик в Окатимати, чертовски крупная шишка в подпольном бизнесе, господин Сакамото его зовут. Ну, я и попробовал под его началом поработать, довольно долго этим занимался, только потом мне и это занятие под завязку обрыдло. Так скучно было, что все чаще прокалываться стал, ну, меня и повязали.
— За что?
— За сводничество.
— А как вы работали?
— Клиент видит наш флаер и звонит, так? Да знаешь ты, небось тыщу раз сама видела такие флаеры, они в телефонных будках расклеены, типа того, понимаешь ты прекрасно, о чем я говорю. Он, значит, звонит, а ты трубку снимаешь, говоришь: «Спасибо, что обратились к нам, о какой же девочке вы мечтаете? Великолепно, значит, я доставлю ее в такое-то кафе». В Угуисудани мы использовали заведение под названием «Луна в ущербе». И я ему говорю: «Я сейчас доставлю ее в кафе «Луна в ущербе», а вы подождите нас там. Как вы нас узнаете? А, у девочки волосы — золотистее чистого золота, так что узнаете нас вы сразу, без проблем». Едем туда, встречаемся с клиентом. Он: «Ух ты! Какая красотка, слов нет, просто потрясающе!» А я: «Замечательно, отлично, но я, во-первых, вынужден просить вас заплатить вперед, а во-вторых — напомнить, что следует придерживаться оговоренного времени. Если она не вернется через два часа, мне придется самому за ней приехать, неприятно, но факт, так что давайте сделаем так, чтобы этого не случилось. И еще: если вас накроют, окажите нам такую любезность, придумайте какую-нибудь историю, скажите, что она — ваша любовница. Главное — дайте копам понять, что вы с ней давно уже познакомились, у вас роман уже сто лет, в таком вот разрезе».
О такой системе я слышу впервые.
Вообще-то о секс-индустрии я писала немало — знаю, что обычно девочкам звонят из офиса и называют адрес, по которому им нужно приехать. Клиент не имеет ни малейшего представления ни где находится фирма, приславшая девочек, ни что за люди за ней стоят. Если клиент вышел за оговоренное время, с офисом свяжутся по телефону, но основная идея такова, что владельцы фирмы, получающие в этом случае лишние деньги, ничего против не имеют. Возможно, принцип, о котором рассказывал Окабе, применялся исключительно в структуре, на которую он работал. А возможно, эти сутенеры всего лишь действовали попросту, по старинке.
В горле у меня комком застревает какая-то фраза, которую я не могу выговорить.
— Понимаешь, осточертело мне все это, я еще кое-чем заниматься попробовал, но парня, что на меня работал, быстро повязали. А потом господин Сакамото меня и спрашивает — может, хочешь одним из моих баров управлять? Но мне к тому времени уж так скучно от всего этого стало, что я ему просто сказал — извините, не хочу. Наверно, примерно тогда я и призадумался: может, стоит какую-то работу найти? Ну, в смысле, законным чем-то заниматься…
— Тебе тогда лет девятнадцать было?
— Ага.
— Ты говорил, сначала ты где-то на стройке работал?
— Нет, это было, когда я из школы ушел. Стоп, все не так, я на стройку после восьмого класса устроился, точно, именно поэтому в старшие классы и не пошел. Правильно, а потом я в исправительную школу попал. Ее и окончил.
— А кокаином или винтом не торговал?
— Нет уж, чего не было, того не было.
— А сам ни разу не кололся?
— Вот это было, раз-два, не больше, думаю. Но я ж тогда вообще растворитель нюхал, понимаешь? Я ж тогда совсем еще зеленый был, так что на меня это не больно сильное впечатление произвело, не сказать, чтоб хоть чуть-чуть зацепило. Просто нюхал себе растворитель и нюхал, кайф ловил.
— И нравилось тебе нюхать растворитель?
— Так сразу и не сказать, нравилось или нет, — сам не знаю. Сдается, не то чтоб так уж охренительно нравилось, а просто никак завязать не мог скорее всего. А знаешь, в старших классах на этой штуковине неплохие бабки сделать можно. Залезть ночью на фабрику по производству резины или еще чего, спереть там два-три небольших контейнера растворителя и загнать примерно за миллион иен.
— Ох и многим же ты, похоже, успел позаниматься…
— Да я просто все хотел попробовать. Понимаешь, пока не попробуешь чем-нибудь заняться, никогда не узнаешь, интересно это, неинтересно или вовсе скучно. Лично мне гораздо труднее всегда было понять ребят, которые как что начнут — так сразу же и бросают. В смысле, если ты сейчас меня спросишь, что я по этому поводу думаю, я тебе честно отвечу: да, на самом деле нюхать растворитель или клей — затея дебильная, слов нет. Но ведь я это утверждаю, потому что сам нюхал, понимаешь? Ко мне частенько официантки в барах подходят или еще кто, говорят — проблемы у них, может, я что путное присоветую. И вот подходит ко мне такая и говорит: «Слушай, братишка мой младший, похоже, на растворитель подсел. Как думаешь, можно ему помочь?» Или: «Слушай, а муж-то мой кокс нюхает и никак завязать не может. Как думаешь, можно с этим что-нибудь поделать?» Только вот беда — я и сам знаю, что чувствуешь, когда на наркоте сидишь. И ощущения при этом совершенно потрясающие, одного и хочется — продолжать и продолжать без конца, я помню. И потом, был бы я человеком, который таким бедолагам чем-то помочь может, нашлись бы, сдается мне, и люди, которые мне самому помочь тогда смогли бы — ну, хоть как-нибудь.
— И что еще в жизни ты пробовал?
— Ой, даже не знаю. Не очень многое. Я, знаешь, от большинства людей не сильно отличаюсь.
— Будь уверен, еще как отличаешься!
— Да я просто делал, что хотел, вот и все. Пробовал то же, что любому попробовать охота.
— Меня терзают смутные сомнения, что далеко не каждый человек захочет податься в якудза.
— Да? А чего тогда народ на гангстерские фильмы ломится? Если б людям такие вещи были совсем не интересны, то такие фильмы бы просто не снимали, а если бы и снимали, никто бы смотреть их не ходил. Вот, скажем, снимет кто-нибудь кино под названием «Как научиться решать математические уравнения» — так, уверяю тебя, ни один хрен с горы и не почешется его посмотреть! Даже и не подумает на него сходить, сама понимаешь. Люди ходят смотреть фильмы, которые им интересны, так? Ну а я занимался вещами, которые мне были интересны. Не такая уж большая разница.
Все еще идет слабый снежок.
Ветра почти нет, а снежинки так легки, что не падают по прямой, а кружатся, парят неторопливо в воздухе. Как только мы выехали на объездную дорогу, ведущую к северу от города Ниигата, стали попадаться указатели различных перекрестков, примерно на равном расстоянии друг от друга. В подобных ситуациях я инстинктивно начинаю вести подсчет. Не то чтобы от него была какая-нибудь польза, просто привычка дурацкая. К тому времени как зимнее солнце медленно поднимается из-за горизонта, я насчитываю уже третий поворот — на Сакураги. Свет вырывается из-за тонкой облачной завесы в вышине, широко разливается вокруг, небо сияет, словно огромный серебряный купол, — даже ярче, чем в совсем безоблачную погоду. На седьмом перекрестке, ведущем в место под названием Хитоичи, мы съезжаем с объездной дороги. Небо там — кристально ясное, но снежинки по-прежнему продолжают свой танец. Надо же, столь незначительная перемена времени и места, а погода уже совершенно другая.
Местность эта словно разлинована в клетку, точь-в-точь доска для игры в го. То здесь, то там на клетках стоят группками прямоугольные корпуса приземистых фабричных зданий, увенчанные совершенно одинаковыми трубами. Кварталы фабрик разделяют дороги. Вперед видно далеко, и куда ни глянь — ни души. Немногие машины, попадающиеся навстречу, — гигантские перевозчики легковушек. Небо чистое, слепяще-голубое, но сугробы на обочине дороги, судя по всему, и не думают таять, похоже, они так и простоят до самой весны — грязные от выхлопов дыма и частичек асфальта, вырванных из дорожного покрытия зимними шинами.
Окабе остановил грузовик у мебельной фабрики, мы задернули занавески. В кабине воцарился серый полумрак, цветом напоминающий безветренное, снежное, слегка облачное небо предрассветной поры. Если не идет дождь, невозможно понять, какая снаружи погода. Я взглянула на часы: половина одиннадцатого. Окабе тоже бросил взгляд на свои часы, расположенные на приборной панели. В «спальне» он крепко обнял меня — и неожиданно резко просунул руку сбоку мне под трусики. Тонкая ткань скрутилась жгутом. Пальцы Окабе быстро погладили мягонькое местечко, которое он обнажил своим движением, и скользнули внутрь меня. Не важно, когда и как это происходило — тело мое всегда было готово к нему, стоило ему только меня коснуться. Однако на сей раз разум, душа — все во мне ответило резким отрицанием. Все случилось настолько быстро, что мне даже времени не хватило осознать разницу между тем, как он действовал сейчас, и нежностью, с которой ласкал меня прошлой ночью. Мои плечи и руки напряглись, нарушая наш единый ритм, — и Окабе тотчас же уснул. Внезапно тело его в моих объятиях показалось невыносимо тяжелым. Мне самой оказалось не так-то легко заснуть.
Сознание то мутнело, то прояснялось вновь. Этот цикл — дремота и бодрствование — повторялся несколько раз, а потом в окно постучали. Окабе, еще заспанный, протер глаза, поднялся и развернул грузовик. Должно быть, стучал в окно кто-то с фабрики, давая ему понять — пора приступать к работе.
Погрузочный док мебельной фабрики в точности соответствовал высотой дну грузовика. Открываются раздвижные двери трейлера, откатываются от центра вправо и влево, потом грузовик дает задний ход и движется к погрузочному доку, пока не приладится к нему идеально вплотную. После этого можно перетаскивать груз с легкостью без проблем. Окабе надел сапоги и принялся за работу. Я спросила — ничего, если я пойду с ним? Он кивнул, и я выбралась из кабины. Было все еще достаточно холодно. Стоя под фабричным карнизом, я грела дыханием замерзшие руки и наблюдала за Окабе. Смотрела, как протягивает он руки, чтобы ухватить деревянную раму. Должно быть, дверную раму, не знаю точно. Если вспомнить, кажется, когда мы только познакомились, он вроде бы сказал, что перевозил дверные рамы. Он взваливал рамы на плечи — по две сразу, между ними только голова торчит — и нес в кузов трейлера, поддерживая их вес обеими руками. Снова и снова — одна и та же неизменная последовательность движений.
Меня неожиданно поражает острое осознание простого факта, что люди и мебель — далеко не одно и то же. Оказывается, между нами и мебелью вообще нет точек соприкосновения. Я все думаю и думаю об этом, мысли в сознании формируются во фразы, в четко выстроенные предложения. Человеческое тело такое мягкое, а дерево такое твердое! Внезапно приходит в голову: при помощи одной из этих деревянных рам я, должно быть, запросто могла бы забить кого-нибудь насмерть, моей небольшой силы вполне на это хватило бы. В сознании мелькает картина подобной бойни, а сразу же вслед за ней — образы разрушенных, чудовищно разгромленных комнат, где сохранились лишь двери, что перетаскивают сейчас на себе мужчины. Эти сцены возникают в воображении без всякого участия моего разума; неподвластные моей воле, они вспыхивают у меня в мозгу стремительно и ярко, как огни сигнальных ракет. Заставить тело пошевелиться почти невозможно. Видения появляются и исчезают — такими короткими, ослепительными всполохами, что разобрать детали невозможно. А Окабе и люди с фабрики тем временем сгружают рамы, тщательно упакованные в защитные картонные коробки, на дно грузовика.
Наконец удается повернуть голову и поглядеть в другую сторону. Если не считать нескольких участков, на которых землю терзали колеса множества грузовиков, двор покрыт тонким слоем снега — белого, очень яркого. Хорошенькие снежинки все падают, танцуя, откуда-то из ярко-синих небесных высот. Я снова поворачиваю голову, смотрю — что там Окабе? Наблюдаю, как движется его тело. На этот раз, неведомо откуда, из глубины сознания всплывает звук. Есть то, что я вижу, и есть отдельно наложенные на него звуки. Совсем как в кино, когда звучит монолог, текст от автора или голос рассказчика — а сцены визуального ряда, на первый взгляд, не имеют очевидной связи с повествованием. Окабе — совсем рядом, но при этом совершенно отделен от меня — как персонаж фильма, проецирующегося на экран. Синева и белизна, состязающиеся в яркости на заднем плане, обращаются в декорации, выглядят плоскими и искусственными. Я начинаю различать слова — голос, с которым я познакомилась так недавно, в точности с тою же интонацией, что и раньше, произносит в такт движениям работающего Окабе:
— Я сейчас доставлю ее в кафе «Луна в ущербе», а вы подождите нас там. Как вы нас узнаете? А, у девочки волосы — золотистее чистого золота, так что узнаете нас вы сразу, без проблем. — Едем туда, встречаемся с клиентом. Он: «Ух ты! Какая красотка, слов нет, просто потрясающе!» А я: «Замечательно, отлично, но я, во-первых, вынужден просить вас заплатить вперед, а во-вторых — напомнить, что следует придерживаться оговоренного времени. Если она не вернется через два часа, мне придется самому за ней приехать, неприятно, но факт, так что давайте сделаем так, чтобы этого не случилось».
Окабе двигается. Небо ясное, хотя снег по-прежнему идет.
Если чуть приподняться на сиденье, можно увидеть реку Тоне.
Теперь мы возвращаемся в Токио. Прямо на границе между префектурами Ганма и Сайтама, в городке с названием Фукайя, Окабе опускает свое сиденье, чтоб слегка вздремнуть. Точеные линии его торса угловато выделяются на сиденье, ноги он вытянул в «спальню». Неоновые огни большого и, судя по всему, не слишком популярного зала видеоигр, близ которого припаркован грузовик, играют с тенью на его щеке, окрашивая ее в разные цвета. Выделенный светом, то появляется, то снова исчезает словно изваянный из металла гребень горы. На стоянке — всего три машины. Я не умею засыпать так легко, как он. Сейчас я вновь наедине с собой. Лежу и слушаю через наушники историю, которую записала на диктофон. Теперь я уже преотлично знаю — Окабе не так-то легко разбудить.
— Я сейчас доставлю ее в кафе «Луна в ущербе», а вы подождите нас там. Как вы нас узнаете? А, у девочки волосы — золотистее чистого золота, так что узнаете нас вы сразу, без проблем. — Едем туда, встречаемся с клиентом. Он: «Ух ты! Какая красотка, слов нет, просто потрясающе!» А я: «Замечательно, отлично, но я, во-первых, вынужден просить вас заплатить вперед, а во-вторых — напомнить, что следует придерживаться оговоренного времени. Если она не вернется через два часа, мне придется самому за ней приехать, неприятно, но факт, так что давайте сделаем так, чтобы этого не случилось».
Перемотка. Повтор.
Любопытно, как быстро говорит Окабе — моя речь в сравнении выглядит просто медлительной. Но отчего происходит эта разница? Почему он говорит так быстро, а я — так медленно? В один и тот же промежуток времени он успевает сказать примерно втрое больше, чем я. Не могу отделаться от ощущения — если бы мы не говорили, а писали, он по итогам и написать бы успел втрое больше моего, причем за то же самое, секунда в секунду, время. Окабе — мне не чета, он не тратит драгоценное время на всякие там «э-э» и «гм-м», на размышление и поиск нужных выражений, он говорит, и все. Недавно, когда я нащупала в сумке диктофон и спросила его: слушай, ничего, если я буду записывать твои истории? — он и бровью не повел, не поинтересовался даже, зачем мне это надо; осознание факта, что каждое его слово записывается, не заставило его даже поменять интонацию.
Я думаю, секрет людей типа Окабе — тех, кто говорит много и охотно, — заключается в том, что их не угнетает тягостное ощущение сохранности каждого своего слова. Слова для них существуют, только пока произносятся. Речь льется потоком, а потом останавливается — и все, ничего больше, сказанное молниеносно умирает. Я, в свою очередь, изначально исхожу из предположения, что мои слова будут сохранены, а потому тщательно выбираю выражения. Тщательный выбор выражений ведет к меньшей скорости речи, а медленная речь — к меньшему количеству сказанного… да, пожалуй, так оно и есть. И все равно, невзирая на это, когда я вспоминаю или воспроизвожу в сознании свои разговоры с людьми, когда читаю их в журналах или слушаю в записи, самой трудно понять, что говорила.
«Если она не вернется через два часа, мне придется самому за ней приехать, неприятно, но факт, так что давайте сделаем так, чтобы этого не случилось».
Мне чертовски нравится эта часть его рассказа: я без устали ставлю ее на перемотку и прослушиваю вновь и вновь. Интересно — а если б за мной приглядывал такой мужик, как он, рискнула бы я податься в проститутки или нет? Представим: мне не хочется идти, но он берет меня за руку и ведет в «Луну в ущербе», и я ухожу с клиентом. Я сразу же заставляю мужчину надеть презерватив — в точности согласно инструкциям Окабе, а потом лежу в постели — два часа, но ни минутой больше, и сверху на меня давит тело клиента. У него — жирная кожа, по ней струится пот, и вся я — сплошная слизистая оболочка. Сердце потушено, уничтожено.
Я снова перемотала пленку, фразы, которые хотелось услышать снова, зазвучали черт знает в какой раз, и тогда я почувствовала: глубоко внутри меня наконец развязался узел, в который я связала почти исчезнувшие старые воспоминания. Меня ударили. Когда я училась в восьмом классе, меня ударил учитель. Это случилось в Токио, он преподавал японский язык и при всем при том говорил с сильным, режущим ухо северовосточным акцентом. Звук «з» постоянно возникал там, где находиться ему было совершенно не положено, и большинство времени в классе он разъяснял нам различные значения суффиксов и заставлял повторять их хором — один за другим. «Са-роу» — неправильное употребление, «ра-роу» — неправильное употребление, и так далее по списку. Маленький человечек с большой лысиной. Глаза — узенькие, как щелочки, а края век — такие припухшие и тонкие, что видны были розовые сосуды с внутренней стороны, словно бы веки вывернуты наизнанку.
Если долго повторять суффиксы вслух, они будто превращаются в некое странное заклинание, в итоге невозможно вспомнить, что они вообще должны означать. Трудно было сказать, что на его уроках мы занимались всерьез, удовлетворения от работы тоже не испытывали, — и, однако, в воздухе постоянно висело ощущение странной напряженности. Единственное, чему мы и впрямь научились, — это лениво блуждать взором в пространстве, сохраняя серьезный вид и избегая тем опасности быть вызванными.
Произошел несчастный случай. На мгновение клюнув носом, я потеряла равновесие, и таким образом привлекла внимание учителя к своей персоне. Да, полагаю, так все и вышло. Лысый коротышка преотлично знал, что является мишенью для шуточек всей школы, и утрата внимания хотя бы одного-единственного ученика заставляла его ощущать себя брошенным и униженным всем белым светом. Это был какой-то психоз.
— Хаякава! — рявкнул он. — Встать!
Я встала, и совершенно неожиданно, ни с того ни с сего он просто взял и хлестнул меня ладонью по щеке. Сдачи учителю я не дала. Даже не вскрикнула.
Воздух у меня в легких превратился в лед. Воцарилась полная тишина. Казалось, в этом застывшем пространстве я не смогу даже сказать что-то вслух. Я чувствовала — реальность ускользает прочь. И ничего больше. Полагаю, я решила тогда вести себя как можно пассивнее. Полагаю, я сказала себе: что сейчас ни сделай — все равно будешь выглядеть неправой, лучше не предпринимать вообще ничего. Я превратилась в лишенное воли дышащее нечто, в дыхательный орган, вбирающий в себя кислород и выбрасывающий наружу углекислый газ. Я просто вдыхала и выдыхала, вдыхала и выдыхала… и, знаете, иногда мне кажется, что тогда-то все и началось. Может, именно с этой минуты я и начала слышать голоса.
С той поры, когда я снова принималась повторять бесконечные «са-роу» и «ра-роу», в голове тотчас же начинал звучать голосок, идущий по списку суффиксов чуть впереди меня. Голосок напоминал мне их значения, напоминал, чтоб мне не приходилось вспоминать их самой, и поскольку сама мысль о суффиксах вызывала у меня позывы на рвоту, я просто позволяла голоску произносить их значения вместо меня. Эти звуки произношу не я, меня тебе не сломать, я не собираюсь запоминать эти идиотские суффиксы только потому, что ты хочешь, чтоб я их запомнила… А потом начался и вовсе кошмар. В девятом классе тот же самый учитель японского стал преподавать нам еще и национальную экономику!
Я пожаловалась родителям, что учитель ни за что ни про что влепил мне пощечину. Я требовала, чтобы дело довели до преподавательского совета, до Министерства образования, чтобы его заставили извиниться, чтобы он понес наказание по закону… но моя мамаша преспокойно заявила, что я наверняка сама его спровоцировала, и она даже слушать мое вранье не желает. Она и не слушала. Она изначально обвинила в случившемся меня — вот и все. Ведь странное напряжение, царившее в классе, не увидишь глазами — просто липнущий к коже страх, просто воздух, сгустившийся от неловкости происходящего, и выразить суть этого напряжения словами оказалось задачей непосильной для четырнадцатилетней девчонки. Но все равно я упрямо не желала сдаться и заткнуться, я требовала и настаивала, и наконец моя мамуля не выдержала и выдала почти на крик:
— Ну почему от тебя всегда одни неприятности?!
С той поры она буквально повадилась задавать мне один и тот же вопрос — всякий раз, как ей виделась хотя бы малейшая тень странности в моем поведении, немедленно взвизгивала:
— Надеюсь, ты не довела опять какого-нибудь несчастного учителя до того, чтоб он вынужден был тебя ударить?
Школа была сплошной тоской, дома расслабиться тоже не удавалось. Сама того не замечая, я собрала у себя в комоде неплохую коллекцию ножей. Ножи, кстати, были замечательные, особенно те, чьи лезвия легонько изгибались внутрь, а к рукояти расширялись. Я налюбоваться не могла на их форму. Я приставляла их острием к груди и долго держала так, а иногда и вовсе выходила из дома, засунув нож за лифчик. Нож никогда не сделает больно мне, но рассечет плоть любого, кто посмеет меня обидеть, любого, кто попытается загнать меня в угол. Серебристые, поблескивающие лезвия были, на мой взгляд, идеальным оружием борьбы с ощущением мягкой, но чудовищно прочной сети, в которую я угодила. Казалось, я медленно прилипаю к окружающему миру и очень скоро могу слиться с ним неразрывно, и я мечтала взять в руки один из сияющих металлическим блеском ножей и вырезать его лезвием линию, отграничивающую мое личное пространство.
Лишь много позже удалось мне облечь свои гнев и обиду в слова. Но когда я высказала наконец матушке, как жестоко она оскорбила меня тогда, ее ответ — точнее, ее самооправдание — оказался такой запредельной смесью эгоизма и прекраснодушия, что я просто ушам своим поверить не могла.
— Детка, ты должна понять: когда ты — мать школьника-старшеклассника, то по чисто практическим соображениям вынуждена вести себя так, будто в школе твоего ребенка как бы держат в заложниках. Так уж мир устроен!
Она произнесла это совершенно обыденно — ведь матушка моя никогда не была ни злобной, ни жестокой, но именно факт обыденности сказанного сделал ее слова особенно страшными. Значит, родители хотят защитить не живые тела своих детей, а что-то иное? Но если они и вправду верят в этот бред, тогда они совершенно безумны, безумны как само сумасшествие. Безумны они, и их друзья и подруги, безумны все, кто горделиво строит из себя ходячие эталоны здравого смысла, упакованные в приличную одежду. Моя мать. Матери и отцы моих одноклассников. Все они. Все и каждый. Все до единого. Неизлечимые безумцы. Они скрывают безумие под маской собственной обыкновенности, но в реальности они — сумасшедшие. Мне захотелось сорвать маску, выставить спрятанное под нею на свет дня. Да, их — большинство, ну и что с того? Черт побери, разве их число доказывает их правоту? Несомненно, нет и еще раз нет. Если большинство всегда право, значит, справедливы и войны, так ведь?
— Может, хватит уже столько лет цепляться за старые обиды? — пожала плечами мамочка, и на том разговор был закончен. Но ведь тогда, когда я впервые заговорила с тобой об этом, ты и слушать не стала! Когда же мне прикажешь об этом говорить, если не теперь? Когда?! Стоило бы, наверно, язвительно сообщить ей — взрослые на удивление легко забывают, как часто они попирали права своих детей… однако, увы, я и сама уже давно была взрослой.
«Если она не вернется через два часа, мне придется самому за ней приехать, неприятно, но факт, так что давайте сделаем так, чтобы этого не случилось».
Воображаю себя шлюхой под присмотром Окабе. Клиент собирается привязать меня к кровати веревками (нет, лучше приковать наручниками), и я умоляю: «Прошу вас, послушайте! Вам нельзя заниматься со мной ничем опасным! Если на моем теле останутся царапины или хоть какие-нибудь следы, мои покровители сделают с вами совершенно чудовищные вещи!» Мужчина, однако, и ухом не ведет, похоже, он вовсе не намерен останавливаться. Ну ладно, это ж всего-то на два часа, проносится у меня в голове, и я собираю в единое целое разрозненные частички своего сознания, блуждающие бог знает где, фокусирую каждый нерв своего тела на необходимости сделать этого мужчину счастливым — хотя бы на краткий миг, который нам суждено провести вместе. Я демонстрирую ему все, на что способна. Стараюсь как только могу — минет там и все такое, и в итоге мы немного выходим за рамки положенных двух часов. Появляется Окабе. Плачущим голосом я жалуюсь ему: «Этот человек собирался совершить со мной нечто ужасное!» Окабе принимается рыться в вещах клиента. Кричит на него, оскорбляет за нарушение правил. «Это не шантаж, приятель. Мы в своем законном праве, — говорит он. — Это как раз ты следовать правилам не пожелал, ты хотел сделать больно бедной девушке!» Окабе — крупный, мускулистый мужик, не много найдется людей, готовых сойтись с ним один на один в рукопашной, так что теперь мне бояться ровным счетом нечего. Он гладит меня по волосам. Мы возвращаемся в офис и перекусываем. Пьем чай с пирожными. «Нелегкая получилась работенка, да, милая?» — он снова с улыбкой гладит меня по голове.
Когда-то я думала, что не сумею прожить самостоятельно, если уйду из дома, но, если вдуматься как следует, это оказалось полной чушью. Я была отчаянно молода. Юность — штука, которая дается даром, а продать ее можно за хорошие деньги. Пари держу, реши я торговать своим телом — совсем недурно зарабатывала бы себе на жизнь. В точности как нынешние подростки — ни тебе сутенеров, ни черта подобного. Но даже сейчас, будь я подростком, точно не набралась бы мужества на подобное. Не смогла бы выбросить из головы кучу страшных возможностей — а вдруг меня изнасилуют, вдруг изувечат, вдруг убьют? Нет, если б за мою защиту не взялся кто-нибудь типа Окабе, никогда бы у меня не вышло сделаться проституткой. А вот знай я тогда о системе агентств с девочками по вызову — сроду не стала бы оставаться в своем насквозь прогнившем доме. Хотя, с другой стороны… возможно, однажды — рано или поздно — и наступил бы момент, когда я пожалела бы, что бросила школу. Может, мне бы достался плохой сутенер, из тех, что обижают девочек и отнимают у них большую часть заработанных денег. Да, такое очень даже могло бы случиться! Но — опять же. Даже когда я училась в школе — совершенно не ощущала себя живой, а родители — те просто медленно высасывали из меня жизненные силы. Никак не смогла бы я вырваться из этого жуткого места. Полагаю, то, что я чувствовала тогда — уверенность в невозможности освобождения, — очень похоже на то, что испытывает насекомое, когда его убивает человек, или на то, что испытывает травоядное животное, когда в его сонную артерию впивается — о, как точно, как стремительно! — клыками хищник. Я читала: жизнь насекомых — всего лишь эффект взаимодействия между электричеством и какими-то химикалиями; в этой книге говорилось: когда насекомое убивают, некая химическая реакция заставляет его полностью утратить чувствительность, что, в сущности, даже приятно. И еще я читала: когда хищное животное перегрызает горло травоядному, в теле жертвы высвобождается мощный поток эндорфинов, так что, умирая, она не испытывает никакой боли. Должно быть, существуют некие извращенные нервы, испытывающие в миг смерти, в миг перехода к небытию смутное удовольствие, доставшееся человеку в наследство от его предков — животных. Должно быть, стоит этим нервам начать действовать — и все, вырваться или убежать уже невозможно.
Возникшее в сознании слово «эндорфины» незамедлительно срабатывает как ссылка на новый сайт. Я — ни с того ни с сего — неожиданно для себя принимаюсь размышлять: интересно, а может, искусственно вызывать у себя рвоту — это способ приближения к смерти? Или нет? В сущности, ощущение, которое возникает, когда я это делаю, очень даже сродни той странной бесчувственности, что одолела меня после пощечины учителя. Я стояла тогда и думала: унижение — вовсе не унижение, боль — совсем не боль… и постепенно щека, по которой хлестнул учитель, стала легонько чесаться, так что я уже не могла сказать с уверенностью, больно мне — или, наоборот, приятно. Презрение к той части собственного «Я», что получило удовольствие от пощечины, было так велико, что к горлу подступала рвота. Я поверить не могла: неужели эта часть — тоже я? Настоящая, подлинная я? Я почувствовала, как отрываюсь от себя самой. Видимо, чтобы полностью осознать реальность происходящего, мне необходимо было пережить нечто экстремальное — сродни той пощечине учителя. Может быть, именно потому я и начала коллекционировать ножи? Простейшим способом забыть о своей ненависти было попросту уснуть, и я стала проводить все больше и больше времени в постели наедине с собой. Я лежала, и дыхание мое потихоньку замедлялось до последнего предела. Я чувствовала — грудь моя вздымается и опадает в такт биению сердца. Лет примерно с четырнадцати-пятнадцати я — вполне живая — все чаще лежала, словно умирающая, спала с широко открытыми глазами.
С тех самых пор и стало мне трудно воспринимать свои воспоминания как собственные. Чем серьезней или трагичней обстоятельства, тем холодней и объективней моя позиция при воспроизведении их в памяти. Где я ни нахожусь, совершенно невозможно полностью ощутить, что я пребываю именно в этом месте. Но я всегда была недурна в умении подражать окружающим и к тому же старалась делать именно то, что от меня ожидали. Провалов не случалось.
Я не говорю о себе. Я слушаю других людей.
Чуть приоткрыв занавеску, выглядываю наружу. Ладонью протираю запотевшее окошко. Над рекой медленно восходит большая красно-рыжая луна.
В Тода мы спускаемся с холма и сворачиваем к югу, на скоростное шоссе Сюто.
Еще минут двадцать — и мы будем уже на кольцевой дороге. Свет в небе над головой стремительно становится все ярче… и внезапно, без перехода, перед нами — уже Токио. Бесчисленные инфузории-горожане вздрагивают, стонут и шепчутся во сне в своих залитых светом реклам стеклянных клетках.
Грузовик движется все дальше, пробивает себе путь сквозь самую сердцевину сияющего света, но, сколько бы мы ни ехали, бледнее он не становится.
— Токио — потрясный город, — замечает Окабе. — Пари готов держать, никому из всех этих людей и в голову не приходит, что на свете есть такие, как я, точно! Что в это время ночи кто-то едет по улицам, усталый, замученный от недосыпа, — нет, им такого и не вообразить.
— Ты хочешь сказать, что для тебя это — постоянная ситуация?
— Ты о чем это? Какая такая постоянная ситуация?
— Вот так подремать пару часов — это единственный твой сон во время ездок?
— Ясное дело.
— И не только когда ты очень торопишься?
— И не только когда очень тороплюсь.
Полночь, и мы катим по скоростному шоссе Сюто.
Семьдесят миль в час. Все виденные мной ранее пейзажи превратились теперь, когда мы увеличили скорость, в сплошной поток света. Перед моими глазами мелькают бессвязные сцены, сплавленные воедино скоростью, превращенные в сотни и тысячи вариантов прошлого и настоящего. Ни одна из этих сцен не происходит сейчас, и ни одна из них не связана с происходящим в настоящий момент. Пейзаж, окружающий меня теперь, исчезнет через минуту. И, подобный гигантскому полю, по которому в беспорядке разбросаны эти сцены, меня окружает сияющий Токио. В первый раз испытываю я тоску по большому городу, в первый раз осознаю, как скорость и время меняют мир вокруг меня… Столь острое, почти болезненное осознание только что не повергает меня в слезы.
— А тяжко приходилось бы дальнобойщику, страдай он бессонницей, правда?
— По мне — так сплошной восторг. Не надо было бы спать, точно? Больше бы зарабатывал.
— Бессонница — это совершенно другое. Не можешь уснуть, даже если тело твое утомлено настолько, что нет сил терпеть, — вот это и есть бессонница.
— Знаешь, я ведь всегда ездил куда хотел, делал что хотел… и, похоже, бессонница — единственная штука на свете, которую мне никогда не хотелось попробовать.
— А если рация мне на нервы действовать начинает, я всегда ее отключить могу.
— Зачем? Разве…
Стодвадцатиминутная кассета переворачивается на другую сторону.
— …Точно?
Побережье Токийского залива, час ночи, Тойосу, район Коте. Мы — на складе, неподалеку от строительной площадки, ждем утра. Город тот же, но ничего общего с микрорайоном, где мы познакомились, не наблюдается.
— Ты постарайся понять, мне и самому это здорово нравится, сама знаешь. В смысле — я ж давно этим занимался и буду заниматься, штрафы там или еще что, я вроде в восторг должен прийти, так? Вся штука в том, что они все просят меня председателем клуба стать, понимаешь, ну, раз я так давно в игре. Ясное дело, я кучу ребят знаю.
— Так почему ты отказываешься?
— Париться неохота. Все люди в правлении — сплошь из якудза, понимаешь? Много проблем будет. Им нравится народ вместе собирать, разные там поездки на горячие источники организовывать, пикники, типа того. Отстой, полный отстой. «Эй, приятель, а как там на севере дела идут?» — «Да никак они не идут, все как всегда, а какого хрена вы ждали? Мы ж там в отличие от вас, ультраправых, политикой не занимаемся!» И потом, ну, беру я напрокат фургон, принадлежащий компании, или еще что, приезжаю, а там — все эти ублюдки на крутых «мерседесах». В своих шикарных костюмах, ага. Вот мне интересно, что за фигня у них только в мозгах творится? «А какую машину ты обычно водишь?» — «Фуру дальнобойную». — «Так ты просто-напросто дальнобойщик?» — «Ага». В смысле, да Бога ради! Понимаешь, я на дух не выношу этих мудаков, которые больших шишек из себя строят. Больно уж нос дерут. А потом лето настанет, и придется ехать на море всем клубом, скопом, и у тебя под началом — все эти ублюдки с семьями, с женами-детишками, а ты, хочешь не хочешь, стой перед ними с микрофоном и речь толкай, понимаешь? Вот так оно и бывает, когда председателем клуба становишься.
Грузовик припаркован в огромном, совершенно пустом пространстве, вокруг — ничего, кроме рядов складов, и сколько я ни всматривалась, даже следа живой души не заметила. Мы свернули в какие-то из ворот, которых вдоль шоссе было множество, потом проехали сквозь гигантское, похожее на стадион здание — прожектора, окружавшие его, посылали в небо столбы света. Когда снова выбрались на вольный воздух, впереди не оказалось ничего высокого, загораживающего обзор, над головами — только синий купол небосвода. Припаркованные в ряд один за другим, здесь находились еще четыре трейлера, точь-в-точь наш, и два грузовика с пустыми кузовами. Возможно, внутри спали водители — снаружи увидеть было невозможно. Метрах в двадцати прямо перед нами залитая асфальтом земля резко заканчивалась, твердь обрывалась под прямым углом, а за ней буквально сразу же начинался уже океан — на это указывал желтый знак, висевший на столбе у дороги. Однако если бы не редкие отражения мерцавших вдали огней, отличить тяжелую, черную водную массу от земли было бы невозможно. Ясная, белоснежная полная луна недвижно висела в бескрайнем чернильном небе, но света ее едва хватало, чтоб рассеять мрак между разбросанными тут и там огоньками. Рация и радио были отключены. Стояла полная тишина. Бормотание, доносившееся с пленки моего диктофона, едва пробивалось сквозь негромкое урчание заглушённого мотора.
— А какое отношение к этому имеет якудза?
— Да понимаешь, число каналов-то строго ограничено. Ну и получается, по сути, что сводится все к обыкновенной борьбе за территорию, и, конечно, наши рации лучше выдерживают конкуренцию, чем остальные, — весь вопрос ведь в том, у кого передатчик мощнее! А если происходит что-то незаконное, да плюс еще и борьба разных фракций, да в любом месте, где побеждает сильнейший, немедленно якудза объявляется. Тут как тут, на то она и якудза. Они ж как пиявки кровь чуют.
— Вот почему вы решили в итоге объединиться в клубы. Понятно. А люди, не принадлежащие ни к какому клубу, никогда в таких историях замешанными не оказываются?
Я замечаю, что бессознательно посматриваю на дверь — проверить, хорошо ли она закрыта. Любопытно, но при этом другая часть моего «Я» панически боится запертой крошечной кабины.
— Ни у кого из них раций в помине нет. Ты не сможешь добыть рацию, если не принадлежишь к какому-нибудь из наших клубов.
— Знаешь, если честно, я не совсем понимаю, в чем дело с этими самыми каналами.
Не знаю — возможно, я просто к этому не привыкла, а может, почему-то еще, но всякий раз, когда мы подолгу ехали, у меня возникали серьезные трудности в попытках убедить себя, что в каждом новом месте, где мы останавливаемся, я остаюсь собою прежней, такой же, какой была раньше. Декорации сменяются каждый час, и всякий раз, как мы делаем где-то остановку, возникает чувство, будто я отрезана от прошлого, замкнута в кратких «здесь» и «сейчас». Единственное, на реальность чего я могу рассчитывать, — это грузовик. Сидя в нем, поневоле понимаешь, почему многие дальнобойщики так любят украшать свои машины. Теперь мне вполне доступна прелесть тех безвкусно окрашенных и со странным, милым изяществом разубранных изнутри трейлеров, что так часто видишь на дорогах. Если ты постоянно в пути, пейзаж за стеклом меняется с такой быстротой, что просто голова кругом идет. Возникает ощущение, будто кто-то слой за слоем сдирает окружающий мир с твоего тела, — все равно что расчесывать струпья, из которых до сих пор сочится сукровица. Ты чешешь их и чешешь и сама не веришь, что когда-нибудь ранки зарастут новой кожей, ведь сейчас их ничто не защищает от соприкосновения с воздухом. Странная смесь чувствительности и онемения охватывает твое тело.
— Ну и вот, рано или поздно всегда так получается, что клубом начинает заправлять якудза. На пятнадцатом — это канал, на котором я сижу, — мы, мужики, все меж собою друзья, но вот на шестом канале — блин, они ж там постоянно собачатся! Большинство парней с шестого — самые настоящие якудза. Знаешь, все эти парни, которые во время ездок сидят на спидах или на коксе… и ники у них всегда ублюдочные типа Спиди Гонзалес, в таком вот духе.
— Слушай, а это здорово смешно! Ну а как насчет полицейских раций, с ними что? Полицейскую волну вы тоже можете прослушивать?
Я продолжала говорить. Почему-то отчаянно пугала сама мысль о том, что этот разговор может вдруг оборваться. Я боялась ощущения, подступавшего всякий раз, когда мы переставали разговаривать, — чувства, что исчезла граница, отделяющая меня от ночи. В детстве мне было нелегко понять разницу между сном и смертью, и ночь страшит меня с тех самых пор.
— Нет, полицейскую рацию никак не достать. Хотя, раз уж речь об этом зашла, я в юности — ну, еще когда в банде состоял — таки одну из полицейской машины увел, через окошко вытащил. Загнал ее потом вместе с мигалкой полицейской какому-то парню из ультраправой организации.
— Ультраправые, да?
— Как полагаешь, а не пора ли нам с тобой в койку?
Огни по ту сторону Токийского залива было видно издалека. Окабе протиснулся назад, в «спальню», и я последовала за ним. Кто-то когда-то рассказывал мне, что в теплые зимы при достаточно высокой температуре обычно выпадает больше снега, но я давным-давно забыла, почему это происходит. Если вспомнить, какая в этом году была теплая зима, весна, несомненно, что-то долго заставляет себя ждать. Огни по ту сторону бухты казались капельками, которые сконденсировались от холода из зимнего воздуха. Окабе задернул среднюю занавеску, и огоньки пропали из виду.
— Эта штука еще работает? Можно мне ее выключить?
Кнопка «Запись» на диктофоне поднимается с легким щелчком. Такое чувство, словно это порвалась внезапно длинная нить, связывавшая мое прошлое, настоящее и будущее. Ночная тьма всей тяжестью навалилась на грудь Периметр моего бытия ужался до предела. Один за другим исчезли все элементы, составлявшие мой мир. Все мое существо сжалось до размера булавочной головки, не больше.
Окабе неторопливо подходил ко мне. Сейчас он казался мне странным незнакомцем. С каждой секундой образ его, сотканный из воспоминаний, ускользал от меня все дальше — неужели это происходило и с ним самим? Я была не в силах шелохнуться. Потрясла мысль: а ведь если сейчас он меня ударит, я зарыдаю и стану просить прощения, стану молить его о пощаде — и все прочее в том же духе, я просто не смогу сопротивляться! Что ты за бред несешь, идиотка, кричала я себе мысленно, но бред этот никуда не пропадал. И снова я поймала себя на том, что проверяю, хорошо ли заперта дверь.
Не произнося ни слова, Окабе взял мое лицо в ладони. Секунду, пока его руки не обвили меня, кончики пальцев не пробежались осторожно по округлости затылка, эти руки просто, совершенно естественно лежали на моих плечах. Он был близок, невероятно близок. За мгновение воздух вокруг него стал теплым и ласковым. Он стянул с меня одежду ниже пояса.
— Сама сделай.
Я послушалась, принялась ласкать себя. Вскоре тело стало выделять влагу, и потихоньку, не сразу страх и печаль стали исчезать, словно солнечный свет согревал темную прогалину. Теплый сок продолжал струиться, его было много больше, чем я могла вообразить, его было столько, что даже мой анус стал мокрым. Пальцы его касались моего заднего прохода. На какой-то миг мускулы сжались, твердея.
— У тебя дырочка сжимается.
Даже услышать, как он это говорит, уже достаточно неловко, но время, чтобы заговорить, он выбрал настолько неудачное, что из тела моего разом исчезла вся энергия. Я не выношу, когда прикасаются к моему анусу, не позволяла делать это даже своим давним любовникам — нет, такое точно не для меня. Но теперь отверстие было покрыто слоем влаги, и казалось, что влага эта защищает его от боли. У меня не возникало чувства, что он прикасается прямо к моему телу, совершенно нет, а мысль о том, что происходящее — грязно, даже не мелькнула в голове. Пальцы его легонько скользили по защитному покрытию жидкости, скрывавшему мой анус. Потом он наполовину — только наполовину — ввел два пальца в мою вагину и стал двигать ими взад и вперед — внутрь и наружу, медленно, очень медленно. Вход в мое тело сжимал его пальцы, присасывался к ним, как тропическая рыбка — к еде. Время от времени теми пальцами, что не были во мне, он поглаживал мой задний проход. С каждым таким поглаживанием блаженное напряжение внутри усиливалось. Вагина и анус двигались совершенно вне моего контроля и неимоверно меня смущали этим движением. Я уже не понимала, что и как со мной делают. Влага просто струилась. Пальцами я продолжала поглаживать свой клитор. Меня настиг оргазм, тело сотрясла судорога…
В темноте таится невидимый центр притяжения. Он выкачивает из меня силы. Высосанная дочиста, я ощущаю в себе головку члена Окабе.
Я всегда считала: заниматься сексом с любовником — все равно что разговаривать с ним. Секс — разговор с помощью двух тел. Но сейчас я ощущаю происходящее более остро и непосредственно — так, словно я поглощаю мужчину. Выделяющаяся из меня влага всасывает его, вбирает в себя — не только пенис, все его существо. Я поедаю его. Слизистая оболочка моей вагины теперь покрывает все мое тело снаружи и изнутри, невероятно чувствительная, нежная — и в то же время опасно жадная. Слабость, скрытая в глубинах моего «Я», всплывает на поверхность, шум мотора грузовика заставляет чувствовать себя совершенно беззащитной. Все мое тело вздрагивает, точно в ознобе, но дрожь эта настолько слаба, что заметить ее почти невозможно… хочется заорать в голос, мучительно, громко завыть, и единственный доступный мне сейчас способ промолчать — это всосать ртом как можно больше влажной кожи мужчины.
Окабе входит в меня сзади. Темнота наваливается всей своей тяжестью. Он толкается в меня сзади, снова и снова, и мне уже кажется, что даже мой клитор исходит влагой. И в то же время возникает странное ощущение комка, все сильнее подступающего к горлу, — немного похоже на то, что я испытывала, искусственно вызывая у себя рвоту. Комок поднимается все выше — и движение это завершается новым оргазмом, взрывающимся в голове, слепящими белыми звездами вспыхивающим в глазах.
Кажется, я слышу, как рокочут волны прибоя.
Все так же негромко вхолостую урчит мотор.
На следующее утро, проснувшись, я обнаруживаю, что район складов понемногу оживает. Тут и там перемещаются фуры и подъемные краны. Слышится электрический визг машин, дающих задний ход. Грузовик Окабе движется. Половина девятого. Начинается погрузка. В половине десятого грузовик отъезжает. Вспоминается, что мы ели и пили на завтрак — готовый рис с мясом и овощами из ближайшего универсама, горячий кофе из автомата.
Погрузка закончилась. Довольно долго мы ехали, потом — ближе к вечеру — остановились помыться. Почти на всех заправочных станциях, которые называются «Особые станции Усами», непременно есть бани. «Усами» — компания, сделавшая себе имя на обслуживании дальнобойщиков. По всей стране у нее есть заправки, рассчитанные специально на грузовики, и при каждой непременно баня. Для обычной машины нужно не больше десяти — тринадцати галлонов бензина; чтобы наполнить два бака четырехтонного трейлера, требуется галлонов пятьдесят — пятьдесят пять, так что в итоге обе стороны — в выигрыше. Мы заправились на станции «Усами» на Семнадцатом маршруте, а потом пошли в баню. Это была чистая, удобная баня, и вода там при помощи специального нагревателя круглые сутки оставалась горячей.
Во время нашего второго путешествия в Ниигата я уже вовсю наслаждалась пейзажем. Внезапно из приемника донесся голос:
Осторожнее! Там впереди сковородку поставили!
Очень мило было со стороны говорившего нас предупредить. «Сковородками» называют весовые. Потому называют, что именно так выглядят платформы, на которых взвешивают грузовики, — длинные металлические сковородки. Судя по всему, с парнем, который нас предостерег, Окабе говорил впервые. Благодаря его доброте Окабе, который в своем четырехтонном грузовике вез одиннадцать тон груза, удалось вовремя свернуть и избежать проверки. Информацию такого рода на сленге дальнобойщиков называют «сплетнями», и подобные «сплетни» передаются по рации с использованием особых кодов. Люди, передающие «сплетни», пользуются особыми привилегиями — свободные волны для них предоставляются даже в самых забитых районах. «Сантиметр» означает «скорость», «полночные всадники» — это полицейские на мотоциклах, «панды» — патрульные машины. Слышишь такое жаргонное словечко — и сразу же понимаешь, от чего оно произошло. Не думаю, что смысл этих обозначений — сделать сообщение непонятным для посторонних. Скорее в них просто заложена очень важная информация — надо говорить как можно быстрее, не задумываясь о выборе подходящих слов. Вот и пришлось создать особый жаргон…
— Сама поговорить хочешь? — спрашивает Окабе, получив «сплетню» и поблагодарив передавшего ее парня за сообщение. Протягивает мне микрофон.
Понял, наверное, что теперь, когда стемнело и наступила ночь, мне потихоньку становится скучно.
— Ага. Неплохо бы.
Кабина наполнена запахом шампуня, которым мы мыли голову в бане.
— Хочешь, можешь сделать вид, что ты — это я!
— В каком смысле? Как я это сделаю?
— Когда говоришь через эту штуку, никто не разберет, кто ты есть.
Он сует мне какой-то черный предмет, по форме и размеру очень напоминающий микрофон.
— Что это?
— Исказитель голоса. Сам-то я эту фигню не больно обожаю, просто один человек попользоваться дал, а вернуть ему все никак случая не было.
— А не страшно это — говорить с кем-то и даже не знать, с кем именно?
— Ничего, по нику догадаются. Просто подумают, я подурачиться решил. Ты не волнуйся, у нас народ все время так развлекается.
— Я забыла, какой у тебя ник?
— Шторм.
Голоса возвращаются.
Он снова протягивает мне микрофон.
Привет, это Шторм.
Я нажимаю на микрофоне кнопку передачи. Когда говорила — держала между своим ртом и микрофоном исказитель голоса. Там имелась кнопка, позволяющая устанавливать настройки, но я и представить себе не могла, насколько эффект искажения звука изменит мой голос. «Привет, это Шторм». Звук доносится откуда-то со стороны. Я обнаруживаю — мой голос обратился в совершенно чужой, высокий, тонкий, металлический.
Меня больше не существует.
Голос меняется. Наверно, мне следовало бы быть внутренне готовой к этой перемене, ведь я преотлично понимала, что должно произойти, и все равно от результата стало очень не по себе. По коже стремительно побежали мурашки. Пытаюсь подавить внезапно подступившую к горлу рвоту — и чувствую, как позыв подкатывает снова. Слышу щелчок, с которым становится на место что-то у меня в голове, — так снова начинает работать разладившийся механизм зубчатой передачи. Голоса возвращаются. Они могут сказать что угодно. В точности как в тот раз, когда я впервые услышала голос, который не могла контролировать. Слова — мои собственные, но голоса, который их произносит, я не узнаю.
Привет-привет, как дела?
С удивлением замечаю, что — сама не знаю почему — говорю сюсюкающим детским голоском. Сжимаю микрофон в потных ладонях, с силой надавливаю на кнопку. Не сразу понимаю, как дрожат у меня руки. Потом неожиданно осознаю, что делаю, и торопливо убираю большой палец с кнопки, на которую жала. Воровато кошусь на Окабе — он спокоен, смотрит вперед. Пауза — а потом с другого конца линии доносится чей-то ответ. Такое ощущение, словно все звуки мира сейчас собрались в одном-единственном маленьком громкоговорителе. В общем шуме невозможно выделить конкретный голос. Кому же мне теперь отвечать, недоумеваю, вслушиваясь в звуки с таким напряжением, что кажется, вот-вот лопнут кровеносные сосуды в мозгу. Целый мир сжался, съежился, превратился в какофонию странных звуков.
— Прямо как газ под давлением, когда он в жидкость превращается. Как жидкий пропан, да?
Я не собиралась говорить это вслух, но, кажется, все-таки сказала.
Нажимаю на кнопку. Произношу:
— У меня проблемы, трудно тебя расслышать.
Окабе поворачивается, сжимает мою руку:
— Эй, парень на том конце линии еще говорит.
— Правда?
В голове у меня — бесконечные, бесчисленные голоса, как если бы там, внутри, находились десятки установок спутниковой связи. Похоже, многие из этих голосов доносятся черт знает из какого далека.
— А совсем издали сигналы принять можно? — спрашиваю Окабе.
— Что?
— А совсем издали сигналы принять можно?
— Да нет, не думаю.
Я нашел такое классное местечко в Куросаки… Свози и меня туда. Меня зовут… Ну, ладненько, тогда встречаемся на стоянке… Гавайи, вызываю Гавайи… Брат, эта телка совсем помешалась, поверить не могу — ходит и распускает такие слухи, да ведь половина из них — чистая брехня… Давай в следующий раз я твоей женушкой займусь?.. Который сейчас час?.. Нет, правда. Говорю тебе, никогда я ей не платил… Танго, Альфа, Королева, Королева… Одиннадцать сейчас. Уже… Какого хрена, ты на шоссе или где?.. Который, ты сказал, час?.. А сейчас — время взглянуть на некоторые из открыток, которые мы получили из…
Я отпускаю кнопку. Поворачиваюсь к водительскому сиденью.
— Ты что, радио включил?
— Нет.
Но радио — совершенно очевидно — все же работает. Да, я слышу, как разговаривает множество людей, но к болтовне их — уверена в этом — примешиваются еще и звуки радио.
— А можно я включу?
— По мне, так включай на здоровье, только не трудновато ли тебе будет расслышать?
— Нормально, — отвечаю.
С моим ртом что-то случилось. Я сижу, чуть отвернув лицо в сторону, так что к исказителю голоса происходящее не имеет никакого отношения, но все равно отлично слышно, что одновременно с моим обычным голосом звучит измененный — чужой, незнакомый. Понятия не имею, откуда, черт возьми, этот измененный голос берется: кажется, он звучит где-то у меня внутри, но с таким же успехом может доноситься и снаружи.
— Когда говоришь по рации, ответ не сразу приходит, да? Мне ждать уже надоело!
Окабе не отвечает. Я снова и снова жму на кнопку настройки радио, ловлю разные волны. Бессмысленные фразы накатывают одна на другую вперемешку с электрическим писком и потрескиванием.
Спонсор этой программы — компьютерная компания «Фуджицу»… Подробности сегодняшних новостей вы можете узнать на нашем сайте. Там вы найдете много интересной информации, так что, надеемся, вы выберете время, чтобы на него зайти… Может, стоит использовать амплитудную модуляцию? Разумеется. Что ты сказал? Ничего. Я просто сказал — конечно, стоит, если тебе этого хочется. Музыку послушать хочешь? Нет… Ну, мы просто столкнулись как-то на улице — и я сейчас же в него влюбилась. Любовь с первого взгляда… со мной такое произошло впервые, хотя сколько мне об этом мама и папа рассказывали! Сначала он попросил меня переехать к нему, а через какое-то время взял и выгнал. Я потом довольно долго не могла контролировать свои эмоции… Вы слушаете программу, посвященную творчеству Пэтти Пейдж. Пэтти — вторая из одиннадцати детей. Ее знаменитый «Теннессийский вальс» был посвящен… В большинстве случаев мы склонны предполагать, что однородные прилагательные относятся к одному и тому же существительному, но во многих странах, где говорят на других языках, а также в речи детей и больных шизофренией прослеживается тенденция использовать в таких случаях однородные сказуемые… О да-а. / Ты — моя навсегда-а. / Мы — в небесах высоко-о. / Нам вместе с тобой легко-о… Видите ли, если я вас правильно понял, давайте возьмем, к примеру, слово «шпора», оно — немецкого происхождения… По склону вьются тропинки, поднимающиеся вверх по холму… И в ответ на это буддистский святой Шинран… В основе этого объявления лежит е-мейл, который мы получили от одного из сотрудников нашей компании, господина Китауры Кенго… Дождь, что ли, пошел? Да нет, это просто музыка… А теперь я с удовольствием представляю вам наших гостей на следующую неделю. Сначала мы поговорим с Кехару из группы «Черный бархат», а потом — с замечательной актрисой Инамори Идзуми [4]. О, я хорошо знакома с ней. Понимаешь, мы с ней не то что подруги, скорее просто приятельницы, да, именно приятельницы. Очень точное слово, мы несколько раз ходили вместе выпить, хотя, если вспомнить, мы и обедали вместе пару раз, и вот что я тебе скажу, открою тебе тайну — в общении она совершенно очаровательна, она такая…
— Эй!
Я словно старого друга встретила.
Я нашла его! Да, уверена, эти голоса я уже слышала раньше! Диалог мужчины и женщины. Это он. Это он, он, он, он! Но как же я могла слушать радио, которое даже не было включено? Радио, которое не было включено? Конечно, сейчас они говорят совершенно о другом, ведь прошло время, так что уже невозможно понять, права я или ошибаюсь. Может, это вовсе не те люди? Совсем не те, которых я слышала раньше? Я пытаюсь убедить себя: да, в этом-то все и дело. А потом понимаю: есть бесконечное множество моих различных «Я», существующих попеременно в разные промежутки времени. Касаюсь себя. Стараюсь ощутить физическое присутствие своего нынешнего «Я». «Я», которое могу назвать своим здесь и сейчас, но все, что я чувствую, — это горячечный жар собственной кожи. Внутри — пустота. На поверхности появляются крошечные отверстия, их становится все больше и больше, и сами они увеличиваются; постепенно исчезает пропасть, отделяющая меня от остальных людей. Останови меня! Закрой мое тело своим, не дай мне упасть туда, вовне! Обними меня, обними, обними, обними, закричала бы я Окабе, когда бы могла говорить, сейчас это мне необходимо, но слишком не к месту это сейчас, и я вынуждена молчать. Ток крови посылает нервам чувство странной неровной пульсации. Во рту — привкус железа, резкий и прохладный. Мышцы рук сводит, подергивает, движение это совершенно бессознательно. И следом за подергивающимися руками начинают волнообразно сокращаться все прочие мышцы — я понятия не имею, какая часть тела может оказаться следующей. Зубы стучат. Слышу звук, напоминающий щелчок… то есть так мне кажется поначалу, и далеко не сразу я понимаю: никакой это не щелчок, просто встали на место недостающие детали.
Я слышу голос.
Давно пора переодеться.
Волны мышечных сокращений приобретают форму концентрических кругов, нарастают, поднимаются все выше, словно позывы на рвоту.
А потом надо бы сходить в спортзал.
Угу, отвечает голос. Интонация совсем другая, но я все равно узнаю — это тот же голос, который заметил: «Давно пора переодеться». Чем-то похоже на актрису, на разные голоса озвучивающую разных персонажей в мультфильме, на актрису — мастера своего дела. Меня захлестывает ностальгия. Из глаз едва не бегут слезы. Ностальгия настолько сильна, что это прямо-таки пугает.
Засунь-ка руку в рукав. Угу.
Ну вот, осталось всего-то ничего — вытянуть руку. Угу.
Голоса то нарастают, то стихают — что хотят, то и лают.
Господи, я так зла на этого самого Йошиду — ты себе представить не можешь, мерзавец взял за моду встречаться с двумя девушками одновременно, и плевать ему с высокой горки на чувства Канако. Угу. Я понимаю, что речь идет о том баскетболисте, как его — Укай? Угу. А теперь давайте перемножим эти цифры. Угу. Нет, мне интересно, ты что, вдруг просто возненавидел эту девчонку или что? Угу. Заставьте ее замолчать.
Угу. Угу. Угу. Угу…
Дааааа, дааааааааааааааааааааааааааааа… Я отчаянно стараюсь не раскрывать рта, но предел возможному наступает столь стремительно, что это даже не смешно. Меня сейчас стошнит.
Чего?
Меня сейчас стошнит. Ты что-то сказала? Меня очень тошнит…
Прижимаю ладонь ко рту. Всем своим видом стараюсь показать — ситуация экстремальная. Какого черта ты плетешь, подруга, ситуация и впрямь — экстремальней некуда. Отвали от меня, какого хрена ты добиваешься — пристаешь со своими замечаниями в таких обстоятельствах, это же чистая правда — ситуация чудовищно экстремальная. Одна моя давняя подруга как-то мне сказала: в экстремальных ситуациях мой голос кажется даже более спокойным, чем всегда. Наклоняюсь вперед, прижимаю ладонь ко рту еще крепче. Нечего делать, приходится разыгрывать приступ тошноты.
Как я могла забыть и не помнить так долго?
Здесь и сейчас, совершенно неожиданно, во мне пробуждается давно похороненное воспоминание: похоже, скорее всего — не на сто процентов, но все же — я стала слышать голоса, когда училась классе примерно в восьмом. Голоса появились не за тем, чтобы оскорблять меня, — нет, они пришли из ниоткуда с тем, чтоб меня защитить, и создала их я сама.
И, кстати, не то чтоб я начала слышать их все разом. Я видела — слова распадаются, разбиваются в осколки. Я больше не могла повторять бесконечные «ра-роу». С того самого дня, как он влепил мне пощечину — маленький лысый человечек, учитель японского, сам не умевший правильно говорить по-японски, один из многих, кто всю жизнь занимает чужое место, — так вот, с того самого дня на каждом уроке, сколько бы я ни прилагала усилий, чтобы стать для него незаметной, он непременно меня вызывал и заставлял встать. На каждом уроке. Даже на национальной экономике, где по жизни нет необходимости выслушивать мнение учеников по какому-то бы ни было вопросу. А он все равно вызывал меня и спрашивал — что я думаю об этом, что я могу сказать о том? И заставлял встать. Ему просто необходим был ученик, над которым можно издеваться подобным образом. А потом как-то раз он велел мне повторить неправильные употребления «ра-роу», а я, судорожно копаясь у себя в памяти в поисках правильного ответа, поняла: ключ к двери, за которой спрятаны «ра-роу», потерян. Я не должна была раздумывать, давным-давно я организовала все так, что ответ приходил автоматически, как только потребуется, но сейчас он не пришел. Я постаралась мысленно воссоздать обстоятельства, при которых отвечала раньше, и обнаружила: те фрагменты картин, где должны бы находиться неправильные варианты, исчезли. Стерлись. На месте их — полная пустота. Голос пропал. Я открывала и закрывала рот, однако только и могла, что втягивать в себя воздух, уже переполнявший легкие. Я все всасывала и всасывала воздух — а что еще оставалось делать? Пульс зашкаливало. Перед глазами все мутнело. Мир расплывался. Меня одолевала странная уверенность: между мною и окружающими натягивается прозрачная, отгораживающая меня пленка, и, сколько ни старайся, дотянуться до нее невозможно. Ощущение невозможности коснуться вещей и людей прямо перед собой. Словно бы расстояние между мной и теми, что рядом, постоянно увеличивается, и они становятся все меньше, отдаляются и отдаляются от меня, пока я не останусь наедине с жестокостью противостоящего мне времени. Что сделает учитель? Снова меня ударит? Это ведь я не могу коснуться окружающего мира — а он, со своей стороны, вторгнется в мое пространство на раз, без проблем. Выбора не было, и я упала в обморок. Тело от напряжения стало прямо-таки каменным, так что упасть без чувств красиво и изысканно, как актриса на сцене, не вышло. Очень было больно… зато по крайней мере удалось как-то выйти из трудной ситуации. Учитель на помощь не пришел, но я только радовалась, что он ко мне не прикоснулся. Два одноклассника из группы охраны здоровья подхватили меня и увели из класса, поддерживая под локти. Я тряпкой висела на их руках, лицо — белое, как бумага. И куда только подевалась вся кровь из моего тела? Осталось единственное желание — наслаждаться и наслаждаться нежностью и теплом рук своих одноклассников. Один из них был парень, другая — девчонка. Мотидзуки и Хихара. Но они слишком скоро ушли и сильно тем меня опечалили. Так хотелось продолжать испытывать все разнообразие тактильных удовольствий, касаясь одновременно и мужской, и женской плоти. Откуда-то сверху, совершенно со стороны, я смотрела на их удаляющиеся спины. На линолеум пола. На светло-оранжевые лестничные ступеньки. На вкрапленные в бетон ступенек крошечные камушки. На свои школьные туфли. Когда я лежала на кушетке в медпункте, медсестра сказала — у меня подростковая анемия.
Я увидела, как слова разбиваются в осколки…
На следующий день мать спросила, почему я не иду в школу, — и что я могла ей ответить? Одно из двух. Потому что сломанный внутренний механизм выдал мне на сей раз только два варианта ответа, словно отпечатал их у меня в мозгу. Я лежала в постели и тряслась. Тело выламывало неконтролируемыми мышечными сокращениями. Мать расспрашивала меня осторожно, нежно. Такой бережной и ласковой она бывала со мной только тогда, когда я, еще в детстве, болела простудой.
— Сходить к психиатру.
— Я хочу сходить к психиатру, — сказала я.
И в ту же секунду ощущение приятного тепла и заботы, исходивших от моей матушки, исчезло без следа. Несколько дней спустя она додумалась предложить мне перейти в другую школу — раз уж меня никакими силами не заставишь ходить в эту.
— Но, знаешь, особенно тебе это не поможет. И представляешь, что о нас люди подумают? Впрочем, в другой школе можно тебя зарегистрировать как проживающую в доме твоего деда. Да, тогда, возможно…
Дед мой тогда жил в доме на севере города Иваки. Я сделала, как велела мать: съездила посмотреть, что там за школа. Всю дорогу я смотрела в окно поезда и любовалась желтыми пятнышками, вкрапленными в зелень полей, — пятнышками, которые кое-где неожиданно сливались в большущие пятна. Ранние цветы, раскрывшиеся под весенним солнцем, — вот что означала эта желтизна. Потихоньку я начинала ощущать смутную радость. Но когда мы подъехали к дому деда поближе, оказалось, что там цветов нет — только тугие зеленые кулачки бутонов. На дворе стоял май, но там все еще было прохладно. А может, в тот год вообще была холодная весна — не помню уже. Я услышала фразу, которую негромко, вполголоса пробормотала мать:
— Ну и кто виноват, что нам пришлось тащиться сюда, в этакую глушь?
Ты сама и виновата.
Нет сомнений, теперь-то я бы точно сумела ответить ей именно так, но тогда я и помыслить-то о подобном ответе не смела, выговорить бы эти слова не смогла. Что, в конце концов, для тебя важнее — судьба твоей дочери или школа? Кого, черт тебя подери, ты здесь защищаешь?.. Н-да. Тогда я ощущала то, что меня вынуждали ощущать. Собственную вину. Ужасно ли, плохо ли, нет ли, а пришлось вернуться в прежнюю школу. Мамочке моей явно невдомек было, каково это — чувствовать, как распадаются слова. Она не понимала, насколько это страшно, да и не желала понимать, вот и постаралась как могла столкнуть меня в пропасть совсем уж кромешного кошмара. Выживать в отсутствие слов было непросто, одно помогло — люди вокруг хорошо меня знали. Они разделяли со мной воспоминания, помогали мне помнить, так что, хоть я и не говорила больше ничего нового, исчезнуть все-таки не исчезла. А если бы оказалась безгласной среди совершенно новых людей — существовать бы перестала, стала бы просто плотью, даже меньше, чем плотью. Случись такое — и я бы действительно утратила слова. Оказаться тогда в незнакомом окружении — нет, на это я была абсолютно не способна, этого было необходимо избежать любой ценой.
Я вернулась в школу, куда ходила раньше, и с мужеством отчаяния принялась прислушиваться к чужим словам. Слушала с таким напряжением, что буквально рвота к горлу подступала. Школьная форма та же, что и прежде, но под ней — черная дыра, и эта дыра — я. Всасывала в эту дыру чужие слова, препарировала их и укладывала в новом порядке. Думала: если другие люди эти слова произносят, значит, должны понимать, что они означают. И я слушала. И старалась говорить, говорить словами других людей. Конечно, нелепо было бы просто дословно повторять то, что незадолго до этого сказал собеседник, пришлось создавать в памяти настоящие хранилища для слов, сберегать их, чтоб использовать позже, в другом месте, в другом разговоре. А позже я научилась комбинировать сохраненные фразы. В одиночку, без всякой помощи пришла к пониманию чего-то более сложного, чем грамматические правила. Например, что слова, расставленные по-разному, приобретают разное значение. Маленькие дети учатся говорить интуитивно, ну а я сознательно проходила этот процесс в девятом классе. Нашлись, конечно, ублюдки, заметившие странное несоответствие между безмятежностью моего лица и отчаянной борьбой, что шла у меня внутри, они пытались меня высмеивать. Я не реагировала. Самый факт существования ставил меня над их насмешками. Потом… когда я снова стала ходить на занятия, родители предупреждали: «Никому не рассказывай, что хотела перейти в другую школу!» Почему нельзя? «Ну а что хорошего выйдет, если все узнают? Тебе лучше будет?» Я приобретала привычку тщательно проверять каждое слово, прежде чем позволить ему вылететь изо рта. Нужно крепко сосредоточиться, чтобы проглотить фразу, которую уже собираешься произнести, и мысленно устроить ей основательную проверку, и я совсем не была уверена, что у меня достанет сил проделывать это бесконечно. А потом я решила: надо вести себя так, словно ничего особенного не произошло. Ничего не произошло. И я забыла. Конечно, ведь ничего не было, ничего не произошло… значит, и помнить было нечего!
Вот тогда-то я и стала слышать голоса. Голоса были точно странные сигналы, которые понимала я одна, словно шифрованные послания, которые, по счастью, могла расшифровать только я, но ведь только мне они и адресовались. Я расшифровывала сигналы, и они превращались в голоса. Такова была обычная система действий; я боялась, что, стоит нарушить ее, сигналы смогут перехватывать другие люди — так, как ловят информацию, переданную по рации. Современные радиопередатчики используют аналоговые сигналы, они превращают голоса в волны и в неприкосновенности пересылают в таком виде. Но полицейские, пожарники и разные секретные службы пользуются цифровыми радиопередатчиками. Теми, которые сначала преобразуют голоса в сигналы, состоящие из нулей и единиц, а потом оперируют этими цифровыми сигналами. Голоса, что приходили на помощь мне, в чем-то очень напоминали такие вот цифровые радиопередатчики. Разница заключалась в том, что моя система была совершенно уникальна — кроме меня, о принципе ее работы не знал вообще никто. Я не могла себе позволить поделиться с кем-то. И постаралась скрыть свою тайну даже от самой себя — приучила себя верить, что голоса приходят извне, неведомо откуда, дабы направлять и защищать меня. Нет. Они — не часть меня. Не часть — и все тут.
— Потерпи секундочку…
Похоже, Окабе встревожился всерьез.
О, возможность перевернуть мир доставляет абсолютно неизъяснимый кайф. Столько грузовиков сейчас несутся в ночи по шоссе, несутся на полной скорости, и как нелегко одному-единственному из них замедлить ход!
— Так неожиданно все вышло…
Индикатор мигает.
— Я не понимаю, что происходит. Мне нравится ощущение собственной власти. Нравится, что мои слова и жесты могут заставить другого человека так забеспокоиться. Эй, подруга, приди в себя, ты — прямо как ребенок, считающий себя всемогущим. Очнись. В зеркало посмотрись, деточка, тебе — тридцать один, между прочим!
— Меня сейчас вырвет. Меня сейчас вырвет!
— Слушай, друг, мне что-то нехорошо стало, приходится прекращать, — говорит он своим обычным голосом в зажатый в руке микрофон и свистит. Потом повторяет то же самое еще кому-то — и снова свистит.
— Что это было?
Что это было? Свистни еще, пожалуйста!
— Я дал понять, что связь окончена.
— Ты для этого свистишь?
— Есть уйма условных обозначений конца связи. Это чтоб человек на другом конце линии не стал беспокоиться, чего это я вдруг отключился.
Меня все еще малость подташнивает. И в то же время некая часть меня ощущает странное возбуждение. А поскольку я уже давным-давно прекратила попытки взять эту самую часть под контроль собственной воли, возникшее внезапно желание не исчезает. Где-то у меня в мозгу, в той его части, где хранятся воспоминания, некие клетки восхищенно прислушались к свисту, и сейчас за происходящее отвечают именно они. Свистни еще раз для меня. Трахни меня — здесь и сейчас. Клетки, испытывающие сексуальное желание, увеличиваются. Раскаляются докрасна. Безжалостно меня подгоняют.
Мы съезжаем на обочину. Выползаю из кабины. Чувство равновесия утрачено полностью. Летит планета кувырком, кувырком, кувырком! Вырвать — и то не получается. Ничего не выходит, только горьковато-кислая слюна. Чувствую — лопаются кровеносные сосуды в глазах. Снова проталкиваю два пальца в горло. Вырвать по-прежнему не получается. А когда-то мне в этом деле равных не было! В голове звучит и звучит голос, он болтает-болтает-болтает-болтает, и мне никак не уследить за его болтовней. Странно, когда не можешь разобраться, что творится в твоей собственной голове. А голос болтает-болтает-болтает-болтает-болтает-болтает-болтает-болтает, конца этому нет! Как же это бесит, когда больше всего на свете хочешь сблевнуть, а не получается, прямо каждый волосок на теле дыбом встает от злости! Смотришь на того, кто рядом с тобой, невольно замечаешь каждую мелочь, замечаешь даже, как он воздух колышет, когда двигается, и автоматически переносишь свою злость уже на него. Как бы ни нравился тебе этот человек, сейчас он тебя только нервирует, только раздражает.
Не смей меня трогать!
Я яростно отмахиваюсь. Окабе тихо извиняется, убирает протянутую ко мне руку. Я сейчас немыслимо чувствительна, так что, пожалуйста, не надо меня трогать. В голове крутятся нужные слова и жесты, но я не в силах ими воспользоваться. Прости, мне и впрямь следовало бы вести себя повежливее. Когда у меня возникают проблемы с рвотой, все тело каменеет. Мне плохо, Господи, как же мне плохо! Колочу кулаками в грудь Окабе. В мускулистую, литую, тугую грудь. Руки от кистей до локтей понемногу немеют. Хорошо, хорошо, как хорошо… Хочется ударить его снова. Бью. Бодаю лбом в плечо. Окабе не реагирует как должен бы — ему что, совсем не больно? Ну-ка еще разок! Он с необыкновенной легкостью перехватывает мои руки. Дергаюсь, бьюсь, пытаясь освободиться из его захвата. Не трогай меня, не трогай меня, не трогай, прошу! Ведь иначе мне придется снова тебя ударить!
Поняв, что ударить его я больше не сумею, принимаюсь колотить себя по голове.
Окабе снова перехватывает мои запястья, но я рвусь как бешеная, наконец ухитряюсь освободиться, и вот тут-то меня выворачивает наизнанку. Приступ бешенства уносит вместе с рвотой, но сразу же за ним меня охватывает сонливость. Ни капельки не похоже на рвоту, искусственно вызванную после обильной еды.
Окабе на руках вносит меня в кабину, и довольно долго мы просто едем вперед, молча и не спеша. На первом же съезде с шоссе он останавливает трейлер.
Вынимает ключи.
Берет меня за руку. Мы куда-то идем. Мы заходим в придорожный отельчик.
В какое время суток ни зайди в подобное заведение, освещение там всегда тусклое. Полумрак помогает мне расслабиться. Нет яркого света — значит нечему действовать на нервы. Впервые в жизни я испытываю к дешевому, убогому отелю истинную нежность. Как только мы входим в номер, Окабе наполняет ванну водой — прохладной, чуть теплее температуры тела.
Когда успел этот человек изучить меня столь досконально?
Кожа моя в такие минуты настолько чувствительна, что ей просто не вынести более высокой температуры. От горячей воды мне сейчас стало бы только хуже, да и от душа толку никакого. Сейчас мне необходима защита от внешнего мира, укрытие, безопасность. Даже тела Окабе недостаточно. Каждый мой волосок стоит дыбом. Эти волоски надо как-то пригладить. Надо снова заставить лечь и прижаться к коже — как поступают с бархатом, ворс которого заглажен неправильно.
Следы рвоты у меня на шее и груди медленно исчезают, смытые не колючими струйками душа, но водой, набранной в принесенный со столика графин. А потом меня, как ребенка, опускают в ванну. Трудно ли вообразить, что, возможно, он был так же ласков и с преследовавшей его истеричкой? Голоса принимаются за свое. Нежность его не имеет отношения к чувствам, она инстинктивна. Он нежен, даже когда ничего не ощущает эмоционально. Нежен просто потому, что касается чего-то мягкого. Ведь осторожен же человек, когда персик в руки берет! Вода не покрывает моих плеч, им холодно. Окабе — животное. Живет инстинктами, инстинктами. Но… знаете, на свете полным-полно мужиков и похуже животных. Мужиков, которым плевать — помнут они персик или нет, потому что они уверены, что персик этот — их собственный. А Окабе — совсем неплохой парень, точно. Если бы я могла привыкнуть к жизни в грузовике — оставила бы его себе насовсем. Да. Насовсем бы оставила. Возможно, я бы полюбила его, до слез полюбила. Ты идиотка, детка! Ну и что, что у него есть какая-то там жена? К черту жену, она ничего не значит! Люблю я его? Нет. Мы существуем порознь, а не вместе.
Пытаясь отключиться от голосов, я окунаю лицо в воду. Испуганный Окабе хватает меня за волосы, вытаскивает голову из ванны.
Лучше бы он меня утопил.
Снова и снова я пытаюсь нырнуть. Снова и снова он меня вытаскивает. Молчит, только головой качает. Я опускаю глаза, стараясь избежать его взгляда.
Утопи меня.
Все не так. Но сама я остановиться не смогу. Мне нужно, чтобы меня остановили. Мне необходимо, чтобы меня остановили. А остановить меня в силах только он — и никто другой. Потому что больше никому на свете я не позволю увидеть себя — такой. Такой я себя ненавижу. Я ненавижу себя… но я жива?!
— Ударь меня.
По крайней мере это желание мне удалось облечь в слова.
— Зачем?
Ударь меня. Выбей из меня то мое «Я», которое не способно жить в мире с «Я» остальными.
Просто ударь меня. Ударь. Ударь. Ударь, как бил ты преследовавшую тебя девицу.
Не голос — ультразвуковой вопль вибрирует в длинной, узкой, облицованной синим кафелем ванной.
Ударь меня. Меня заводит слово «ударь». Заводят сильные руки, избивавшие в прошлом столь многих. Эти локти пробивали себе дорогу. Эти кулаки разрешали самые сложные ситуации. Но убийства эти руки не совершали никогда. Я хочу свернуться клубочком в надежном кольце этих рук. Хочу, чтобы эти руки меня защищали. Меня заводят мысли о том, сколько всего эти руки уничтожили. Заводят эти руки, которые больше не ломают и не калечат, но касаются осторожно и бережно.
— Не могу я тебя ударить, — голос Окабе. — Ты мне нравишься. Не могу я тебя ударить.
Парень, я не понимаю, что ты такое говоришь.
Он тер мочалкой мою спину — а я рыдала, сидя в теплой воде. Несколько раз подступали нежданные и сильные позывы на рвоту, но вырвать не получалось, я только и могла, что кашлять. Тело постепенно оживало, выпрямлялось в ванне. Осторожно приобнимая меня, Окабе мыл мою спину. Он обнимал меня, я рыдала — и ощущала странное желание назвать, неизвестно, с какой стати, его «матерью».
Я не понимаю тебя. Я совсем тебя не понимаю.
Кого не понимаешь? Окабе — или себя?
Этот голос… Я понятия не имею, чей это голос. Понятия не имею, любят меня мои голоса или ненавидят. Не знаю, по-прежнему ли они существуют, чтобы меня защищать. А если нет, не знаю, когда они изменились.
Эй, ты, старый ублюдок, какого хера ты болтаешь?..
Легкие белые снежинки падают, падают с неба…
Я уселась тебе на шею и болтаю ножками, а ты так этого и не понял?
Шоссе — широкое, идеально прямое. Фургон впереди нас перестраивается в левый ряд, уступает дорогу фуре.
Господи, да знай ты, что я там окажусь, наверно, даже не стал бы заходить в тот супермаркет!
Перед нами — никого. Неожиданно дорога впереди резко обрывается. Я вижу высокий и узкий мост, зажатый меж двумя крутыми горами. Вижу ряд желтых пятнышек. Снежные хлопья, подхваченные ветром, опускаются на землю. Эти желтые пятнышки на мосту, мелькающие в снежной белизне, как цветы, что почему-то расцвели среди зимнего холода. Мы приближаемся, и у желтых пятнышек появляются ножки. Строй первоклашек, идущих из школы домой по направлению к дороге. На всех — одинаковые непромокаемые шляпы, настолько ярко-желтые, что вблизи эта желтизна сильно отдает в рыжину. Очевидно, малышей заставляют носить такие яркие шляпы по пути в школу и назад из-за плохой видимости. Тротуара на мосту нет. Когда проезжает машина-даже легковушка, — свободного пространства для пешеходов почти что не остается ни справа, ни слева.
Въезжаем на мост. Окабе сбрасывает скорость, потом подает как можно сильнее вправо, чтобы увеличить расстояние между трейлером и строем детишек. У дальнего конца моста тормозит еще одна огромная фура — ждет, пока проедет Окабе. Я смотрю вниз, на спинки первоклашек. Часто, слишком часто они спотыкаются в снегу. По-моему, это очень опасно.
Поверить не могу, что они идут по этому мосту сквозь этот снег! Мы заботимся о детях. Ага. Как же.
Малышка, идущая последней, неожиданно оборачивается. У меня сердце падает. Девочка стоит там и смотрит, как медленно, очень медленно приближается к ней наш грузовик, и другие дети строем идут вперед, оставляя ее позади. Она смотрит вверх. В кабину грузовика. Прямо мне в глаза.
— Ты чего так притихла-то?
Окабе. Девочка. Я. Как все перепуталось! Рта я не раскрываю, просто мотаю головой и издаю тихий стонущий звук. Я и раньше не много говорила. Я вообще почти не разговаривала. Просто высасывала тебя досуха.
— Устала, да?
Качаю головой. Мычу что-то отрицательное.
Я вижу место, где кончается снег. Вижу очень ясно. Просто граница, за которой с неба не падает ни единой снежинки. Вместо этого в небе ярко сияет солнце, от его тепла вода на земле быстро испаряется, и пейзаж за окном словно бы слегка колышется. Я сижу в озаренной слепящим солнечным светом кабине, изнывая от унижения и ненависти к себе. Я молчу.
Параллельно ходу грузовика бегут две реки — Синано и Уоно [5], сворачивают то вправо, то далеко влево, а потом, я не успела заметить когда, куда-то исчезают.
Стоит нам пересечь границу префектуры Ганма, мир вокруг становится совсем пустынным — остаются только немногие лыжные базы на бесконечных горах по пути к перевалу Микуни. Мы движемся вперед. Справа возникает озеро. Смутно припоминаю: слышала где-то, что озеро это искусственное. Поверхность воды — грязновато-белая от талого снега. Время от времени Окабе бурчит себе под нос какую-то ерунду, не требующую ответа. «Господи, солнце-то какое!». «Чтоб я сдох, и это они называют шоссе!». Косится на вывеску семейного ресторанчика: «Угу, завтрак для молодоженов!» Должно быть, он так же бормотал бы, даже не будь меня рядом. Он сказал — я ему нравлюсь. Но кто я для него? Всего лишь незнакомка, ненадолго ворвавшаяся в его жизнь. Может, со мной ему и веселее, но, пожалуй, когда я исчезну — особо горевать он не станет. С глаз долой — из сердца вон… так он ко мне относится? С другой стороны, разве не столь же велика вероятность, что наша встреча ничего не изменит и для меня ? Да, очень много минут свободы и радости, но потом я всякий раз поневоле возвращаюсь к своему прежнему «Я», снова становлюсь собой… Сижу. Молчу. Размышляю.
Индикатор мигает. Слышу, как впиваются в гравий шины. Грузовик тормозит на парковке, словно из-под земли выросшей на обочине дороги. Маленький ресторанчик со стоянкой для трейлеров. На доске у дверей — названия дежурных блюд. Я думаю — мы что, обедать собираемся? Однако вопросов не задаю.
— Слушай, а хочешь за руль сесть? — спрашивает Окабе.
— Шутишь, да?
— У тебя права есть или нет?
— Есть.
— А раз у тебя есть обычные права — значит имеешь законное право водить четырехтонный грузовик.
— Что?! Нет, ты серьезно?
— Хочешь — садись за руль.
— Ну уж нет! Это я вести не смогу…
— Отлично сможешь. Будут проблемы — я тебя остановлю.
Не покидая кабины, мы меняемся местами.
За лобовым стеклом я вижу полукруглую парковку ресторанчика. А за ней — поля нежнейшей, нетронутой белизны и лес, чуть различимый вдали. То там, то здесь мелькают темные пятна открытой земли — влажной, впитавшей в себя талую воду. От густоты теплого запаха почвы тяжело дышать. Воздух, нагретый солнцем, поднимается вверх, смешивается с ледяным воздухом в вышине, и там, где эти потоки встречаются, на мгновение образуются — и сразу же исчезают — прозрачные завихрения. Казалось, я уже пригляделась к окружающему ландшафту, но теперь он вновь кажется мне незнакомым.
Нажимаю ногой на педаль сцепления. Перехожу на первую скорость.
— Давай сразу на вторую, — советует Окабе. — Всегда лучше сразу вторую включать — ну конечно, если груз не слишком тяжелый. А на крутые холмы лучше на первой подниматься. Из-за вращательного момента, понимаешь?
Переключаю на вторую скорость. Старательно слушаю Окабе.
— На акселератор нажми.
Мир вокруг словно слегка вздыбливается. Я торопливо убираю ногу с акселератора.
— Просто газу добавь. У тебя прекрасно получается.
Грузовик трогается с места. Шины разбрасывают камушки гравия, впиваются в землю, с силой от нее отталкиваются.
— Скорость смени.
Перехожу на третью. Да, это — совсем не то что легковую машину водить. Чувствую, как диск сцепления вступает в контакт с коробкой передач прямо у меня под ногами. Ощущаю, как движение фуры отзывается во всем моем теле.
— Скорость еще увеличь.
Я больше не чувствую тяжести грузовика.
— Да ведь так я на дорогу выеду…
С той минуты, как трейлер двинулся с места, я удерживаю акселератор в одном и том же положении, так что веду более-менее по прямой. Снова выезжаем на Семнадцатый маршрут. Дорога продолжается. Грузовик движется вперед. Чувствую — словно само тело мое стало огромным и металлическим. Колеса шумно крутятся. Самый обычный шум, но сейчас он кажется мне оглушительным ревом. Окружающий мир стремительно проносится мимо, почти физически касаясь моей кожи.
— Вот сюда давай. Сообрази, как здесь можно повернуть, и постарайся повернуть стильно и красиво.
Смотрю, куда он указывает. Станция снегоуборочных машин. Сами машины аккуратно выстроены в углу стоянки. Дорога все продолжается — прямая, как стрела. Ну и откуда мне знать, как здесь повернуть? Тело мое не привыкло к размерам грузовика. Но я изо всех сил пытаюсь продемонстрировать Окабе, что полностью контролирую ситуацию. Старательно давлю на поворотник. Разгоняющая сила замедляет мотор, и нас толкает вперед.
— Это выхлопной рычаг.
Оказывается, я нажала на рычаг слева от руля. А рычаг поворотника — справа. Выхлопной рычаг действует очень похоже на тормоз. Стоило снова поставить его на место, и тормоз сработал просто идеально. Надо же, вот, значит, откуда берется тот необычный звук, который издают при движении грузовики, словно шумно выдыхают воздух, — выхлопной рычаг! Наверно, это происходит оттого, что у грузовиков очень тяжелое сцепление. А так не приходится столь часто менять передачу.
— Начинай поворачивать направо. Поворачивай. Еще. Спокойно. Делай как я сказал.
Сторона водителя смещается от центра вправо.
— Еще чуть-чуть вправо. Скорость смени. А теперь малость притормози. Когда въедем — начинай поворачивать влево.
В месте, указанном Окабе, послушно принимаюсь поворачивать влево. Пейзаж за стеклом стремительно смещается вправо. Казалось, когда на водительском месте Окабе, руль поворачивался так легко! А на самом деле он гораздо тяжелее, чем на вид. Мне удерживать его — и то непросто. Понимаю — похоже, колеса застряли в ими же проделанных колеях. Борозды совсем не глубокие, но грузовику все равно не шелохнуться.
— Еще влево. Спокойно. Продолжай поворачивать налево. Акселератор держи, как он есть. О’кей. Вот так. Знаешь, ты сейчас прошла самый паскудный поворот, какой я в жизни видел!
На самом-то деле я еле-еле руль поворачивала. Сомнительно, чтобы при повороте трейлер должен сначала еще и подаваться назад, а потом — вперед, как у меня вышло. Что-то не верится, чтоб этот поворот был самым паскудным на свете, но когда задние колеса приблизились к углу стоянки, стало ясно — развернуться и вправду едва места хватает. Все происходит точь-в-точь как Окабе говорит. Случается все, что должно случиться, да притом еще и в том порядке, в каком положено.
— Ух ты! Bay!!!
Грузовик развернулся — и мир у нас перед глазами утихомирился, застыл, обратился в пейзаж, нарисованный на лобовом стекле точно на ширме.
— Ты руль-то назад поверни.
Мир снова сдвинулся с места.
— Ты, может, хочешь, чтобы обратно машину вела я?
Окабе фыркает. Потом откровенно хохочет. Надо мной смеется, надо же, я уже вообразила, что научилась по-настоящему управлять трейлером! От этого смеха возникает чувство, что мы с ним знакомы давным-давно, и у меня на душе становится легко. Неожиданно понимаю: на сей раз, когда мы вернемся в Токио, я попрощаюсь с ним и пойду домой. Я не плачу. От Токио до Ниигаты — немногим больше двухсот миль, мы проехали по кругу туда и обратно, а потом проделали чуть больше половины второго круга… это сколько ж получается — миль шестьсот с чем-то? Голова — совершенно ясная. Сна — ни в одном глазу. Голоса куда-то пропали, остался лишь четкий ход моих собственных мыслей. Когда-нибудь, наверно, я снова услышу эти голоса. Ничего, я с ними справлюсь. Справлюсь, конечно, а что мне еще остается делать? Ладно, главное — сейчас голоса исчезли. Сейчас я чувствую только вибрации. Убираю ногу со сцепления. Смотрю на свои руки, лежащие на руле. Приподнимаю большие пальцы — ногти больше не слоятся. Тончайший поверхностный слой кожи тоже успел уже несколько раз сойти — и я вижу, как внизу зарождается новая жизнь, розовеет, наливается силой, выгравировывается неглубоким орнаментом папиллярных линий. Все мое тело впитало в себя воду. Моя слизистая оболочка обновилась. Я превратила всю себя в поры, всем своим существом впитала в себя этого мужчину. Я поглощала его. Но и он изучал губами и языком каждый миллиметр моего тела. Впитал меня в себя. Поглотил.
Вот и все, что было между нами. Никакого глубинного смысла.
Но я чувствую — мне стало гораздо лучше.
И мне этого довольно.
(support [a t] reallib.org)