"Грех" - читать интересную книгу автора (Козловский Евгений Антонович)
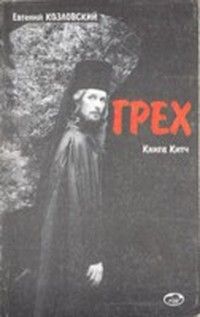 |
Е. А. Козловский ГРЕХ История страсти
 |
Когда в июле целую неделю то и дело идут дожди, среднероссийские луга приобретают такой вот глубокий, влажный, насыщенный зеленый тон, не столько нарушаемый, сколько подчеркиваемый фрагментами теплого серого неба, отраженного в лужицах, колеях, канавках, в проплешинах мокрой рыжей глины.
Если сделать волевое усилие и исключить из поля зрения как специально уродующую пейзаж высоковольтную линию, недобрые семь десятков лет разрушаемый и только год какой-то другой назад возвращенный правопреемникам прежних хозяев для восстановления и жизни древней постройки монастырь выглядит — вымокший, издалека — почти как в старые времена, — тем эффектнее появление на этом пространстве новенького, сверкающего, словно с рекламного календаря «Рэйндж-ровера» с желтыми заграничными номерами, который, покачиваясь и переваливаясь, движется к влажно-белым коренастым стенам по плавному рельефу луга без дороги, напрямик.
«Рэйндж-ровер» набит аппаратурою и молодым пестро одетым иноземным народом, взрыв хохота которого обрывает, свесившись с огороженной никелированными поручнями крыши почти в акробатическом трюке белобрысая долговязая девица с микрофоном в той руке, которою не уцепилась в оградку:
— Э! Я все-таки пишу!
— Остановимся? — флегматично спрашивает флегматичный водитель, потягивая из банки безалкогольное пиво.
— Так эффектнее, — возражает белобрысая, — только помолчите, — все это по-немецки.
Помолчать обитателям «Рэйндж-ровера» трудно: они предпочитают чуть снизить тон и закрыть окна. Впрочем, девицу это, кажется, устраивает: она ловко возвращается в относительно надежное положение на крыше, кивает толстенькому бородачу с телекамерою, тот направляет объектив на монастырь.
Загорается красная съемочная лампочка; девица, выждав секунду-другую, сообщает микрофону, что они приближаются к одному из недавно возвращенных властями Церкви женских монастырей, за чьими стенами по ее, девицы, сведениям живет сейчас под именем инокини Ксении и, как говорят в России, спасает душу (два слова по-русски) героиня прошлогоднего нашумевшего гамбургского процесса, обвиненная…
Опасаясь, что девица расскажет слишком много в ущерб занимательности повествования, перенесемся на монастырскую колокольню: держась напряженной рукою за толстую, влажную веревку, смотрит на луг, на букашку-«Рэйндж-ровер» двадцати-, примерно, -летняя монахиня, чью вполне уже созревшую, глубокую, темную красоту, не нуждающуюся в макияже, оттеняют крылья платка-апостольника. Смотрит, не в силах сдержать чуть заметную, странную, пренебрежительную, что ли, улыбкую
«Рэйндж-ровер» останавливается тем временем у монастырских ворот, компания высыпает из него, белобрысая девица, ловко спрыгнув с крыши, стучит в калитку. Та приоткрывается на щелочку, являя привратницу: тощую, злую, каких и только каких в одной России можно, наверное, встретить на подобном посту. Привратница некоторое время слушает иноязыкий, с ломано-русскими включениями, щебет.
— Нету начальства! — роняет и калитку захлопывает, чуть нос белобрысой не прищемив.
— Дитрих, материалы! — распоряжается та, и Дитрих лезет в машину, вытаскивает кипу журнальных цветных страниц, отксеренных газетных полос, фотографий.
Белобрысая принимает бумажный ворох, перебирает его, задерживаясь на мгновенье то на одном снимке, то на другом: давешняя монахиня — а она все стоит на колокольне, поглядывает вниз и улыбается — в эффектной цивильной одежде за огородочкою в судебном зале (двое стражей по сторонам); окруженная журналистами, словно кинозвезда какая, спускается по ступеням внушительного здания — надо полагать, Дворца Правосудия.
Флегматичный водитель, понаблюдав за напрасными стараниями совершенно обескураженных, не привыкших в России к подобному отношению товарищей проникнуть в обитель, столь же флегматично, как пиво пил прежде, нажимает на кнопку сигнала, а потом щелкает и клавишею, врубающей сирену.
— Ты чего?! — пугается белобрысая.
— Нормально, — говорит ли, показывает ли лапидарным, выразительным жестом тот.
А монахиня на колокольне, справясь с часиками, ударяет в колокола. Получившаяся какофония явно забавляет ее: высунулись кто из какой двери, кто из окошка сестры, привратница, словно борзая, бежит к келейному корпусу; навстречу, спортсменка-спортсменкою, мчится мать-настоятельница, отдавая на ходу распоряжения.
Калитка снова приотворяется. Мать-настоятельница, дама сравнительно молодая, чью комсомольско-плакатную внешность камуфлирует от невнимательного взгляда монашеское одеяние, не столько ни бельмеса не понимает в многоголосии с той стороны ограды, сколько не желает понимать, не желает смотреть и на просунутые в щель белобрысой репортершею вырезки. Особенно раздражает монахиню уставившийся на нее телеглаз.
— Минутку, господа! Айн момент! — а сама косится на колокольню, с которой несется все более веселый перезвон.
Наконец, привратница почти за руку тащит юную, тонкую монашку, которая, выслушав данную на ухо настоятельницею инструкцию, на чистейшем берлинском диалекте говорит, что господа, к сожалению, ошиблись, что никакой сестры Ксении в их обители нету и не было и даже никакой сестры с другим именем, похожей на фотографические изображения, и что, к сожалению, монастырь не может сейчас принять дорогих гостей.
Немцы переглядываются, шепчутся, собираются, кажется, предпринять еще одну атаку, но привратница уже закладывает калитку тяжелыми, бесспорными засовами, а мать-настоятельница, не заметив вопроса-упрека в глазах юной сестры-переводчицы, направляется к кельям.
А инокиня Ксения знай себе бьет в колокола и небрежным взглядом провожает удаляющийся, уменьшающийся «Рэйндж-ровер», покуда тот не превращается в божью коровку, вполне уместную на лугу, даже на столь древнем.
Прежде инокиню Ксению звали Нинкой — не Ниною даже — ибо была она довольно дурного тона девочкой из Текстильщиков, собою, впрочем, хорошенькой настолько, что мутно-меланхолический глаз чернявого мальчика — из тех, кто ошивается на рынках, возле коммерческих, на задах комиссионок — вспыхнул, едва огромное парикмахерское зеркало, отражавшее его самого в кресле, покрытого пеньюаром, и мастерицу с болтающимися в вырезе бледно-голубого халатика грудями, наносящую феном последние штрихи модной укладки, включило в свое поле гибкую фигурку, возникшую в зале с совком и метелочкою — прибрать настриженные за полчаса волосы.
Мастерица ревниво заметила оживление взгляда клиента, прикрыла халатный распах.
— Не вертись! — прикрикнула, хоть мальчик вовсе и не вертелся, — испорчу!
— Кто такая?
— Ни одной не пропустишь! Как тебя только хватает?!
— Кто такая, спрашиваю?
Мастерица поняла, что, пусть презрительно, а лучше все же ответить:
— Кажется, с завода пришла. Ученица. Пытается перейти в следующий класс.
Мальчик пошарил рукою под пеньюаром, вытащил и положил на столик, рядом с разноцветными импортными баночками и флаконами, двухсотрублевую и не попросил — приказал:
— Познакомь.
Нинка, подметая, поймала маслянистый взгляд, увидела зелененькую с Лениным.
— Нин! — как раз высунулась из-за парикмахерских кулис немолодая уборщица. — К телефону.
— А чо эт’ на вокзале? — спрашивала Нинка далекую, на том конце провода, подругу в служебном закутке с переполненными пепельницами, электрочайником, немытыми стаканами и блюдцами. — Ну, ты выискиваешь! Бабулька, конечно, ругаться будет.
С той стороны, надо думать, понеслись уговоры, которые Нинка прервала достаточно резко:
— Хватит! Я девушка честная. Сказала приду — значит все! — а в дверях стояли, наблюдая-слушая, восточный клиент и повисшая на нем давешняя мастерица с грудями.
— Ашотик, — жеманно, сахарным сиропом истекая, сказала мастерица, едва Нинка положила трубку, — приглашает нас с тобой поужинать.
— Этот, что ли, Ашотик? — не без вызова кивнула Нинка на чернявого. — А, может, не нас с тобой, а меня одну?
— Можно и одну, — стряхнул Ашотик с руки мастерицу.
— Только поужинать?
— Зачем только?! — возмутился клиент. — Совсем не только!
— А я не люблю черных, — выдала Нинка, выдержав паузу. — Терпеть не могу. Воняют, как ф-фавёныю
Хоть и не понял, кто такие таинственные эти фавёны, Ашотик помрачнел — глаза налились, зубы стиснулись — отбросил мастерицу, снова на нем висевшую, сделал к Нинке шаг и коротко, умело ударил по щеке, пробормотал что-то гортанное, вышел.
— Ф-фавён! — бросила Нинка вдогонку, закрыла глаза на минуточку, выдохнула глубоко-глубоко. И принялась набирать телефонный номер.
Мастерица, хоть и скрывала изо всех сил, была довольна:
— Ох, и дура же ты! Знаешь, сколько у него бабок?
— А я не проститутка, — отозвалась Нинка, не прерывая набора.
— А я, выходит, проститутка?
Нинка пожала плечами, и тут как раз ответили.
— Бабуля, солнышко! Ты не сердись, пожалуйста: я сегодня у Верки заночую.
Бабуля все-таки рассердилась: Нинка страдальчески слушала несколько секунд, потом сказала с обезоруживающей улыбкою:
— Ну бабу-у-ля! Я тебя умоляю! — и положила трубку.
— А ты, — дождалась мастерица момента оставить последнее слово за собой, — а ты, выходит — целочка!
Темно-сиреневая вечерняя площадь у трех вокзалов кишела народом. Нинка вынырнула из метро и остановилась, осматриваясь, выискивая подругу, а та уже махала рукою.
— Привет.
— Привет, — заглянула Нинка в тяжелый подругин пакет, полный материалом для скромного закусона: картошечка, зелень, яблоки, круг тощей колбасы. — И ты же их еще кормишь!
— По справедливости! — слегка обиделась страшненькая подруга. — Их выпивка — наша закуска. Водка знаешь сколько сейчас стоит?
— А что с меня? — хоть Нинкаи полезла в сумочку, а вопрос задала как-то с подвохом, и подруга подвох заметила, решила не рисковать:
— Даты чо?! Нисколько, нисколько, — и для подтверждения своих слов даже подпихнула нинкину руку с кошельком назад в сумочку.
— Понятненько.
— Только, Нинка, этою слышишь. Ты рыжего, ладно? Не трогай. Идет?! Ну, который в тельнике.
Нинка улыбнулась.
— А где ж женихи-то?
— За билетами пошли. Да вон, — кивнула подруга, а мы, не больно интересуясь тонкостями знакомства, подобных которому много уже повидали и в кино, и, главное, в жизни, отъедем, отдалимся, приподнимемся над толпою, успев только краем глаза заметить, как двое парней с бутылками в карманах, эдакая подмосковная лимит, работяги-демобилизованные, пробираются к нашим подругам и, постояв с полминуточки, рукопожатиями обменявшись, вливаются в движение человеческого водоворота, в тот его рукав, который, вихрясь, течет к широкому перрону, разрезаемому подходящими-отходящими частыми электричками пикового часа.
— В семнадцать часов двадцать четыре минут от шестой платформы отправится электропоезд до Загорска. Остановки: Москва-третья, Северянин, Мытищи, Пушкино, далее — по всем пунктам.
Пропустим, как все там у них происходило, ибо, проводив явившуюся на пороге сортира, слегка покачивающуюся Нинку полутемным, длиннючим, с обеих сторон дверьми обставленным коридором общаги, окажемся в комнате парней и легко, автоматически, безошибочно и уж, конечно, не без тошноты восстановим сюжет по мизансцене: на одной из кроватей, пыхтя и повизгивая, трудятся подруга и снявший тельник рыжий в тельнике, а приятель его, уткнув голову в объедки-опивки, спит за нечистым столом праведным сном Ноя.
Нинка пытается разбудить приятеля: сперва по-человечески и даже, что ли, с нежностью:
— Э! Слышь! Трахаться-то будем? Трахаться, спрашиваю, будем? Лапал, лапал, заводил, — но постепенно трезвея, злея, остервеняясь: — Ты! Ф-фавён! Пьянь подзаборная! Ты зачем меня сюда притащил, а?! — колотит по щекам, приподнимает за волосы и со стуком бросает голову жениха in status quo, получая в ответ одно мычание, — все это под аккомпанемент застенных магнитофонных шлягеров, кроватного скрипа, стонов, хрипов — и, наконец, отчаявшись, вздернутая, обиженная, хватает плащик, сумочку, распахивает дверь.
— Нин, куда?! — отвлекается от сладкого занятия подруга. — Чо, чокнулась? Времени-то! Ночевала б.
— Ага, — гостеприимно подтверждает рыжий в тельнике, на локтях приподнявшись над подругою. — Он к утру отойдет.
Но Нинка, не слушая — коридором, лестницею, мимо сонной вахтерши, - вон, на улицу, в неизвестный городок, и мчится на звук проходящего невдали поезда под редкими фонарями по грязи весенней российской, по лужам, матерится сквозь зубы, каблучки поцокивают, и в узком непроезжем проулке натыкается на расставившего страшно-игривые руки пьяного мордоворота.
Нинка осекается, поворачивает назад, спотыкается о кирпичную половинку, но, вместо того, чтобы, встав, бежать дальше, хватает ее, поднимает над головою:
— Пошел прочь — убью! Ф-фавён вонючий! — и мордоворот отступает, видит по глазам нинкиным, что и впрямь — убьет.
— Ёбнутая, — вертит пальцем у виска, когда Нинка скрывается за поворотом.
Ни мента, ни дежурного, пожилая только какая-то парочка нервно пританцовывает на краю платформы, ежесекундными взглядами в черноту торопя электричку. Нинка, вымазанная, замерзшая, сидит скрючившись, поджав ноги, сфокусировав глаза на бесконечность, на полуполоманной скамейке.
Электричка, предварив себя ослепительным светом прожектора, словно из преисподней вынырнув, является в реве, в скрежете, в скрипе. Нинка, не вдруг одолев ступор, едва успевает проскочить меж схлопывающимися дверьми, жадно выкуривает завалявшиеся в сумочке пол-сигареты, пуская дым через выбитое тамбурное окошко в холод, в ночь — и входит в вагон, устраивается, где поближе.
Колеса постукивают успокоительно. Вагон, колеблясь, баюкает.
В противоположном конце — длинновласый бородач уставился в окно: молодой, в черном, в странной какой-то на нинкин вкус шапочке: тюбетейке — не тюбетейке, беретике — не беретике.
Нинка бросает на попутчика один случайный ленивый взгляд, другой, третий. Лицо ее размораживается, глаз загорается. Нинка встает, распахивает плащик, решительно одолевает три десятка метров раскачивающегося заплеванного пола, прыскает по поводу рясы, спускающейся из-под цивильной курточки длинновласого, нагло усаживается прямо напротив и, не смутясь полуметровой длиной кожаной юбочки, не заботясь (или, наоборот, заботясь) о произведенном впечатлении, закидывает ногу на ногу.
Длинновласый недолго, равнодушно глядит на Нинку и отворачивается: не вспыхнул, не покраснел, не раздражился.
Второе за нынешний вечер пренебрежение женскими ее чарами распаляет Нинку, подталкивает к атаке:
— Вы поп, что ли? — спрашивает она совершенно ангельским голоском. — А я как раз креститься собралась. По телевизору всё уговаривают, уговаривают. Почти что уговорили.
— Иеромонах, — смиренно-равнодушно отвечает попутчик.
— Монах? — снова не может удержаться Нинка от хохотка. — Так вам чего, этою ну, это самое, запрещено, да? — и еще выше поддергивает юбочку. — А жалко. Такой хорошенький. Прям киноартист.
На правой руке, на безымянном пальце, там, где мужчины носят обыкновенно обручальные кольца, сидит у монаха большой старинный перстень: крупный, прозрачный камень, почти бесцветный, чуть разве фиолетовый, словно в стакан воды бросили крупицу марганцовки, удерживают почерневшие от времени серебряные лапки.
— А чего не смотрите? Соблазниться боитесь? Или вам и смотреть запрещено? — и Нинка забирается на скамейку с ногами, усаживается на спинку: несжатые коленки как раз напротив монахова лица.
Монах некоторое время глядит на коленки, на Нинку — столь же холодно, равнодушно, без укоризны, и тупит глаза долу.
— Бедненькие! — сочувственно качает Нинка головою. — А я, знаете, я уж-жасно люблю трахаться! Такой кайф! Главный кайф на свете. Мне б вот запретили б или там, не дай, конечно, Бог, болезнь какая — я бы и жить не стала. Мы ведь все как в тюрьме. А, когда кончаешь, словно небо размыкается, свет, и ни смерти нету, ни одиночества.
Монах бросает на Нинку мгновенный, странный какой-то взгляд: испуганный, что ли, — и потупляется снова.
— Слушайте! а вы что — вообще никогда не трахались? — то ли искренне, то ли очень на это похоже поражается Нинка. — А с ним у вас как? — кивает на неприличное место. — В порядке? Действует? Встает иногда? Ну, — хихикает Нинка, — по утрам, например. У меня один старичок был, лет под пятьдесят; так вот: вечером у него когда в станет, а когда и нет; зато по утрам — как из пушки! Или когда мяса наедитесь? А, может, и он тоже у вас — монах? И черную шапочку на головке носит? Ох уж я шапочку-то с него бы сняла!..
Глаз у Нинки разгорелся еще ярче, сама зарумянилась, похорошела донельзя.
Монах встал и пошел. А, вставая, уколол ее совершенно безумным взглядом, таким, впрочем, коротким, что Нинка даже засомневалась: не почудилось ли, — и таким яростным, страстным!
Она поглядела вслед монаху, скрывшемуся за тамбурной дверью, и отвернулась к окну, замерла: то ли взгляд-укол вспоминая-переживая, то ли раздумывая, не пуститься ль вдогон.
А за окном, по пустынному шоссе, виляющему рядом с рельсами, сверкая дальним и противотуманками, обгоняя поезд, неслась бежевая «девятка».
Электричка затормозила в очередной раз, открыла двери со змеиным шипом и впустила вываливших из «девятки» четверых: трезвых, серьезных, без-жа-лост-ных! Не ашотиков.
Нинка поджалась вся, но не она их, видать, интересовала: заглянув из тамбура и равнодушно мазнув по ней взглядами, парни скрылись в соседнем вагоне.
Нинка надумала-таки, встала, двинулась в противоположную сторону — туда, где исчез монах. Приподнялась на цыпочки и сквозь два, одно относительно другого покачивающихся торцевых окошечка увидела длинновласого, столь же смиренно и недвижно, как полчаса назад, до встречи с нею, сидящего на ближней скамье.
Нинке показалось, что, если войдет, снова спугнет монаха, потому так вот, на цыпочках, она и застыла: странную радость доставляло ей это созерцание исподтишка тонкого, аскетичного, и впрямь очень красивого лица.
Электричку раскачивало на стыках. Лязгала сталь переходных пластин. Холодный ветер гулял по тамбуру.
Зачарованная монахом, Нинкане обратила внимания, как, не найдя, чего искали, в передней половине поезда, парни из «девятки» шли через пустой нинкин вагон, и только, сжатая стальными клещами рук и, как неодушевленный предмет отставленная от переходной дверцы, вздрогнула, встревожилась, поняла: компания направляется к монаху.
Нинка, не раздумывая, бросилась на помощь, но дверцу глухо подпирал один из четверых, ат рое, слово-другое монаху только бросив, принялись бить его смертным боем.
Нинка колотила кулачками, ногами в скользкий, холодный металл, кричала бессмысленно-невразумительное вроде:
— Откройте! пустите! ф-фавёны вонючие! — но подпирающий сам мало чем отличался от подпираемого железа.
Нинка пустилась назад, пролетела вагон, следующий, увидела кнопку милицейского вызова, вдавила ее, что есть мочи, до крови почти под ногтями, но, очевидно, зря… Время уходило, и Нинка, не глянув даже на испуганную пожилую пару, с которою вместе ждала электричку, побежала до головного, оставляя за собою хлябающие от поездной раскачки двери, попыталась достучаться к машинистам…
Электричка безучастно неслась среди темных подмосковных перелесков, сквозь которые то и дело мелькали огни сопровождающей ее зловещей бежевой «девятки».
Нинка дернулась было назад — одному Богу зачем известно — но шестое какое-то чувство остановило ее, заставило на пол– гибкого –корпуса высунуться в тамбурное окошечко, на ту сторону, где змеились, поблескивали холодной полированной сталью встречные рельсы.
И точно: полуживое ли, мертвое тело монаха как раз выпихивали сквозь приразжатый дверной створ. Где уж там было услышать, но Нинке показалось, что она даже услышала глухой стук падения — словно осенью яблоко с яблони.
Нинка обмякла, привалилась к осклизлой пластиковой стене, тихо заплакала: от жалости ли, от бессилия. С грохотом, сверкнув прожектором, полетел встречный тяжелый товарняк, и Нинка ясно, словно в бреду, увидела вдруг, как крошат, в суповой набор перемалывают стальные его колеса тело бедного черного монашка. Нинку вывернуло.
Электричка притормаживала. Отворились двери. И уже схлопывались, как, импульсом непонятным, неожиданным брошенная, выскочила Нинка на платформу, увидела — глаз в глаз — отъезжающего на служебной площадке помощника машиниста, бросила ему, трусу сраному:
— Ф-фавён вонючий!
Мимо пошли, ускоряясь, горящие окна, и в одном из них мелькнули прижавшиеся к стеклу, ужасом искаженные лица пожилой пары. Нинка обернулась: метрах в ста от нее стояла та самая кучка парней.
За последним окном последнего вагона, уходящего в ночь, двое ментов играли в домино. Единственный фонарь, мотаясь на ветру, неверно освещал, скользящими тенями населял платформу, на которой в действительности кроме парней и Нинки не было теперь никого. Ни огонька не светилось и поблизости, только фары подкатившей «девятки».
Долгие-долгие секунды длилось жуткое противостояние. Потом один из парней двинулся к Нинке. Она оглянулась: куда бежать? — и поняла, что некуда: найдут, догонят, достанут.
Главный — так казалось на первый взгляд, во всяком случае, именно он говорил с монахом, прежде чем начать его бить, — окликнул того, кто пошел на Нинку:
— Санёк!
Санёк вопросительно приостановился.
— Линяем.
— Даты чо?! Да она же…
— Она тебе чо-нибудь сделала?
— Дак ведь…
— Вот и линяем!
Проворчав:
— Пробросаешься! — Санёк смирился, присоединился к остальным.
Двери «девятки» хлопнули, заработал мотор, свет фар мазнул по платформе и исчез, поглощенный тьмою.
Нинка стояла столбом, слушая не то шум удаляющейся машины, не то стук унимающегося постепенно сердечка. Неожиданно, с неожиданной же пронзительностью, вспомнился давешний монашков взгляд, и Нинка пошла к будке автомата.
Трубка давно и безнадежно была ампутирована, только поскрипывал по пластику, качаясь на сквозняке, обрубок шланга-провода. Оставалось давно погасшее кассовое оконце, забранное стальными прутьями.
Нинка приложилась к пыльному, липкому стеклу, разглядела на столике телефонный аппарат. Отыскала под ногами ржавую железяку, просунула меж прутьями, высаживая стекло, попыталась дотянуться до трубки, но только порезалась, да глубоко, больно, перемазалась кровью. Платком, здоровой руке помогая зубами, перевязалась кое-как, решительно спрыгнула с платформы, пошла вдоль путей — в полную уже черноту и глухоту.
— Монах! — принялась кричать, отойдя на полкилометра. — Монах! Ты живой?!
Ни электричкой, ни товарняком не тронутый, удачно, если можно сказать так в контексте, приземлившийся, монах лежал меж рельсами: на минутку продравшаяся сквозь тучи луна показала его Нинке: недвижного, с черным от крови лицом, с непристойно задранной рясою.
— Ты живой, слышишь? — присела Нинка на корточки. — Живой?
Монах не шевельнулся, не застонал. Нинка отпрянула: страшно! — но тут же и одолела себя, возвратилась. Не найдя, где застежки, разорвала ворот рясы, рубахи, запустила руку в распах: к груди, к сердцу…
— Ну вот и слава Богу! — выдохнула. — А кровь — ерунда. Вылечим. У меня бабулька!..
Вдали показался поезд. Нинка взяла монаха под мышки:
— Ты только потерпи, ладно?
Монах был тяжел, Нинка застряла с ним на рельсах, а поезд приближался, как бешеный. Испугавшись, что не успеет, Нинка потащила монаха назад, но тут и с другой стороны загрохотало. Молясь, чтоб не задело, Нинка бросила монаха, как успела, сама упала рядом, обняла-прикрыла, хоть надобности в этом вроде и не было.
Поезда встретились прямо над ними и неистовствовали в каких-то, казалось, миллиметрах от голов, тел.
Монахов глаз приоткрылся.
— Не надо милиции… — и закрылся снова.
Нинкане так разобрала в грохоте:
— Милицию? Да где ты этих фавёнов найдешь?!
— Не-на-до! — внятно проартикулировал монах и, словно нехитрые три эти слога отобрали у него последние силы, вырубился, кажется, надолго.
Поезда прошли. Нинка подхватила едва подъемную свою ношу, потащила через пути, через канаву, через лесок, проваливаясь в недотаявшие весенние сугробики, — к шоссе, усадила-привалила к дереву на обочине, сама вышла на асфальт, готовая голосовать, попыталась, сколько возможно, привести себя в порядок и даже охорошиться.
Показались быстрые фары. Нинка стала как можно зазывнее, подняла ручку. Машина проскочила было, но притормозила, поползла, виляя, назад, и Нинка увидела, что это — бежевая «девятка».
Вернулись!
Как ветром сдуло Нинку в кювет, а «девятка» остановилась, приоткрыла водительское стекло, храбрый плейбой — искатель приключений высунулся и повертел усатой головою:
— Эй, хорошенькая! Ну, где ты там?
Нинка не вдруг осознала ошибку, а, когда осознала и полезла из кювета, «девятка» показывала удаляющиеся хвостовые огни.
— Ф-фавён! — незнамо за что обложила Нинка плейбоя.
Побрякивая железками, протрясся из Москвы старенький грузовик. Снова появились быстрые фары. Снова Нинка подняла руку.
Черная «Волга» 3102 с круглой цифрой госномера стала рядом. Откормленный жлоб в рубахе с галстучком — пиджак на вешалке между дверей — уставился оценивающе-вопросительно.
— В Текстильщики! Во как надо! — черканула Нинка большим пальцем по горлу.
Жлоб подумал мгновенье и щелкнул открывальным рычажком:
— Садись.
— Я… — замялась Нинка. — Я не одна, — и кивнула в сторону дерева, монаха.
Жлоб отследил взгляд, снова щелкнул рычажком — теперь вниз, врубил передачу.
Нинка вылетела на дорогу, выросла перед капотом, раскинув руки.
— Не пущу! — заорала.
Жлоб отъехал назад, снова врубил переднюю и, набычась, попытался с ходу объехать Нинку. Но та оказалась ловче, жлоб едва успел ударить по тормозам, чтоб не стать смертоубийцею.
— Ф-фавён! — сказала Нинка. — Человеку плохо. Ну — помрет? Номер-то твой я запомнила!
— Помрет!.. — злобно передразнил жлоб сквозь зубы. — Нажрутся, а потом… — и, обойдя машину, открыл багажник, достал кусок брезента, бросил на велюровое заднее сиденье. — Две сотни, не меньше!
— Где я тебе эти сотни возьму?! — буквально взорвалась Нинка и вспомнила с тошнотою, как выкладывал Ашотик зеленую бумажку на столик в парикмахерской. — Помоги лучше…
— Это что ж, за так?
— Вот! — дернула Нинка на себе кофту, так что пуговицы посыпались, вывалила крепкие, молодые груди. — Вот! Вот! — приподняла юбку, разодрала, сбросила трусики. — Годится? Нормально?! Стоит двух сотен?
Глазки у жлоба загорелись. Он потянулся к Нинке.
— П’шел вон! — запахнула она плащ. — Поехали. Отвезешь — там…
Они катили уже по Москве. Нинка держала голову бесчувственного монаха на коленях, нежно гладила шелковистые волосы.
— Слушай, — сказала вдруг жлобу, поймав в зеркальце сальный его взгляд. — А вот какой тебе кайф, какой интерес? Я ведь не по желанию буду… Или ты, с твоей будкой, по желанию и не пробовал никогда?
— Динамо крутануть собралась? — обеспокоился жлоб настолько, что даже будку пропустил. — Я тебе так прокручу!
— Никак ты мне не прокрутишь, — презрительно отозвалась Нинка. — Да ты не бзди: я девушка честная. Сказала — значит все.
Жлоб надулся, спросил:
— Прямо?
— Прямо-прямо, — ответила Нинка. — Если куда свернуть надо будет — тебе скажут…
Поворот, другой, третий, и «Волга» остановилась у подъезда старенькой панельной девятиэтажки.
— Как предпочитаешь? — спросила Нинка жлоба. — Натурально или… — и нагло, зазывно обвела губы остреньким язычком.
— Или, — закраснелся вдруг, потупился жлоб и в меру способностей попытался повторить нинкину мимическую игру.
— Пошли.
Нинка осторожненько, любовно переложила голову монаха на брезент, выскользнула из машины. Жлоб уже стоял у парадного, держался, поджидая, за дверную ручку.
— Вот еще, — бросила. — Всяких ф-фавёнов в свой подъезд водить! После вонять будет. Становись, — и подпихнула жлобак стенке, в угол, сама опустилась перед ним на колени.
Монах приподнялся со стоном на локте, взглянул в окно, увидел Нинку на коленях перед водителем…
Нинка снова как почувствовала, обернулась, но толком не успела ничего разглядеть, понять: пыхтящий жлоб огромной, белой, словно у мертвеца, ладонью вернул ее голову на место.
Монах закрыл глаза, рухнул на сиденье.
Как бешеная, загрохотала у него в ушах электричка, из темноты выступило, нависло лицо с холодными, пустыми, безжалостными глазами.
— Посчитаемся, отец Сергуня? — произнесло лицо. — Ты все-таки в школе по математике гений был, в университете учился. Шесть человек — так? Трое — по восемь лет. Двое — по семь. И пять — последний. Итого? Ну? Я тебя, падла, спрашиваю! Повторить задачку? Трое — по восемь, двое — по семь, один — пять. Сколько получается?
— Сорок три, — ответил отец Сергуня не без вызова, самому себе стараясь не показать, как ему страшно.
— Хорошо считаешь, — похвалило лицо. — Если пенсию и детский сад отбросить, получается как раз — жизнь. Но один — вообще не вернулся. Так что — две жизни.
И короткий замах кулака…
…от которого спасла монаха Нинка, пытающаяся привести его в себя, вытащить из «Волги»: водитель нетерпеливо переминался рядом и, само собой, помогать не собирался.
— Ну, вставай, слышишь, монах! Ну ты чо — совсем идти не можешь? Я ведь тебя не дотащу! Ну, монах!
Он взял себя в руки: встал, но покачнулся, оперся на Нинку.
— Видишь, как хорошо…
А жлоб давил уже на газ, с брезгливой миною покидая грязное это место.
Когда в лифте настала передышка, монах вдруг увидел Нинку: расхристанную, почти голую под незастегнутым плащиком, и попытался отвести глаза, но не сумел, запунцовелся густо, заставил покраснеть, запахнуться и ее.
Переглядка длилась мгновение, но стоила дорогого.
— Ты не волнуйся, — затараторила Нинка, скрывая смущение, — мы с бабулькой живем. Она у меня… Она врач, она знаешь какая! Тебе, можно сказать, повезло…
Утреннее весеннее солнце яростно било в окно.
Монах спал на высокой кровати, пока тонкий лучик не коснулся его век. Монах открыл глаза, медленно осмотрелся. Чувствовалось, что ему больно, но, кажется, не чересчур.
Над ванною, на лесках сушилки, висела выстиранная монахова одежда. Нинка замерла на мгновенье, оценивая проделанное над собственным лицом, чуть прищурилась и нанесла последний штрих макияжа. Бросила кисточку на стеклянную подзеркальную полку, глянула еще раз и, пустив горячую воду, решительно намылилась, смыла весь грим.
В комнате неожиданно много было книг. На телевизоре стояла рамка, заключающая фотографию мужчины и женщины лет тридцати, перед фотографией — четыре искусственные гвоздики в вазочке прессованного хрусталя. Кровать в углу аккуратно убрана, посреди комнаты — раскладушка со скомканным постельным бельем.
Нинка тихонько, на цыпочках, приотворила дверь в смежную комнату, потянулась к шкафу. Солнце просвечивало розовую полупрозрачную пижамку, и та не могла скрыть, а только подчеркивала соблазнительность нинкиной наготы. Монах снова, как давеча в лифте, краснел, но снова не мог оторвать глаз. Нинка почувствовала.
— Ой, вы не спите! Извините, мне платье, — и, схватив платье, смущенно исчезла за дверью.
Монах отвернулся к стенке.
— Можно? — постучала Нинка и, пропустив вперед себя сервировочный столик с завтраком и дымящимся в джезве кофе, вошла, одетая в яркое, светлое, короткое платьице. — С добрым утром. Как себя чувствуете? Бабулька сказала — вы в рубашке родились. Но денька два перележать придется. У нас тут рыли — кабель разрубили, но, если куда позвонить — вы скажите — я сбегаю, — тараторила, избегая на монаха глядеть.
— Спасибо, — ответил он.
— Ну, давайте, — подкатила Нинка столик к постели, помогла монаху сесть, подложила под спину подушки, подала пару таблеток, воды.
Монаха обжигали прикосновения нинкиных рук, и он собрался, сосредоточился, анализируя собственные ощущения.
— Вы простите меня, — тихо проронила Нинка. — Просто я вчера злая была.
Монах поглядел на Нинку, медленно протянул руку — для благословения, что ли — но не благословил, а, сам себе, кажется, дивясь, робко погладил ее волосы, лицо:
— Спасибо.
— Ладно, — снова смутилась Нинка и решительно встала. — Завтракайте. Мне в магазин, прибраться… И спите. Бабулька сказала — вам надо много спать.
Монах прожевал ломтик хлеба, глотнул кофе, откинулся на подушки…
…Дверь дачной мансарды, забаррикадированная подручным хламом, под каждым очередным ударом подавалась все более. Голая девица в углу смотрела за этим с ужасом. Ртутный фонарь со столба, сам по себе и отражаясь от снега, лупил мертвенным голубым светом сквозь огромное, мелко переплетенное окно.
Дверь, наконец, рухнула. Трое парней повалились вместе с нею в мансарду: один — незнакомый нам, другой — тот самый, что задавал монаху в электричке арифметическую задачку, только моложе лет на шесть, третий — сам Сергей.
Поднявшись, Арифметик пошел на девицу. Та присела, прикрыла локтями груди, кистями — лицо, завизжала пронзительно.
Пьяный Сергей пытался удержать Арифметика, хватал его за рукав:
— Оставь! Ну, оставь ты ее, ради Бога! Мало тебе там? — но тот только отмахнулся, сбросил сергееву руку.
Когда между Арифметиком и девицею осталось шага три, она распрямилась, разбежалась и, ломая телом раму, дробя стекло, ласточкою, как с вышки в бассейне, вылетела через окно вниз, на участок, в огромный сугроб.
Даже Арифметик оторопел, но увидев, что девица благополучно выкарабкивается из снега, успокоился, перехватил на лестнице Сергея, собравшегося было бежать на улицу:
— Спокойно, Сергуня, спокойно! — взял протянутый кем-то снизу, из комнаты, стакан водки, почти насильно влил ее в сергееву глотку. — Куда она на х… денется? Нагишом! Сама приползет, блядь, прощенья просить будет. Ты главное, Сергуня, не бзди…
Вернувшись из магазина или куда она там ходила, Нинка тихо, снова на цыпочках, приотворила монахову дверь. Монах лежал с закрытыми глазами. Нинка подошла, опустилась на колени возле кровати, долгим, нежным, влюбленным, подробным взглядом ощупала аскетическое лицо. Произнесла шепотом:
— Ты ведь спишь, правда? Можно, я тебя поцелую, покаты спишь? Ты ведь во сне за себя не ответчик, а если Богу твоему надо, пусть он тебя разбудит. Я ж перед Ним не виновата, что влюбилась, как дура! — и Нинка потянулась к подушкам, осторожно поцеловала монаха в скулу над бородою, в другую, в сомкнутые веки, в губы, наконец, которые дрогнули вдруг, напряглись, приоткрылись. Не то, что бы ответили, ною — Я развратная, да? Наверное, я страшно развратная, и, если Бог твой и впрямь есть, — шептала жарко, — в аду гореть буду. Но ведь рая-то Он все равно на всех не напасется, надо ж кому-нибудь и в аду, - а сама запустила уже руку под одеяло, ласкала монахово тело, и он, напряженный весь, как струна, лежал, вздрагивая от нинкиных прикосновений. — А за себя ты не бойся, ты в рай попадешь, в рай, потому что спишь…
Нинка раскрыла его рубаху, целовала грудь, и он так закусил губу, что капелька крови потекла, спряталась в русой бородке.
— Господи! как хорошо! Это ж надо дуре было влюбиться! Господи, как хорошо! — и тут судорога прошла по монахову телу, и он заплакал вдруг, зарыдал, затрясся:
— Уйдите! Уйдите, пожалуйста!
Нинка отскочила в испуге, в оторопи, платье поправила.
— Ну чего вы! — сказала. — Чего я вам такого сделала?! — но монах не слышал: его била истерика.
— Ты дьяволица! — кричал он. — Ты развратная сука! Ты!.. ты!..
И тут нинкин взгляд похолодел.
— Ф-фавён! — бросила она и, хлопнув дверью, выскочила из комнаты, из дому…
…а вернулась, когда уже вечерело: вывалилась из распухшего пикового автобуса, оберегая охапку бледно-желтых крупных нарциссов, нырнула во двор, ускорила шаг, еще ускорила. По лицу ее видно было, что боится опоздать.
Лифт. Дверь. В квартире тихо. Света не зажигая, не снимая плащика, разувшись только, чтоб не стучать, покралась с белеющей в полутьме охапкою в свою комнату.
— Прости меня, — шепнула, вывалила цветы на коврик перед кроватью и тут только не увидела даже — почувствовала, что монаха нету.
Зажгла свет здесь, там, на кухне. Заглянула и в ванную. Сушильные лески были праздны. Заметила записку, придавленную к столу монаховым перстнем: храни вас Господь.
Нинка прочитала три эти слова несколько раз, ничего не понимая, перевернула, перевернула еще и заплакала.
В дверях стояла вернувшаяся с работы бабулька, печально смотрела на внучку.
Нинка оглянулась:
— Он ни адрес а не оставил, ничего. Я ведь даже как звать его не спросила…
Лампада помигивала перед иконою, но монах не молился: положив подбородок на опертые о столешницу, домиком, руки, глядел сквозь окно в пустоту. Вокруг было темно, тихо. Далеко-далеко стучал поезд.
Монах встал и вышел из кельи. Миновал долгий коридор, спустился лестницею, выбрался во двор. На фоне темно-серого неба смутно чернелись купола соборов. В старом корпусе светилось два разрозненных окна. Монах подошел к одному, привстал на цыпочках: изможденный старик застыл на коленях перед иконою.
Монах вошел, зашагал под древними белеными сводами, редко отмеченными зарешеченными, как в тюрьме, лампочками, остановился возле двери, из-под которой сочился слабый, желтый свет. Постоял в нерешительности, робко постучал, но тут же повернулся и побежал прочь, как безумный.
Дверь приотворилась. Старик выглянул и успел только заметить, как мелькнул на изломе коридорного колена ветром движения возмущенный край черной рясы…
Толпа вынесла Нинку из вагона метро на ее станции и по тащила к выходу.
Нинка спиною почувствовала пристальный взгляд, обернулась и меж покачивающихся в ритме шага голов увидела на противоположной платформе монаха в цивильном, ошибиться она не могла. И в том еще не могла ошибиться, что монах здесь ради нее, ее поджидает, высматривает.
Нинка двинулась встречь народу, что было непросто; монах, перегораживаемый составляющими толпы, то и дело исчезал из поля зрения. Нинка даже, привстав на цыпочки, попыталась подать рукою знак.
Вот уже два-три человека всего их разделяли, и монах смотрел на Нинку жадно и трепетно, как подошел поезд и в последнее мгновенье монах прыгнул в вагон, отгородился пневматическими дверями.
— Монах! Монах! — закричала Нинка, в стекло застучала, в сталь корпуса, но поезд сорвался с места, унес в черный тоннель ее возлюбленного…
Все было странно, не из той жизни, в которой Нинка всю жизнь жила: долгополые семинаристы, хохоча, перебегали двор, старушки с узелками переваливались квочками, важные монахи в высоких клобуках, в тонкой ткани эффектно развевающихся мантиях шествовали семо и овамо, высокомерно огибая кучки иноземцев, глазеющих, задрав головы, на синие и золоченые купола.
Но и Нинка была странной: скромница, вся в темном, никак не туристка здесь — скорее, паломница.
Юный мальчик в простой ряске, десяток волосков вместо бороды, шел мимо, и Нинка остановила:
— Слушай!.. Ой, простите… А ты… вы… вы — монах?
— Послушник, — с плохо скрытой гордостью ответил мальчик.
— А как вот эта вот… — показала Нинка на мальчикову шапочку, — как называется?
— Скуфья, — сказал мальчик. — Вы только это хотели узнать?
— Да. Нет! Где у вас… где живут монахи?
— Кого-нибудь конкретно ищете?
— Н-нет… просто хотела…
— Вон, видите: ворота, стена, проходная?.. Вон там. Извините, — и мальчик пошел дальше, побежал…
Нинка направилась к проходной. Молодой дебил стоял рядом с дверцею, крестился, как заводной, бормотал, и тонкая нитка слюны, беря начало из угла его губ, напрягалась, пружинила под ветерком; женщины с сумками, с рюкзаками, с посылочными ящиками — гостинички братьям и сыновьям — молча, торжественно сидели неподалеку на скамейке, ожидая приема; за застекленным оконцем смутно виднелось лицо вахтера…
Ворота отворились: два мужика в нечистых телогрейках выкатили на тележке автомобильный мотор, — и Нинка сквозь створ углядела, как высыпали монахи из трапезной. Пристроилась, чтоб видеть — ее монашка, кажется, не было среди них; впрочем, наверняка ли? — в минуту рассыпались они, рассеялись, разошлись по двору, два рослых красавца только остались в скверике, театрально кормя голубей с рук.
Нинка вошла в проходную, спросила у сухорукого, в мирское одетого вахтера:
— Что? Туда нельзя?
— А вы по какому делу?
— Ищу одного… монаха. Он… — и замялась.
— Как его звать? — помог вахтер.
— Не знаю, — ответила Нинка.
— В каком чине?
— Не знаю. Кажется… нет, не знаю!
Вахтер развел здоровой рукою.
— Я понимаю, — сказала Нинка. — Извините, — и совсем было ушла, как ее осенило. — Он… он… неделю назад его… побили… Сильно.
— А-а… — понял вахтер, о ком речь. — Агафан! Сейчас мы ему позвоним.
— Как вы сказали? Как его звать?
— Отец Агафангел.
Телефон не отвечал.
— Сейчас, — сказал сухорукий, снова взявшись за диск. — Вы там подождите, — и кивнул за проходную.
Нинкапокорно вышла, прошептала:
— А-га-фан-гелю Отец! — и прыснула так громко и весело, что красавцы, продолжающие кормить голубей, оба разом оглянулись на хохоток.
Вахтер приоткрыл окошко:
— Он сегодня в соборе служит.
— Где? — не поняла Нинка.
— В соборе, — кивнул сухорукий на громаду Троицкого.
В церкви она оказалась впервые в жизни. Неделю тосковавшая по монаху, казнившаяся виною, час проведшая в лавре, Нинка вполне готова была поддаться таинственному обаянию храмовой обстановки: пенье, свечи, черные лики в золоте фонов и окладов, полутьма… Долго простояла на пороге, давая привыкнуть и глазам, и заколотившемуся сверх меры сердечку. Потом шагнулав глубину.
В боковом приделе иеромонах Агафангел отпевал высохшую старушку в черном, овеваемую синим дымом дьяконова кадила, окруженную несколькими похожими старушками. Нинка даже не вдруг поверила себе, что это — ее монашек: таким недоступно возвышенным казался он в парчовом одеянии.
Она отступила во тьму, но Агафангел уже ее заметил и, о ужас! — в самый момент произнесения заупокойной молитвы не сумел отогнать кощунственное видение: нинкина голова, поворачиваемая трупно-белой, огромной ладонью жлоба-шофера.
Нинка на цыпочках подошла к женщине, торгующей за загородкою свечами, иконами, книгами, шепнула:
— Сколько будет еще… ну, это?.. — и кивнула в сторону гроба.
— Служба? — спросила женщина.
— Во-во, служба.
— Часа два.
— Так до-олго?! А какая у вас книжка самая… священная? Эта, да? — ткнула пальчиком в нетолстое черное Евангелие, полезла в сумочку за деньгами. — А этот вот, поп, он через какие двери выходит?..
Жизнь бурлила перед стенами лавры: фарцовая, торговая, валютная: «Жигули», «Волги», иномарки, простые и интуристовские автобусы, фотоаппараты и видеокамеры, неимоверное количество расписных яичек всех размеров, до страусиного, ложки, матрешки, картинки с куполами и крестами, оловянные и алюминиевые распятия, книги, газеты… И много-много ашотиков…
Нинка с Евангелием под мышкою жадно, словно три дня голодала, ела у ступенек старого троллейбуса, превращенного в кооперативную забегаловку, пирожки, запивая пепси из горлышка, и видно по ней было, что, подобно альпинистке, спустившейся с высокой горы, дышит она не надышится воздухом: может, и вонючим, нечистым, но, во всяком случае, не разреженным, нормальной, привычной плотности.
Шофер стал на подножку полузаполненного ПАЗика:
— Ну?! Кто еще до Москвы? Пятерка с носа! Есть желающие?
Какие-то желающие оказались, и Нинка тоже встрепенулась, двинулась было к автобусу, но затормозила на полпути…
…Сторож запирал парадные двери собора. Агафангел разоблачился уже, но все не решался выйти из церкви, мялся в дверях. Старушку даже убирающую подозвал, собрался пустить на разведку, но устыдился, перекрестил, отправил с Богом.
И точно: в лиловом настое вечера, почти слившаяся темным своим платьем с черным древесным стволом, поджидала Нинка.
— Здравствуйте, — сказала пересохшими вдруг связками.
— Здравствуйте, — остановился наполноге монах.
— А вы что, и впрямь — Агафангел? Непривычно очень. Вы и в паспорте так?
— Н-нет… в паспорте — по-другому. Сергей.
— А я — Нина, — и Нинка подала ладошку лодочкой. — Познакомились, значит.
Монах коротко пожал ладошку и отдернул руку. Мимо прошли двое долгополых, недлинно, но цепко посмотрели на парочку.
— У вас, наверное, неприятности будут, что я прям сюда заявилась?
— Не будут. А что вы, Нина, собственно, хотели? — изо всех сил охлаждал, бюрократизировал монах свой тон.
— Прощения попросить… — прошептала Нинка жарко. — И вот, вы забыли… — вынула из кошелька перстень.
Монах отклонил ее руку:
— Оставьте. Мне его все равно носить больше нельзя.
— Нельзя?
— Это аметист, — покраснел вдруг монах. — Символ девственности. Целомудрия.
— А!.. — прошептала-пропела Нинка. — Так вы и вправду — ни с кем никогда?
Монах сквозь землю готов был провалиться от неловкости.
— Так у нас же с вами все равно ничего не было, — снова протянула Нинка перстень.
— Нет, — покачал головою Агафангел. — Не не было.
Еще кто-то прошел в черном, оглянулся на них.
— Все-таки я ужасная дура, — сказала Нинка. — Вы здесь так все на виду!
— Неужели вы думаете, Нина, что мне важно хоть чье-нибудь о себе мнение, кроме собственного? И потом — тут у нас не тюрьма. Я мог бы выйти отсюда, когда захотел…
— Поняла, — ответила Нинка. — Я не буду к вам приставать больше. Никогда, — и быстро, склонив голову, пошла к воротам.
— Нина! — окликнул, догнал ее монах. — Господи, Нина!
Неизвестно откуда, тьмою рожденный, возник старик, тогда, ночью, молившийся в келье:
— Считай себя хуже демонов, отец Агафангел, ибо демоны нас побеждают… — сказал и растворился, как возник.
— Старец, — шепнул Сергей после паузы. — Мой духовник. Я должен ему исповедоваться.
— Ты что?! — ужаснулась Нинка совершенно изменившимся вдруг, заговорщицким, девчоночьим тоном. — Ты все ему рассказал… про нас?
— Как я ему расскажу такое?! Никому, никому не могу! — в лад, по-мальчишечьи, ответил Сергей.
— А мне? — спросила Нинка и посмотрела ясными невинными глазами. — А я, знаешь, я бабульке все-все рассказываю. У меня родители погибли — мне шести не было. Нефть качали в Африкею
Зазвонили колокола.
— К молитве, — пояснил Сергей.
— Иди, — отозвалась Нинка.
— Нет! Я буду тебе исповедоваться, — и, схватив за руку, монах повлек, потащил ее по тропке к собору, к задней дверце.
— Не надо! — пыталась вырваться Нинка. — Не надо туда! Вообще — не надо!
— Почему не надо? — задыхался Сергей и отпирал замок извлеченным из-под рясы ключом. — Почему не надо?! Мы ж — исповедоваться!.. — и почти силою втолкнул Нинку внутрь, заложил дверь засовом.
Нинка притихла, шепнула в ужасе:
— А если войдет кто?
— До утра — вряд ли. А и войдет — что с того?..
Гулкие их шаги звенели, усиливаемые, размножаемые куполами-резонаторами. Уличный свет пробивался едва-едва, изломанными полосами. Сергей зажигал свечу.
— Ой, что это?! — Нинка наткнулась на дерево и поняла вдруг сама: — Покойница.
— Ну и ладно, — отвел ее от гроба Сергей. — Что ж, что покойница? Ты что, мертвых боишься? — и усадил на ковер, на ступени какие-то, сам опустился рядом.
Потянулась тишина, оттеняемая колоколами. Сергей гладил нинкину руку.
— Ну, — вымолвила Нинка наконец.
— Что? — не сразу отозвался Сергей.
— Ты ж хотел исповедоваться.
Сергей сдавленно хмыкнул — Нинке почудилась, что зарыдал, но нет: засмеялся.
— Что с тобою, Сережа? Что с тобой?!
— Как я могу тебе исповедоваться, — буквально захлебывался монах от хохота, — когда ты и есть мой грех! Ты! Ты!! Ты!!!
— Нет! — закричала Нинка. — Я не грех! Я просто влюбилась! Не трогай меня! Не трогай!
— Ну почему, почему? — бормотал Сергей, опрокидывая Нинку, роясь в ее одеждах.
— Здесь церковь! Ты себе не простишь!
— Я себе уже столько простил…
Беда была в том, что, хоть она точно знала, что нельзя, Нинке тоже хотелось — поэтому искреннее ее сопротивление оказалось все-таки недостаточным. Все закончилось быстро, в одно мгновение, но и Нинке, и монаху его оказалось довольно, чтобы, как лампочным нитям, на которые синхронно подали перенапряжение, раскалиться, расплавиться и испариться, сгореть…
Они лежали, обессиленные, опустошенные, а эхо, казалось, еще повторяло нечеловеческие крики, а свечка, догорая, выхватывала предсмертно из темноты суровый лик.
— Не бойся, — обреченно произнес монах, когда пламя погасло совсем. — Я не буду плакать. Не буду кричать на тебя. Просто я ничего не знал о человеке. Ничего не знал о себе. Если это возможно, ты уходи сейчас, ладно? Зажечь тебе свет?
— Не стоит, — отозвалась Нинка. — Я привыкла, я уже вижу, — и встала; неловко, некрасиво принялась приводить в порядок одежду. — Мы что, не встретимся больше?
— Я напишу тебе. На Главпочтамт, ладно?
— Ладно.
— Извини…
— Бог простит, — незнамо откуда подхваченное, изверглось из Нинки.
Она отложила засов, вышла на улицу, постояла, стараясь не заплакать. Вернулась вдруг к собору, распахнула дверцу, крикнула в гулкую темноту:
— Ты же не знаешь моей фамилии! Как ты напишешь?! — и побежала прочь.
Всю следующую неделю Нинка мучилась, страдала, переживала примерно так:
…паранойяльно накручивая нанаманикюренный пальчик дешевую цепочку с дешевым крестиком, читала Евангелие, отрываясь от него время от времени то ли для осмысления, то ли для мечтаний…
…назюзюкавшись и нарыдавшись со страшненькой Веркою, глядела, как та гадает ей засаленными картами и все спорила, настаивала, что она не пиковая дама, а вовсе даже бубновая…
…выходя из метро, оглядывалась с надеждою увидеть в толпе лицо монашка…
…бегала даже на Главпочтамт, становилась в очередь к окошку под литерою «Н», спрашивала, нет ли письма просто на Нину…
…сама тоже, черновики марая, писала монаху письмо и ограничилась в конце концов простой открыткою с одним своим адресом…
…лежа в постели, вертела в руках монахов перстень и вдруг, разозлясь, швырнула его о стену так, что аметист полетел в одну сторону, оправа в другую, и зарыдала в подушку…
…а назавтра ползала-искала, сдавала в починку, —
все это в смазанных координатах времени, с большими провалами, про которые и вспомнить не могла, что делала, словом, как говорят в кино: в наплыв, — пока, наконец, снова не оказалась у монастырской проходной…
Листья уже прираспустились, но еще не потеряли первоначальной, клейкой свежести. Монахи, которых она останавливала, отвечали нанинкины вопросы «не знаю» или «извините, спешу», и все это было похоже на сговор.
Наблюдали за Нинкою двое: Арифметик, поплевывающий в тени лаврских ворот, и сухорукий страж, который, выждав в потоке монахов относительное затишье, украдкою стукнул в окно, привлекая нинкино внимание.
— Уехал, — сказал, когда она подошла.
— Куда?
Страж пожал здоровым плечом, но версию высказал:
— К матери, наверное, на каникулы. Они все раз в год ездют.
— А где у него мать?
Тут не оказалось и версии:
— Я даже не послушник. По найму работаю. Присматриваются. Благословенья пока не получил.
Нинка потерянно побрела к выходу.
— Эй, девушка! — страж, высунувшись в окошко, показывал письмо.
— Мне? — вмиг расцветшая, счастливая подбежала Нинка.
— Не-а. Ему. Вчера пришло. Может, от матери? Тут внизу адрес. Хочешь — спиши, — и подал клок бумаги, обкусанный карандаш.
— Санкт-Петербург, — выводила Нинка, а Арифметик знай поплевывал, знай поглядывал.
Она шла узкой, в гору, улочкою, когда, въехав правыми колесами на безлюдный тротуар, бежевая «девятка» прижала Нинку к стене. Распахнулась задняя дверца.
— Не боись, — сказал Арифметик и кивнул приглашающе. — Тебя — не тронем, — а, увидев в нинкиных глазах ужас, добавил довольно: — Надо было б — нашли б где и когда. Бегать-то от нас все равно — без пользы. Ну!
Нинка села в машину.
— В Москву, что ли, собралась? Подвезти?
— Мне… до станции.
— Сбежал, значит, Сергуня… — не столько вопросил, сколько утвердил Арифметик. — А куда — ты, конечно, не знаешь.
Нинка мотнула головою.
— Или знаешь?
Нинка замотала головою совсем уж отчаянно.
— Адресок-то списала, — возразил Арифметик. — Пощупать — найдем. Найдем, Санёк? — обратился к водителю.
— Запросто, — отозвался Санёк.
Нинка напряглась, как в зубоврачебном кресле.
— Ладно, не бзди. Я этот адресок и без тебя знаю. Питерский, точно?
Нинка прикусила губу.
— Мы ведь с Сергуней, — продолжил Арифметик, которому понравилось, что Нинка прикусила губу, — мы ведь с ним старые, можно сказать, друзья. Одноклассники. И по этому адреску сергунина мамаша не один раз чаем меня поила. Ага! Со сладкими булочками. Только вряд ли Сергуня там. Он ведь мальчик сообразительный. Знает, что я адресок знаю. Но если уж так получится… хоть, конечно, хрен так получится… что повстречаешь старого моего дружка раньше, чем я, — передай, что зря он от сегодняшней нашей встречи сбежал. Мы с ним так не договаривались. Не сбежал — может, и выкрутился бы, а теперь…
Весомо, всерьез, были сказаны Арифметиком последние фразы, и Нинка рефлекторно бросилась на защиту монаха, самане подозревая, как много правды в ее словах:
— Д ане от вас! Не от вас он сбежал! От меня!
— Телка ты, конечно, клевая, — смерил ее Арифметик сомневающимся взглядом. — Только слишком много на себя тоже не бери. Не надо.
— А… что он… сделал? — спросила Нинка.
— Он? — зачем-то продемонстрировал Арифметик удивление. — Он заложил шестерых. Усекла? Даты у него у самого и спроси — наверное, расскажет, — и хохотнул. — Так чо? — добавил. — Не страшно на электричке-то пилить? Санёк, как думаешь? Ей не страшно? — подмигнул обернувшемуся Саньку. — А то давай с нами.
Нинка снова помотала головою.
— Тогда — привет, — и Арифметик распахнул перед Нинкою дверцу. — Да! — добавил вдогонку. — Напомни, в общем, ему, что в задачке, в арифметической, которую я задал, ответ получился: две жизни. А он, будем по дружбе считать, расплатился в электричке за одну. Так что пусть готовится к встрече со своим Богом. Без этих… как его… без метафор. Короче: чтоб соблазна от нас бегать больше не было — убьем! Дешевле выйдет. И для него, и для нас.
Нинка хотела было сказать что-то, умолить, предложить любую плату, — только выпросить у Арифметика монахову жизнь, — но прежде, чем успела раскрыть рот, машина сорвалась с места и скрылась в проулке.
— До Санкт-Петербурга есть? — Нинка стояла в гулком, пустом полунощном кассовом зале Ленинградского вокзала.
— СВ, — ответила кассирша. — Один, два? — и принялась набивать на клавиатуре запрос.
— А… сколько? — робко осведомилась Нинка.
— Сто сорок два, — ответила кассирша. — И десять — постель.
— Извините, — качнула Нинка головою. — А чего попроще… не найдется?
Красавец-блондин, перетаптывающийся в недлинном хвосте у соседнего окошечка — сдавать лишний — прислушался, положил на Нинку глаз.
— Попроще нету, — презрительно глянула кассирша. — Так что, не берешь?
Нинка снова качнула головою, отошла.
— Я сейчас, — бросил блондин соседу по очереди и подвалил к Нинке. — У меня есть попроще: совсем бесплатный. Но вместе.
Нинка посмотрела на блондина: тот был хорош и, кажется, даже киноартист.
— Вместе так вместе…
В синем, почти ультрафиолетовом свете гэдээровского вагонного ночника красавец-блондин стоял на коленях перед диванчиком, где лежала за малым не полностью раздетая, равнодушная Нинка, и ласкал ее, целовал, пытался завести.
— Ну что же это такое?! — вскочил, отчаявшись, рухнул на свой диванчик. — Мстишь, что ли? За билет?! Да как ты не понимаешь — одно с другим…
— Все я понимаю, — отозвалась Нинка. — Все я, Димочка, хороший мой, понимаю. И трахаться люблю побольше твоего. Только кайф исчез куда-то. Ушел. И не мучайся: ты здесь не-при-чем!..
Нинка скучно — давно, видать, — сидела на холодных ступенях парадной.
Загромыхал лифт, остановился. Нинка глянула: нестарая, очень элегантная дама, достав ключи, отпирала ту самую как раз дверь, которая и нужна была Нинке.
— Вы — сережина мама?
Дама медленно оглядела Нинку с головы до ног, что последняя и приняла за ответ положительный.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — отозвалась дама. — А вы очень хорошенькая.
— Знаю, — сказала Нинка.
Дама открыла дверь и вошла в прихожую не то что бы приглашая за собою, но, во всяком случае, и не запрещая.
— Вы застали меня случайно. Мы с мужем живем в Комарово, на даче. Мне понадобились кой-какие мелочи, — расхаживала дама по комнатам, собирая в сумку что-то из шкафа, что-то из серванта, что-то из холодильника.
Нинка, едва не рот разинув, осматривала очень ухоженную, очень богатую квартиру, где вся обстановка была или антикварной, или купленною за валюту. Компьютер, ксерокс, факс, радиотелефон… Подошла к большой, карельской березою обрамленной юношеской фотографии Сергея.
— Есть у вас время? Можете поехать с нами. Вернетесь электричкой.
— А Сергей… — надеясь и опасаясь вместе, спросила, — там?
— Где? — прервала дама сборы.
— Ну… на даче?
— Сергей, милая моя, в Иерусалиме.
Нинка вздохнула: с облегчением, что жив, не убили что вряд ли доступен сейчас Арифметику и его дружкам, но и огорченно, ибо очень настраивалась увидеть монаха еще сегодня.
— И, судя по всему, пробудет там лет пять-шесть. Или я приняла вас за кого-то другого? Это вы — его скандальная любовь?
— Н-наверное… — растерялась Нинка, никак не предполагавшая, что уже возведена в ранг скандальной любви.
— Это в от него беременны?
— Я? Беременна? Вроде нет.
— Странно, — сказала дама, продолжая прерванное занятие. — Вы из Москвы? Ладно, поехали. Там разберемся. Звать вас — как?..
Ехали они в «Мерседесе» с желтыми номерами. Вел седой господин в клубном пиджаке.
— Вы у нас что, впервые? — спросила дама, сама любезность, понаблюдав, с каким детским любопытством, с каким восхищением глядит Нинка за окно.
— Угу, — кивнула она. — А это чо такое?
— Зимний дворец. Эрмитаж.
— Здорово!
— А вот, смотрите — университет. Тут Сережа учился. Полтора года. На восточном.
Нинка долгим взглядом, пока видно было, проводила приземистое темно-красное здание.
Это была та самая дача, из мансардного окна которой выпрыгнула обнаженная девушка, и, хотя последнее произошло несколько лет назад, дача парадоксальным образом помолодела, приобрела лоск.
Седой водитель «Мерседеса» в дальней комнате говорил по-немецки о чем-то уж-жасно деловом с далеким городом Гамбургом, кажется, о поставках крупной партии пива, а Нинка с дамою сидели, обнявшись, на медвежьей шкуре у догорающего камина, словно две давние подружки, зареванные, и причина их несколько неожиданно внезапной близости прочитывалась на подносе возле и на изящном столике за: значительное количество разноцветных крепких напитков, большей частью — иноземного происхождения.
Впрочем, сережину маму развезло очевидно сильнее, чем Нинку.
— Я! понимаешь — я! — тыкала дама себе в грудь. — Я во всем виновата. Сереженька был такой хруп-кий! Такой тон-кий!.. Дев-ствен-ник! — подняла указательный перст и сделала многозначительную паузу. — Ты знаешь, что такое девственник?
— Не-а, — честно ответила Нинка.
— Ты ведь читала Чехова, Бунина… «Митина любовь»…
— Не читала, — меланхолически возразила Нинка.
— А у меня как раз, понимаешь, убийственный роман. Вон с этим, — пренебрежительно кивнула в сторону немецкой речи. — Странно, да? Он тебе не понравился! — погрозила.
— Понравился, понравился, — успокоила Нинка. — Только Сережа — все равно лучше.
— Сережа лучше, — убежденно согласилась дама. — Но у меня был роман с Отто. А Сережа вернулся и застал. Представляешь — в самый момент! Да еще и… Ну, как это сказать… Как кобылка.
— Раком, что ли?
— Фу, — сморщилась дама. — Как кобылка!
— Ладно, — не стала спорить Нинка. — Пусть будет: как кобылка.
— А я так громко кричала! Я, вообще-то, могла б и не кричать, но я же не знала, что Сережа…
— А я, когда сильно заберет, — я не кричать не могу…
— И всё. Он сломался. Понимаешь, да?
— Ушел в монастырь?
— Нет… сломался. Он потом ушел в монастырь. Перед самым судом. Но сломался — тогда. Я, значит, и виновата. Он, когда христианином сделался — он, конечно, меня простил. Но он не простил, неправда! Я знаю — он не простил!
— Перед каким судом?
— Что? А! Приятели вот сюда, — постучала дама в пол сквозь медвежью шкуру, — затащили. Напоили. Мы с его отцом как раз разводились, дачу забросили, его забросили. А он переживал… Хочешь еще?
— Мне хватит, — покрыла Нинка рюмку ладонью. — А вы пейте, пожалуйста.
— Ага, — согласилась дама. — Я выпью, — и налила коньяку, выпила.
— Ну и что — дачу?
— Какую дачу? А-а… Девица от них сбежала. В окно выбросилась. Вообще-то, раз уж такая недотрога, нечего было и ехать. Правильно? Голая. Порезалась вся. А была зима, ветер, холодною Ну, она куда-то там доползла, рассказала… Ей ногу потом ампутировали. Вот досюда, — резанула дама ребром ладони по нинкиной ноге сантиметра на три ниже паха.
— И Сережка всех заложил?
— Зачем? — обиделась дама. — Зачем ты так говоришь: заложил? Зачем?! Он потрясен был!
— Пьяный, вы же сказали!
— Не в этом дело! Тут ведь бардак… И все такое прочее… Каково ему было видеть? Его вырвало! Он… он просто не умел врать! Вообще не умел! И виновата во всем я… — Дама рыдала, все более и более себя распаляя: — Я! Я!! Я!!!
— Пора оттохнуть, торокая, — седой элегантный Отто уже с минуту как закончил говорить со своим Гамбургом и стоял в дверях, наблюдая, а когда дама ввинтилась в спираль истерики, приблизился.
— Пошел вон! — отбивалась дама. — Не трожь! Я знаю: меня уложишь, а сам… — и ткнула в Нинку указательным. — Угадала?! Ну скажи честно: угадала?!
— Да не дам я ему, успокойтесь, — презрительно возразила Нинка. — Я Сережу люблю…
— Итёмте, итёмте, милая, — Отто уводил-уносил сопротивляющуюся, кривляющуюся даму наверх, в мансарду, а Нинке кивнул с дороги, улучив минутку: — Комната тля гостей. Располагайтесь.
Нинка проводила их мутноватым взглядом, налила коньяку и, выпив, сказала в пустоту:
— Все равно вытащу. Подумаешь: Иерусалим!..
Они чинно и молча завтракали на пленэре. Что по Нинке, что по даме вообразить было невозможно вчерашнюю сцену у камина.
— Also, — сказал Отто, допив кофе и промакнув губы салфеткою, извлеченной из серебряного кольца. — Я оплачиваю бизнес-класс то Иерусалима, тва бизнес-класса — назад. И тве нетели шисни по… — прикинул в уме — …тшетыреста марок в тень. Фам твух нетель хватит?
Нинке стало как-то не по себе от столь делового тона: получалось, что ее нанимают для определенной унизительной работы. Тем не менее, Нинка кивнула.
Дама заметила ее смятение, попыталась поправить бестактность мужа:
— Знаешь, девочка. У нас довольно старый и хороший род. И я совсем не хочу, чтоб по моей вине он прервался. Если ты… если ты вытащишь Сережу — ты станешь самой любимой моей… дочерью.
Отто переждал сантименты и продолжил:
— Я ету в Санкт-Петербург и захвачу фас. Сфотографируйтесь на паспорт фот по этому атресу, — написал несколько слов золотым паркером на обороте визитной карточки, — тоштитесь снимков и савесите мне в офис, — постучал пальцем по лицевой стороне. — Там же фам перетатут и билет на «Стрелу». У фас тостаточно тенег? — полез во внутренний карман.
— Денег? — переспросила Нинка с вызовом. — Как грязи!
— Отшень хорошо, — спрятал Отто бумажник.
В Москве Нинка буквально не находила себе места, ожидая вестей, опасаясь, что прежде, чем удастся уехать, появится на горизонте Арифметик, обозленный бегством былого приятеля в недосягаемые места, приятеля-предателя, перенесет ненависть на нее. Нинка почти даже перестала ночевать дома, меняла, как заядлая конспираторша, адреса: подруги, знакомые, дальние родственники, — оставляя координаты одной бабульке.
Ночной звонок перебудил очередной дом, где Нинка нашла приют.
— Девочка, милая! — мать Сергея, не пьяная, несколько разве на взводе, расхаживала по пустой ленинградской квартире с радиотелефоном у щеки. — Тебе почему-то отказали в паспорте. Не знаю… Не знаю… У Отто это первый случай за восемь лет. Подожди. Подожди. Успокойся. Возьми карандаш. Двести три, семь три, восемь два. Записала? Николай Арсеньевич Ланской. Это сережин отец. Он работает в МИДе. Сходи к нему, договорились? Я могла б ему позвонить, но боюсь: только напорчу. Да, вот еще! Я очень прошу не брыкаться и не обижаться, мы ведь уже почти родственницы: я послала тебе кой-какую одежду. Поверь: сейчас это тебе необходимо. Пообещай, что не станешь делать жестов: получишь, наденешь и будешь носить. Обещаешь, да? Обещаешь?..
Лощеный скромник-демократ, какие за последнее время нам уже примелькались в интервью и репортажах программы «Вести», стоял у МИДовских лифтов, намереваясь высмотреть Нинку и составить впечатление о ней прежде, чем она заметит, узнает, расшифрует его.
Судя по ее внешности, жестов Нинка не сделала: дорогое, элегантное платье сидело на ней так, словно никогда в жизни ничего ниже сортом Нинка и не нашивала. Она явно переходила в очередной класс, а, может, через один и перепрыгивала.
Наглядевшись, Николай Арсеньевич приблизился, и надо было видеть, с каким невозмутимым достоинством подала ему Нинка руку для поцелуя.
Они вышли на улицу, под косое предвечернее солнце. Тут же зашевелилась, двинулась к подъезду «Волга» 3102, та самая, что подобрала Нинку на ночном шоссе пять недель — целую жизнь! — назад.
— Беда в том, — сказал Николай Арсеньевич, — что я не смогу помочь вам с документами. Честнее так: не мне вам помогать, потому что как раз я приложил все усилия, чтобы разрешение на выезд дано вам не было. И буду прикладывать впредь.
Нинка посмотрела на вельможу долгим взглядом, жлоб же водитель долгим взглядом посмотрел на Нинку: сперва он не мог поверить глазам и пару раз даже мотал головою, словно гнал галлюцинацию, но в конце концов все же утвердился во мнении, что это — та самая.
— В истерике, по-мальчишески, — отвечал вельможа на безмолвный нинкин вопрос, посредственно для дипломата скрывая возбуждение, которое генерировала в нем сексапильная фигурка, — но Сергей несколько лет назад выбрал на мой взгляд одну из самых удачных возможных карьер. И я как отец (со временем и у вас, не исключено, появятся дети!) просто обязан помочь ему не сорваться. Когда в лавре из-за вас начался скандал, я предпринял все возможное, чтоб удалить Сергея в Иерусалим. Не надо смотреть на меня с ненавистью — Сергей попросил сам. Бежал от вас он — я ему только помог. Простите, я, вероятно, неточно выразился: не от вас — от себя. И я его, — улыбнулся двусмысленно, — теперь понимаю. Но согласитесь: нелепо будет, если сейчас, ему вдогонку…
— Соглашаюсь, — перебила Нинка, совсем по видимости не обескураженная, во всяком случае — взявшая себя в руки: чем больше на ее пути встречалось препятствий, тем сильнейший азарт она, казалось, испытывала, тем емче заряжалась энергией преодоления.
— Вы, конечно, ни в чем не виноваты, и я готов компенсировать вашу неудачу, чем смогу… — тут Нинку прожег, наконец, потный взгляд жлоба-водителя, и она обернулась, жлоба узнала, став, впрочем, после этого лишь еще презрительнее. — Я еду сейчас за город. Если у вас есть время, вы могли бы сопроводить меня, и мы вместе обсудили б… — вельможа все откровеннее, все нетерпеливее облапывал Нинку глазами.
— У меня нету времени, — улыбнулась она. — Мне нужно добывать паспорт.
Улыбнулся и вельможа.
— Передумаете, — резюмировал, — мой телефон у вас записан. Уверяю, что Париж, Лондон, Гамбург на худой конец, гораздо увлекательнее Иерусалима, — и направился к машине.
— Вы меня, конечно, извините, Николай Арсеньевич, — склонился к нему жлоб, — но эта, с позволения сказать… телка… — и совсем уж приблизился к шефу, два-три слова прошептал прямо на ухо. Приотстранился несколько и добавил: — Ага. За двести рублей.
Нинка понимала их разговор, словно слышала, и потому, едва «Волга» собралась вклиниться в густой предвечерний автомобильный поток Садового, стремительно подошла, отворила дверцу и, в ответ улыбке вельможи, добившегося-таки, как ему показалось, своего, сказала:
— Вы, конечно, отец Сергея. И все-таки вы знаете кто, Николай Арсеньевич? Вы ф-фавён! Вы старый вонючий фавён!
У входа в клуб бизнесменов Нинка объяснялась с привратником-Шварцнеггером с помощью визитной карточки, полученной некогда от Отто. Шварцнеггер, наконец, отступил, и Нинка, миновав вестибюль и комнату, где несколько человек лениво играли на рулетке, оказалась в зальчике, где шло торжество.
Компания была сугубо мужская, ибо хорошенькие подавальщицы, бесшумными стайками снующие за спинами бизнесменов, в счет, разумеется, не шли. Посередине перекладины буквы П, которою стояли столы, восседал юбиляр: несколько расхристанный, извлекающий из рукава освобожденной от галстука рубахи крупную запонку; человек не приблизительно, но точно пятидесятилетний, ибо именно эту дату отмечали; совершенно славянского типа, слегка крутой, обаятельный, в несколько более, чем легком, подпитии и никак не меньше, чем с двумя высшими образованиями.
Рядом с юбиляром седо-лысый еврей-тамада, водрузив перед собою перевернутую кастрюлю, вооружась молотком для отбивания мяса, вел шутливый аукцион.
— Левая запонка именинника! — выкрикнул, получив и продемонстрировав оную. — Стартовая цена… двадцать пять долларов!
— Ставьте сразу обе! — возразил самый молодой и самый крутой из гостей. — Если я сторгую эту, придется торговать и следующую, что в условиях монополизма может привести…
— Не согласен! — возразил с другого конца человек с внешностью дорогого адвоката. — Предметы, продаваемые с юбиляра, являются музейными ценностями и прагматическому использованию не подлежат!..
У кого-то из присутствующих образовалось третье мнение на сей счет, у кого-то — четвертое, — Нинка тем временем, угадав его со спины, подошла к Отто, который, хоть и глянул с заметным неудовольствием, дал знак принести стул и прибор.
— Тридцать долларов слева, — продолжал меж тем продавать запонку тамада-аукционист.
— Тридцать пять!
— Сорок!
— Мне удалось добиться, — сказала Нинка, — чтобы меня включили в паломническую группу в Иерусалим. Наврала с три короба про чудесное исцеление, что дала, мол, обет…
— Пятьдесят пять долларов раз! Пятьдесят пять — два! Пятьдесят пять долларов — три! — ударил аукционист молотком в днище кастрюли. — Продано, — и усилился шум, зазвякали о рюмки горлышки бутылок, запонка поплыла из рук в руки к новому обладателю.
— Но им, кажется, это все равно. Они сказали — была б валюта.
— Сколько? — спросил Отто.
— Правая запонка именинника!
— Девять тысяч четыреста двадцать пять, — назвала Нинка сумму, глаза боясь на Отто поднять.
— Марок? — спросил тот.
— Долларов, — прошептала Нинка.
— Пятьдесят пять долларов — раз! Пятьдесят пять — два! Пятьдесят пять долларов — пауза — три! — и удар в кастрюлю. — Правая запонка покупателя не нашла. Переходим к рубахе. Что? — склонился аукционист к юбиляру. — Владелец предлагает снизить на запонку стартовую цену.
— Против правил! — подал реплику адвокат.
— Ладно! Имениннику можно, — нетрезво-снисходительно возразил с прибалтийским акцентом прибалтийской же внешности человек.
— Никому нельзя! — припечатал крутой-молодой.
— Нет, — взвесив, коротко, спокойно ответил Нинке Отто.
— Нет? — переспросила она с тревогой, с мольбою, с надеждою.
— Нет, — подтвердил Отто. — Они хотят наварить тшерестшур. Триста, тшетыреста процентов. Это против моих правил.
— Значит, нет, — утвердила Нинка, однако, с последним отзвуком вопроса, который Отто просто проигнорировал.
— Юбилейная рубаха юбиляра, — продолжал аукционист, разбирая надпись на лейбле. — Шелк-сырец. Кажется, китайская. Цена в рублях — девятьсот пятьдесят.
Отто налил Нинке выпивки. Она решала мгновенье: остаться ли, — и решила остаться.
— Тысяча!
— Тысяча слева. Тысяча — раз! Тысяча — два!
— Тысятша сто, — сказал Отто просто так, неизвестно зачем: рубаха именинника не нужна ему была точно, демонстрировать финансовое свое благополучие он тоже, очевидно, не собирался.
— Господин Зауэр — тысяча сто. Тысяча сто — раз!
— Тысяча двести!
Юбиляр с голым, шерстью поросшим торсом, благодушно улыбаясь, следил за торгами с почетного своего места.
Отто поглядел на соседку с холодным любопытством:
— Хотите, я фс фыстафлю на аукцион? Авось соберете. Стартовую цену назнатшим три тысятши.
— Долларов? — поинтересовалась Нинка.
— О, да! — отозвался Отто. — Не сертитесь, но сами толшны понимать, тшто это несколькою тороковато. На Риппер-бан фам тали бы максимум… марок твести. Но сдесь собрались люти корячие, асартные. И не снают пока настоящей цены теньгам.
— Левый башмак юбиляра! — продолжал тамада аукцион.
— И что я должна делать с тем, кто меня купит?
— Если купят! — значительно выделил Отто первое слово и пожал плечами: — Могу только пообещать, тшто я фас приопретать не стану. И тшто все вырученные теньги перейдут фам. Пез куртажа. Сокласны?
Нинкавыпилаи кивнула.
— Две с половиной справа!
Отто встал, подошел к юбиляру, нашептал что-то тому на ухо, взглядом указывая на Нинку, юбиляр поманил склониться тамаду.
— На аукцион выставляется, — провозгласил последний, когда выпрямился, — любовница юбиляра, — и, повернувшись к Нинке, сделал жест шпрехшталмейстера. — Прошу!
Нинка вздернула голову и, принцесса-принцессою, зашагала к перекладине буквы П.
— Блюдо! — крикнул крутой-молодой и утолил недоумение возникшего метрдотеля: — Блюдо под даму!
Очистили место, появилось большое фарфоровое блюдо, Нинка, подсаженная, взлетела, стала в его центр. Кто-то подскочил, принялся обкладывать обвод зеленью, редиской. Какая откуда, высунулись мордочки любопытных подавальщиц.
— Стартовая цена, — провозгласил аукционер, — три тысячи долларов.
Возникла пауза.
— Раздеть бы, посмотреть товар… — хихикнув, высказал пожелание толстенький-лысенький.
Господи! Как Нинка была надменна!
Крутой-молодой встал, подошел к толстому-лысому, глянул, словно загрудки взял:
— Обойдемся без хамства.
— Да я чего? — испугался тот. — Я так, пошутил.
Инцидент слегка отрезвил компанию, и вот-вот, казалось, сомнительная затея рухнет. В сущности, именно молодой мог ее прекратить, но он спокойно вернулся на место и не менее спокойно произнес:
— Пять…
Снова повисла тишина. Девочки-подавальщицы зашлись в немом восторге, словно смотрели «Рабыню Изауру», даже аукционер не долбил свое: пять — раз, пять — два…
Отто холодно, оценивающе глянул на молодого и, подняв два пальца, набил цену:
— Семь!
— Десять, — мгновенно, как в пинг-понге, парировал тот.
— Пятнадцать! — выкрикнул толстенький-лысенький: идея осмотреть товар, кажется, им овладела.
— Двадцать! — молодой тем более не сдавался.
— Двадцать — раз, — пришел в себя аукционер. — Двадцать — два! Двадцатью — и занес молоток над кастрюлею.
— Тватцать пять, — вступил Отто, еще раз рассчитав, что цену его, пожалуй, платежеспособно перебьют — и точно:
— Тридцать!
Одна из подавальщиц глотнула воздух от изумления. Молоток ударил в кастрюльное дно.
— Продано…
Нинка собралась было спрыгнуть, но Отто остановил жестом, вставанием:
— Теньги!
Крутой-молодой извлек из внутреннего кармана пачку, отсчитал два десятка бумажек, которые спрятал назад, а остальные, подойдя, положил на блюдо к нинкиным ногам: поверх салата, поверх редиски. Вернулся на место.
— Ну-ка живо! — шуганул метрдотель подавальщиц. — Чтоб я вас тут…
Нинка скосилась вниз, на зеленоватую пачку, перетянутую аптечной резинкою.
Отто взял нинкину сумочку, оставшуюся на стуле, передал в ее сторону.
— Перите, — сказал и пояснил собравшимся: — Косподин Карпов, — кивок в сторону юбиляра, — шертвует эту сумму на благотворительность. А распоряшаться ею бутет бывшая его люповница.
Полуголый господин Карпов кивнул туповато-грустно: ему вдруг жаль показалось расстаться с такою своей любовницей.
Нинка присела, спрятала деньги в сумочку, спрыгнула, подхваченная мужскими руками, медленным шагом направилась к молодому и неожиданно для всех опустилась пред ним на колени, склонила голову.
Молодой посмотрел на Нинку, посмотрел на собравшихся, явно ожидающих красивого жеста и, кажется, именно поэтому жеста не сделал: не поцеловал даме руку, не предложил подняться или что-нибудь в этом роде.
— Неужто ж я столько стою? — спросила Нинка.
— Столько стою я! — отрезал молодой, и светлый, прозрачный глаз его, подобный кусочку горного хрусталя, на мгновенье сверкнул безумием.
— И что вы намерены со мной делать?
— Жить, — ответил тот.
— А если не подойду?
— Перепродам.
— Много потеряете, — бросил реплику адвокат.
— Тогда убью, — и снова — безумный блеск.
Нинка коротко глянула на хозяина, пытаясь понять: про убийство — шутка это или правда? — и решила, что, пожалуй, скорее правда…
Не слишком ли все это было эффектно? Не чересчур? Передышка во всяком случае необходима:
…птички, поющие на рассвете над кое-где запущенным до неприличия, кое-где — до неприличия же зареставрированным Донским монастырем: именно отсюда, от Отдела Сношений или как он у них там? очень ранним рейсом отбывает в Иерусалим группа паломников; кто уже забрался внутрь, кто топчется пока возле — автобуса; все сонные, зевающие: двое-трое цивильных функционеров старого склада, двое-трое — нового; упругий, энергичный, явно с большим будущим тридцатилетний монах; несколько солидных иерархов; злобная, тощая церковная староста из глубинки; непонятно как оказавшаяся здесь интеллигентного вида пара с очень болезненным ребенком лет тринадцати; вполне понятно как оказавшаяся здесь пара сотрудников службы безопасности, принадлежность к которой невозможно как описать, так и скрыть и, наконец, разумеется, Нинка: снова в черном, как тогда, в лавре, только в другом черном, в изысканном, в дорогом, — крестик лишь дешевенький, алюминиевый, которым играла, тоскуя, читая Евангелие, тогда: в недавнем — незапамятном — прошлом…
— Отец Гавриил, — подавив зевок ладонью, интересуется один иерарх у другого. — Вы консервов-то захватили?..
…улицы летней утренней Москвы, на скорости и в контражуре кажущиеся не так уж и запущенными, на которые смотрит Нинка прощальным взглядом…
…выход из автобуса у самораздвигающихся прозрачных дверей, затем одним только нам нужный, чтобы, готовя точку первого периода нинкиного пребывания на российской земле, мелькнула неподалеку ожидающая хозяина знакомая «Волга» 3102 со жлобом-водителем, прикорнувшим, проложив голову трупными руками, на руле…
…превратившееся в форменный Казанский вокзал с его рыгаловками, очередями, толкучкою, узлами, с его сном вповалку нанечистом полу, с его деревенскими старичками и старушками Шереметьево-2…
…прощальный, цепкий, завистливый взгляд юного бурята-пограничника, сверяющий Нинку живую с Нинкою сфотографированной и…
…кайф, торжество, точка: разминаясь с ним на входе-выходе, Нинка высовывает язык и, отбросив дорожную сумку, делает длинный нос возвращающемуся с большим количеством барахла на Родную Землю вельможе, Николаю Арсеньевичу, сережиному отцу.
Самолет взмывает, подчистую растворяется в огромном ослепительном диске полчаса назад вставшего солнца — и вот она, наконец — Святая Земля!
Еще не вся группа миновала паспортный контроль (а Нинка, словно испугавшись вдруг сложности и двусмысленности собственной затеи, которую, занятая исключительно преодолением преград, и обдумать как следует не успела прежде, — оказалась в хвосте), как внутреннее радио, болтавшее время от времени на всяческих языках, перешло на единственный Нинке понятный, сообщив, что паломников из России ожидают у шестого выхода.
Ожидал Сергей.
Нинка, счастливо скрытая от него спинами, имела время унять сердечко и напустить на себя равнодушие; на Сергея же, увидевшего ее в самый момент, когда Нинка, им подсаживаемая, поднималась в автобус, встреча произвела впечатление сильнейшее, которое он даже не попытался скрыть от всевидящих паломничьих глаз.
Нинка кивнула: не то здороваясь, не то благодаря за пустячную стандартную услугу, и, не сергеев вид — никто и не понял бы: шапочно ли знакомы юная паломница и монах или встретились впервые.
Автобус отъезжал от сумятицы аэропорта. Сергей мало-помалу брал себя в руки. Нинка с любопытством, наигранным лишь отчасти, глядела в окно.
— Добро пожаловать на Святую Землю, — вымолвил, наконец, Сергей в блестящую сигарету микрофона. — Меня звать Агафангелом. Я — иеромонах, сотрудник Русской православной миссии и буду сопровождать вас во всяком случае сегодня. Вы поселитесь сейчас в гостинице, позавтракаете и едем поклониться Гробу Господню. Потом у вас будет свободное время: можно походить, — улыбнулся, — по магазинам. А вечером, в (Нинкане разобрала каком) храме состоится полунощное бдение.
Нинка оторвала взгляд от проносящейся мимо таинственной, загадочной заграницы ради Сергея: тот сидел на откидном рядом с водителем и тупо-сосредоточенно пожирал взглядом набегающий асфальт, но удары монахова сердца перекрывали, казалось, шум мотора, шум шоссе, — во всяком случае, и злобная тетка, церковная староста, услышала их внятною
Разумеется, что поселили Нинку как раз с нею. Староста распаковывала чемодан: доставала и прилаживала к изголовью дешевую, анилиновыми красками повапленную иконку, рассовывала: консервы — в стол, колбасу — в холодильник, вываливала на подоконник, на «Правду» какую-то «саратовскую», сухари и подчеркнуто, враждебно молчала. Молчала и Нинка, невнимательно глядя из окна на панораму легендарного города.
Староста буркнула, наконец:
— Знакомый, что ли?
— Кто? — удивилась Нинка так неискренне, что самой сделалось смешно и стыдно.
— Никто, — отрезала староста. — Ты мне смотри!
Нинка обернула надменное личико и нарисовала на нем презрительное удивление.
— Позыркай, позыркай еще. Блудница, прости Господи! — перекрестилась староста.
Нинка мгновенье думала, чем ответить, и придумала: решила переодеться.
Староста злобно глядела на юную наготу, потом плюнула: громко и смачно.
В дверь постучали.
— Прикройся, — приказала староста и пошла отворять, но Нинку снова несло: голая, как была, стала она в проеме прихожей, напротив дверей, в тот как раз миг, как они приотворились, явив Сергея.
Сергей увидел Нинку, вспыхнул, староста обернулась, снова плюнула и, мослами своими выступающими пользуясь, как тараном, вытеснила монаха в коридор:
— Хотели чего, батюшка?
— Д-даю узнать… как устроились.
— Слава тебе, Господи, — перекрестилась староста. — Сподобил перед смертью рабу Свою недостойную…
В монастыре Святого Саввы народу было полным-полно.
Монах как бы невзначай притиснулся к Нинке, вложил в ладонь микроскопический квадрат записки и так же невзначай исчез. Нинка переждала минуту-другую, чтоб успокоилась кровь, развернула осторожненько.
«Я люблю тебя больше жизни. Возвращайся в номер. Сергей».
Нинка закрыла глаза, ее даже качнуло… Странная улыбка тронула губы, которые разжались вдруг в нечаянном вскрике: жилистая, заскорузлая, сильная старостина рука выламывала тонкую нинкину, охотясь за компроматом.
— Отзынь! — зашипела Нинка. — Я тебе щас… к-курва! — и лягнула старосту, чем обратила на себя всеобщее осуждающее внимание, вызвала усмиряющий, устыжающий шепоток.
Нинка выбралась наружу, к груди прижимая записку в кулачке, огляделась, нет ли Сергея поблизости, и остановила такси…
Автору несколько неловко: он сознаёт и банальность — особенно по нынешним временам — подобных эпизодов, и почти неразрешимую сложность описать их так, чтобы не технология и парная гимнастика получились, а Поэзия и выход в Надмирные Просторы, но не имеет и альтернативы: нелепо рассказывать про любовь (а автор надеется, что именно про любовь он сейчас и рассказывает), по тем или иным причинам обходя стороною минуты главной ее концентрации, когда исчезает даже смерть.
В крайнем случае, если за словами не возникнет пронизанный нестерпимым, как сама страсть, жарким африканским солнцем, чуть-чуть лишь смикшированным желтыми солнечными же занавесками, кубический объем, потерявший координаты в пространстве и времени; если не ощутится хруст, свежесть, флердоранжевой белизны простыней; если не передастся равенство более чем искушенной Нинки и зажатого рефлексией и неопытностью, едва ли не девственностью Сергея пред одной из самых глубоких Тайн Существования, равенства сначала в ошеломляющей закрытости этих Тайн, а потом — во все более глубоком, естественном, как дыхание, их постижении; если, лишенные на бумаге интонации слова Сергея, выкрикнутые на пике:
— Я вижу Бога! вижу Бога! — вызовут у читателя только неловкость и кривую улыбку — лучше уж, признав поражение, пропустить эту сцену и сразу выйти на нетрудный для описания, наполненный взаимной нежностью тихий эпизод, экспонирующий наших героев: обнаженных, обнявшихся, уже напитанных радиацией Вечности и ведущих самый, может быть, глупый, самый короткий, но и самый счастливый свой разговор.
— Еще бы день… ну — два… и я бы не выдержал: бросил все и зайцем, пешком, вплавь, как угодно — полетел бы к тебе. Я больше ни о чем… больше ни о ком думать не мог!
— А я, видишь, и полетела…
— Вижу…
— Пошли в душ?
Струйки воды казались струйками энергии. Нинка с Сергеем, стоя под ними, хохотали, как дети или безумцы, брызгались, целовались, несли высокую чушь, которую лучше не записывать, а, как в школьных вычислениях, держать в уме, ибо на бумаге она в любом случае будет выглядеть нелепо, — потому не услышали, никак не приготовились к очередному повороту сюжета: дверь отворилась резко, как при аресте, проем открыл злобную старосту и человек чуть ли не шесть за нею: руководителя группы, мальчика из службы безопасности, паломника-иерея, еще какого-то иерея (надо полагать — из Миссии), гостиничного администратора и даже, кажется, полицейского.
— Убедились? — победно обернулась к спутникам староста. — Я зря не скажу!
В виде, что ли, рифмы к первой послепроложной сцене, подглядим вместе с Нинкою — и снова через зеркало — нападающие из-под машинки клочья сергеевой бороды, чем и подготовим себя увидеть, как побритый, коротко остриженный, в джинсах и расстегнутой до пупа рубахе, стоит он, счастливый, обнимая счастливую Нинку на одном из иерусалимских возвышений и показывает поворотом головы то туда, то сюда:
— Вон, видишь? вон там, холмик. Это, представь, Голгофа. А вон кусочек зелени — Гефсиманский сад. Храм стоял, кажется, здесь, а иродов дворец…
— В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкою, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана… — перебив, завораживающе ритмично декламирует Нинка из наиболее популярного китчевого романа века.
— Ого! — оборачивается Сергей.
— А то! — отвечает она.
И оба хохочут.
— А хочешь на Голгофу? — спрашивает расстрига, чем несколько Нинку ошарашивает.
— В каком это смысле?
— В экскурсионном, в экскурсионном, — успокаивает тот.
— В экскурсионном — хочу.
Не то что б обнявшись — атмосфера храма, особенно храма на Голгофе, от объятий удерживает — но все-таки ни на минуту стараясь не терять ощущения телесного контакта, близости, наблюдают Нинка с Сергеем из уголка, от стеночки, как обступила не большая, человек из восьми, по говору — хохляцкая — делегация выдолбленный в камне священной горы крохотный, полуметровый в глубину, колодец, куда некогда было установлено основание Креста. Хохлы подначивают друг друга, эдак шутливо толкаются, похохатывают.
— Чего это они? — любопытствует Нинка.
— Есть такое суеверие, — поясняет Сергей, — будто только праведник может сунуть туда руку безнаказанно.
— Как интересно! — вспыхивает у Нинки глаз, и, едва хохлы, из которых никто так и не решился на эксперимент, покидают зал, Нинка бросается к колодцу, припадает к земле, сует в него руку на всю глубину.
Сергей, презрительный к суевериям Сергей, не успев удержать подругу, поджимается весь, ожидая удара молнии или черт там его знает еще чего, -однако, естественно, ничего особенного не происходит, и Нинка глядит на расстригу победно и как бы приглашая потягаться с судьбою в свою очередь.
— Пошли! — резко срывается Сергей в направлении выхода. — Чушь собачья! Смешно!..
Бородатый человек лет сорока пяти сидел напротив наших героев за столиком кафе, вынесенным на улицу, и вальяжно, упиваясь собственной мудрой усталостью, травил, распевал соловьем:
— Не, ребятки! В Иерусалиме жить нельзя. Вообще — в Израиле. Тут в воздухе разлита не то что бы, знаете, ненависть — нелюбовь. Да и чисто прагматически: война, взрывы… И-де-о-ло-ги-я! Типичный совок. Недавно русского монаха убили и концы в воду. Есть версия, будто свои. То ли дело Париж! В Штатах не бывал, зря врать не стану, а Париж!.. Монмартр… Монпарнас… А Елисейские поля в Рождество! То есть, конечно, и Париж не фонтан: в смысле для меня, для человека усталого. В Париже учиться надо. А мое студенчество — так уж трагически получилось — пришлось на Москву. Но вам еще ничего, по возрасту. Впрочем, когда молод, и Москва — Париж. Что же касается меня, были б деньги -нигде б не стал теперь жить, кроме Лондона. Самый… удобный… самый комфортабельный город в мире. Но, конечно, и самый дорогой. Ковент-гарден в пятницу вечером!.. Пикадилли-серкус!.. А на воскресенье — в Гринвич: «Кати Сарк», жонглеры… Увы, увы, увы!.. Так… что же еще? Италия — это все равно, что Армения, но вот! есть — на любителя — сумрачные страны: Скандинавия, Дания, приморская Германия. Уникальный, знаете, город Гамбург…
— Гамбург? — вставила вдруг, переспросила Нинка. — Один джентльмен как-то сказал, что в Гамбурге, на Риппер-бан, за меня дали бы максимум двести марок. Риппер-бан — это что?
— Вроде Сен-Дени в Париже, — отозвался всезнающий соотечественник, — вроде Сохо в Лондоне, хотя Сохо куда скромней. Но вы не волнуйтесь: такие, как вы, на Риппер-бан не попадают. В худшем случае…
— Отто? — с некоторым замедлением осведомился Сергей.
— Отто не Отто, — кокетливо отмахнулась Нинка.
— Вон оно что! — Сергей в мгновенье сделался мрачен, угрюм. — Надо же быть таким кретином! Они тебя наняли, да? Отто с матушкой? Скажи честно — ты ж у нас девушка честная!
Бородач притих: тактичное любопытство, чуть заметная опаска.
— Нет, любимый, — ответила Нинка с волевым смирением. — Не наняли. Я — сама.
— Сама?! Как же! Парикмахерша! Откуда ты деньги такие взяла?!
— Деньги?! — входила Нинка в уже знакомый нам азарт. — На нашей Риппер-бан заработала: у «Националя»! Смотрел «Интердевочку»? Хотя, откуда? У вас там кино не показывают: молятся и под одеялом дрочат!
— А с визой для белых сейчас в Европе проблем нету. На три месяца, на полгода. Потом и продляют. Идете в посольство… — попытался бородач если не снять конфликт, то, по крайней мере, изменить время и место его разрешения.
— Ф-фавён! — бросила Нинка Сергею.
— Любопытное словцо! — заметил бородач. — От «фвна», что ли?
— От «козла», — вежливо и холодно пояснила Нинка и встала, пошла: быстро, не оглядываясь.
— Догоняй, дурень! — присоветовал бородач, и Сергей, вняв совету, себе ли, побежал вслед:
— Нина! Нина же!
В сущности, это была еще не ссора: предчувствие, предвестие будущих разрушительных страстей, однако, на пляже, на берегу моря, сидели они уже какие-то не такие, притихшие: загорелая Нинка и белый, как сметана, Сергей.
Нинка лепила из песка замок.
— Я никогда в жизни не бывала на море…
— А меня предки каждое лето таскали. В Гурзуф… Ну, поехали в Гамбург! поехали! Я немецкий хорошо знаю.
— С чего ты вбил в голову, что я хочу в Гамбург?! Если б она меня послала, сказала б я тебе первым делом, чтоб ты ни в коем случае не возвращался? — Нинка чувствовала тень вины за тот разговор, то согласие на дачной веранде в Комарово — тем активнее оправдывалась.
— Да ну их к черту! — у Сергея был свой пунктик. — Убьют — и пускай…
— Хочешь оставить меня вдовою?
— Собираешься замуж?
— А возьмешь?
— Догонишь — возьму! — и Сергей сорвался с места, побежал по песку, зашлепал, взрывая мелкую прибрежную воду, обращая ее в веера бриллиантов.
Нинка — за ним: догнала, повисла на шее:
— Теперь не отвертишься!
— Так что: в Гамбург?
— Как скажешь! Берешь замуж — отвечай за двоих!
Они ожидали рейса на Гамбург, а через две стойки проходила регистрацию отбывающая в Москву группа знакомых нам паломников.
— П-попы вонючие! — сказала Нинка. — Мало, что содрали впятеро — отказались вернуть деньги и за гостиницу, и за обратный билет.
— Сколько у нас осталось? — осведомился Сергей, которого чуть-чуть, самую малость, покоробили нинкины «попы».
Нинку тоже покоробило: это вот «у нас», но она лучше, чем Сергей, подавила нехорошее чувство и спокойно ответила:
— Три восемьсот.
— Не так мало, — нерасчетливо выказал Сергей довольно легкомысленный оптимизм.
— Не так много, — возразила Нинка и вспомнила дьявольский аукцион в бизнес-клубе, хрустальные глаза крутого-молодого, следующие — пока не удалось сбежать — сумасшедшие сутки…
Радио объявило посадку в самолет, следующий до Гамбурга.
— Наш, — пояснил чувствующий себя слегка виноватым Сергей и взялся за сумку.
— Я, Сереженька, и к языкам оказалась способною. Уже понимаю сама…
Как бы намекая на скорое похожее нинкино путешествие, сверкающей тушею таял в укрывшем Эльбу вечернем тумане белый, огромный лондонский паром. Да и сам Гамбург, возвышающийся, нависающий над Альтоной, над Нинкою, едва проступал сквозь молочную муть радужными ореолами фонарей, фар, горящих витрин...
По тротуару чистенькой, тихой улицы фешенебельного Бланкенезе, возле трехэтажного особняка со стеклянным лифтом и крохотным парком вокруг, напустив на себя по возможности независимый вид, взад-вперед вышагивал, поджидая выезда Отто, Сергей: не допущенный ли внутрь особо строгим швейцаром, сам ли не пожелавший войти из гордости, из чувства такта или из каких других соображений.
Приподнялись автоматические ворота подземного гаража. Распахнулись въездные. Из недр особняка поплыл сверкающий «мерседес». Сергей стал на дороге.
Отто сидел за рулем сам. Рядом в сафьяне кресла полулежала дама, чей возраст, очевидный вопреки ухищрениям портных и косметологов, давал основания предположить в ней даже и мать Отто. Впрочем, по сумме необъяснимых каких-то признаков, а, может, и по воспоминаниям-отголоскам петербургских разговоров, Сергей решил, что дама — гамбургская, законная, жена.
Увидев расстригу, Отто притормозил, но ни в машину его не пригласил, ни сам не вышел, а лишь нажал на кнопочку, опускающую стекло: не столько, видно, по хамству, сколько стесненный присутствием супруги.
— Guten Tag, — склонился Сергей в полупоклоне, смиряя гордость, которая лезла изо всех его щелей.
— Фот, сначит, кута фас санесло, — на приветствие легким только кивком ответив, сказал Отто неодобрительно. — Ну та, естественно.
— Говорите, пожалуйста, по-немецки, — обратилась к Отто навострившая уши дама. — Это неприлично.
Отто не без раздражения проглотил замечание.
— Почему ж это, интересно, естественно? — по-немецки вопросил оскорбленный Сергей, потому именно по-немецки, что на раз усек ситуацию и готов был извлечь из нее всю возможную выгоду. — Просто мама, когда отговаривала ехать в миссию, в Иерусалим, сказала, что у вас всегда найдется для меня место в гамбургском офисе.
Почувствовав, что по поводу «мамы» предстоит непростое объяснение с супругою, Отто чуть скривился.
— Ваша мама, должно быть, не слишком хорошо разбирается в бизнесе. Хотя… Вы на компьютере работать можете?
Сергей отрицающе промолчал.
— Электронные таблицы знаете? Автомобиль видите? Я, конечно, мог бы дать вам немного денег, но вы, помнится, как-то заявили, что от меня не возьмете никогда и ничего. Вы переменили позицию?
Сергей продолжил молчать.
— Впрочем, мне много дешевле выйдет содержать вас в России. Если вы отказались от гордых ваших принципов, я готов купить вам билет до Санкт-Петербурга.
Сергей потупился и выдавил.
— Меня там могут убить.
— Ну, знаете, — сказал Отто. — Вы уж слишком многого требуете от жизни. — И то ли со странным юмором, то ли с угрозою скрытой добавил. — А убить вполне могут и здесь. Извините, — и, нажав опускную кнопочку, отгородился от Сергея стеклом, тронул машину, уронил эдак впроброс, независимо, адресуясь к супруге. — Сын моей уборщицы. Из петербургского отделения…
Глухой торцовой стеной огромного мрачного дома на задах мясного рынка неизвестный художник воспользовался, чтобы проиллюстрировать «Апокалипсис», а представитель экологической службы — чтобы пометить дом черно-желтым, на шесть секторов разделенным кружком: знаком радиационной опасности. Нинка с Сергеем снимали крохотную квартирку первого, глубоко вросшего в землю этажа.
Сергей был сильно пьян:
— А я сказал — на колени! — и ладонями, взятыми в замок, давил Нинке наголову, понуждая опуститься. — Перед шоферюгой могла, а передо мной — гордость не позволяет?!
— Я же тебя спасала, Сереженька. Ты разве забыл?
Сказала-то Нинка кротко, а оттолкнула Сергея сильно, а потом еще и больно отхлестала по щекам.
Он заплакал, пополз, обнимая ей ноги:
— Помоги! Этот шофер — он все время перед глазами. И все твои остальные… шоферы. Я люблю тебя и от этого с ума сойду.
— А я, когда ты пьян, — возразила Нинка, усевшись, поджав ноги, на тахту, зябко охватив плечи руками: так сидела она, ожидая электричку, перед первой с Сергеем встречею, — я не люблю тебя совсем.
— Я больше не буду, — подполз Сергей и уткнул ей в колени повинную голову. — Я обещаю… я больше не буду… — и всхлипывал.
— Ладно, — помолчав, закрыла Нинка тему и погладила отросшие волосы Сергея, вспоминая, быть может, как перебирала их в той ночной подмосковной-московской поездке. — Поспи…
Потом и впрямь опустилась на колени, стащила с него башмаки, помогла взобраться на ложе.
— Ты не сердишься, правда? — пробормотал Сергей в полусне. — Это ведь от любви…
Нинка пошла на кухню. Из дальнего угла выдвижного ящика извлекла не толстую пачку несвежих бумажек, пересчитала: марок триста, четыреста: все, что у них осталось. Отложив несколько банкнот и спрятав в прежнем месте, бросила остальное в сумочку и, убедившись, что Сергей спит, вышла из дому.
Риппер-бан оказалась очень широкой, очень разноцветной и густонаселенной, но почему-то при этом скучной, унылой улицей. Напустив на себя все возможное высокомерие, чтоб не дай Бог чего не подумали, Нинка медленно шла, глядя по сторонам. За исключением переминающихся с ноги на ногу глубоко внизу, у въезда в подземный какой-то гараж, троих загорелых девиц на высоких каблуках и в отражающих пронзительную голубизну ультрафиолетовой подсветки белых лифчиках и трусиках, проституток в классическом понимании слова не было: секс-шопы, эротические видеосалоны, сексуальные шоу с назойливыми зазывалами у входа…
Пройдя до конца, Нинка перебралась на другую сторону, но там и шоу с шопами не оказалось: ночные магазины газового оружия, ножичков разных, недорогих часов, неизбежные турки у прилавков… Впору было возвращаться домой: не спрашивать же у прохожих, — но тут веселая подвыпившая матросская компания свернула в переулок, Нинка вмиг поняла зачем и свернула тоже.
Девицы стояли гроздьями прямо на углу, в двух шагах от полицейского управления, и странно похожи были одна на другую: не одеждою только, но, казалось, и лицами. Нинка цепко глянула и пошла дальше.
На зеленом дощатом заборе, оставляющем по бокам два узких прохода, висела табличка: «Детям и женщинам вход воспрещен» — Нинка тут же поняла, что сюда-то ей и надо, и нырнула в левый проходец.
Переулочек состоял из очень чистеньких, невысоких, один к одному домов, в зеркальных витринах которых, тем же ультрафиолетом зазывно подсвеченные, восседали полураздетые дамы: кто просто так, кто — поглаживая собачку, кто даже книжку читая.
Одна витрина заняла Нинку особенно, и она приостановилась: за стеклом, выгодно и таинственно освещенная бра, сидела совсем юная печальная гимназисточка в глухом, под горло застегнутом сером платьице. Тут Нинку и тронул за плечо средних лет толстяк навеселе:
— Развлечемся? Ты — почем?
Нинка брезгливо сбросила руку, сказала яростно, по-русски:
— П-пошел ты куда подальше! Я туристка!
— О! Туристка! — выхватил толстяк понятное словцо. — Америка? Париж?
— Россия! — выдала Нинка.
— О! Россия! — очень почему-то обрадовался толстяк. — Если Россия — пятьсот марок! — и показал для ясности растопыренную пятерню.
— Ф-фавён! — шлепнула Нинка толстяка по роже, впрочем — легонько шлепнула, беззлобно. — Я же сказала: ту-рист-ка!
— Извини, — миролюбиво ответил он. — Я чего-то не понял. Я думал, что пятьсот марок — хорошие деньги и для туристки, — и пофланировал дальше.
— Эй, подруга! — окликнула Нинку на чистом русском, приоткрыв витрину напротив, немолодая, сильно потасканная женщина, в прошлом без сомнения — статная красавица. — Плакат видела? Frau und Kinder — verboten! Очень можно схлопотать. А вообще, — улыбнулась, — давненько я землячек не встречала. Заваливай — выпьем…
Нинка улыбнулась в ответ и двинула за землячкою в недра крохотной ее квартирки.
Стоял серенький день. Народу на улице было средне. Нинка сидела у окна и меланхолично глядела на улицу. Сергей валялся на тахте с книгою Достоевского. На комнатке лежала печать начинающегося запустения, тоски. Ни-ще-ты.
— Может, вернешься в Россию? — предложила вдруг Нинка.
Сергей отбросил книгу:
— Ненавидишь меня?
Хотя Нинка довольно долго отрицательно мотала головою, глаза ее были пусты.
Мимо окна, среди прохожих, мелькнула стайка монахинь.
Нинка слегка оживилась:
— Где ряса?
— На дне, в сумке. А зачем тебе?
— Платье сошью, — и Нинка полезла под тахту.
— Ну куда ты хочешь, чтоб я пошел работать?! Куда?! — взорвался вдруг, заорал, вскочил Сергей. — Я уже все тут оббегал! Ты ж запрещаешь обращаться к Отто!
Нинка обернулась:
— Бесполезно. Я у него уже была…
— Была? В каком это смысле?! — в голосе Сергея зазвучала угроза.
— Надоел ты мне страшно! — вздохнула Нинка и встряхнула рясу. — В каком хочешь — в таком и понимай…
Было скорее под утро, чем заполночь. Нинка выскользнула из такси, осторожно, беззвучно прикрыв дверцу, достала из сумочки ключ, вошла в комнату; разделась, нырнула под одеяло тихо, не зажигая света, но Сергей не спал: лежал недвижно, глядел в потолок и слезы текли по его лицу, заросшему щетиной.
— Ну что ты, дурачок! Что ты, глупенький! — принялась целовать Нинка сожителя, гладить, а он не реагировал и продолжал плакать. — Ну перестань! Я же тебя люблю. И все обязательно наладится.
— Я не верю тебе, — произнес он, наконец, и отстранился. — Никакая ты не ночная сиделка. Ты ходишь… ты ходишь на Риппер-бан!
— Господи, идиот какой! С чего ты взял-то?! — и Нинка впилась губами в губы идиота, обволокла его тело самыми нежными, самыми нестерпимыми ласками.
Сергей сдался, пошел за нею, и они любили друг друга так же почти, как в залитом африканским солнцем иерусалимском номере, разве что чувствовался в немом неистовстве горький привкус прощания.
Когда буря стихла, оставив их, лежащих на спинах, словно выброшенные на пляж жертвы кораблекрушения, Сергей сказал:
— Но если это правда… Я тебя… вот честное слово, Нина… Я тебя убью.
Сейчас они сидели в витринах друг против друга, на разных сторонах переулка: гимназисточка и монахиня. Землячка привалилась к наружной двери, готовая продать билет… И тут из правого проходца возник Сергей: пьяный, слегка покачиваясь.
Нинка увиделаего уже стоящим перед ее витриною, глядящим собачьим, жалостным взглядом, но не шелохнулась: как сидела, так и продолжала сидеть.
Землячка обратила внимание на странного прохожего:
— Эй, господин! Или заходи, или чеши дальше!
— Что? — очнулся Сергей. — Ах, да! извините, — и, опустив голову, побрел прочь.
Землячка выразительно крутанула указательным у виска.
— Зачем? — шептала Нинкав витрине. — Зачем ты поперся сюда, дурачок?..
Один ночной бар (двойная водка), другой, третий, и из этого, третьего, старая, страшненькая жрица любви без особого труда умыкает Сергея в вонючую гостиничку с почасовой оплатой…
На сей раз придерживать дверцу такси нужды не было: окна мягко светились, да и не мог Сергей Нинку не ждать.
Она замерла на мгновенье у двери, собираясь перед нелегким разговором, но, толкнув ее, любовника не обнаружила. Шагнула в глубь квартиры и тут услышала за спиною легкий лязг засова, обернулась: Сергей, не трезвый, а победивший отчасти и на время усилием воли власть алкоголя, глядел на нее, сжимая в руке тяжелый, безобразный пистолет системы Макарова.
— Где ты его взял? — спросила почему-то Нинка и Сергей почему-то ответил:
— Купил. По дешевке, у беглого прапора, у нашего. Похоже, нашими набит сейчас весь мир.
— Понятно, — сказала Нинка. — А я-то все думаю: куда деваются марочки? — и пошла на любовника.
— Ни с места! — крикнул тот и, когда она замерла, пояснил, извиняясь: — Если ты сделаешь еще шаг, я вынужден буду выстрелить. А я хотел перед смертью кое-что еще тебе сказать.
— Перед чьей смертью?
— Я же тебя предупреждал.
— Вон оно что! — протянула Нинка. — Ну хорошо, говори.
Сергей глядел Нинке прямо в глаза, ствол судорожно сжимаемого пистолета ходил ходуном.
— Ну, чего ж ты? Давай, помогу. Про то, как я тебя соблазнила, развратила, поссорила с Богом. Так, правда? Про то, как я затоптала в грязь чистую твою любовь. Про то, как сосуд мерзости, в который я превратила свое тело…
— Замолчи! — крикнул Сергей. — Замолчи, я выстрелю!
— А я разве мешаю?
Сергей заплакать был готов от собственного бессилия.
Нинка сказала очень презрительно:
— Все ж ты фавён, Сереженька. Вонючий фавён, — и пошла на него.
Тут он решился все-таки, нажал гашетку.
Жизненная сила была в Нинке необыкновенная: за какое-то мгновенье до того, как пуля впилась чуть выше ее локтя, Нинка глубоко пригнулась и бросилась вперед (потому-то и получилось в плечо, а не в живот, куда Сергей метил), резко дернула любовника за щиколотки. Он, падая, выстрелил еще, но уже неприцельно, а Нинка, собранная, как в вестерне, успела уловить полсекундочки, когда рука с пистолетом лежала на полу, и с размаха, коленкой, ударила, придавила кисть так, что владелец ее вскрикнул и «Макарова» поневоле выпустил.
Сейчас Нинка, окровавленная, вооруженная, стояла над Сергеем, а он, так с колен и не поднявшись, глядел на нее в изумлении.
— Ты хуже, чем фавён, — сказала Нинка. — Я не думала, что ты выстрелишь. Ты — гнида, — и выпустила в Сергея пять оставшихся пуль. Поглядела долго, прощально на замершее через десяток секунд тело, перешагнула, открыла защелку и, уже не оборачиваясь, вышла на улицу.
Ее распадок выталкивал, выдавливал из себя огромное оранжевое солнце. С пистолетом в висящей плетью руке, с которой, вдоволь напитав рукав, падали на асфальт почти черные капельки, шла Нинка навстречу ослепительному диску.
На приступке, ведущей в магазинчик игрушек, свернувшись, подложив под себя гофрированный упаковочный картон и картоном же накрывшись, спал бродяга. Нинка склонилась к нему, потрясла за плечо:
— Эй! Слышишь? Эй!
Бродяга продрал глаза, поглядел на Нинку.
— Где есть полиция? — спросила она, с трудом подбирая немецкие слова. — Как пройти в полицию?
Звон колоколов маленькой кладбищенской церковки был уныл и протяжен — под стать предвечерней осенней гнилой петербургской мороси, в которой расплывался, растворялся, тонул…
Могилу уже засыпали вровень с землею и сейчас сооружали первоначальный холмик. Народу было немного, человек десять, среди них поп, двое монахов и тридцатилетняя одноногая женщина на костылях.
По кладбищенской дорожке упруго шагал Отто. Приблизился к сергеевой матери, взял под руку, сделал сочувственное лицо:
— Исфини, раньше не мог.
Отец Сергея, стоящий по другую сторону могилы, презрительно поглядел на пару.
Спустя минуту, Отто достал из кармана плаща пачку газет:
— Фот. Секотняшние. Ягофф прифёс, — и принялся их, рвущихся из рук, разворачивать под мелким дождичком, демонстрировать фотографии, которые год спустя попытается продемонстрировать монастырской настоятельнице белобрысая репортерша, бурчать, переводить заголовки: — Фсё ше тшорт снает какое они разтули тело. Писать им, тшто ли, польше не о тшом?! Или это кампания к сессии пунтестага? Проститутка-монашка упифает монаха-расстригу… М-та-а… Упийство в стиле Тостоефского… Русские стреляют посрети Хамбурка… Тотшно: к сессии! Как тебе нравится?
Ей, кажется, не нравилось никак, потому что была она довольно пьяна.
— Романтитшэские приклютшэния москофской парикмахерши, — продолжал Отто. — Фот, послушай: атвокат настаифает, тшто его потзащитная не преступила краниц тостатотшной опороны.
— Какой, к дьяволу, обороны?! — возмутился вельможа, обнаружив, что тоже слушал Отто. — Пять пуль и все — смертельные!
— Смиритесь с неизбежным, — резюмировал поп, — и не озлобляйте душ.
И за деревянным бордюром, в окружении полицейских, Нинка все равно была смерть как хороша своей пятой, восьмой, одиннадцатой красотою.
Узкий пенальчик, отделенный от зала пуленепроницаемым пластиком, набился битком — в основном, представителями прессы: прав был Отто: дело раздули и впрямь до небес. Перерывный шумок смолк, все головы, кроме нинкиной, повернулись в одну сторону: из дверцы выходили присяжные.
Заняли свое место. Старший встал, сделал эдакую вескую паузу и медленно сообщил, что они, посовещавшись, на вопрос суда ответили: нет.
Поднялся гам, сложенный из хлопанья сидений, свиста, аплодисментов, выкриков диаметрального порою смысла, треска кинокамер и шлепков затворов, под который судья произнес соответствующее заключение и распорядился освободить Нинку из-под стражи.
Она спокойно, высокомерно, словно и не сомневалась никогда в результате, пошла к выходу, и наглая репортерская публика, сама себе, верно, дивясь, расступалась, давала дорогу.
На ступеньках Дворца правосудия — и эту картинку показывала уже (покажет еще) белобрысая репортерша — Нинка остановилась и, подняв руку, привлекла тишину и внимание:
— Я готова дать только одно интервью. Тому изданию, которое приобретет мне билет до России. Я хотела бы ехать морем…
…И вот: помеченная трехцветным российским флагом «Анна Каренина» отваливает от причала в Киле, идет, высокомерно возвышаясь над ними, мимо аккуратных немецких домов, минует маяк и, наконец, выходит на открытую воду, уменьшается, тает в тумане.
Алюминиевый квадрат лопаты рушил, вскрывал, взламывал влажную флердоранжевую белизну, наполненный ею взлетал, освобождался и возвращался за новою порцией.
То ли было еще слишком рано, то ли монахини отдыхали после заутрени, только Нинка была во дворе одна, и это доставляло ей удовольствие не меньшее, чем простой, мерный труд.
Снег падал, вероятно, всю ночь и густо, ибо знакомый нам луг покрыт был его слоем так, что колеи наезженного к монастырским воротам проселка едва угадывались, что, впрочем, не мешало одинокому отважному «Вольво» нащупывать их своими колесами.
Отвага, впрочем, не всегда приводит к победе: на полпути к монастырю «Вольво» застрял и, сколько ни дергался, одолеть препятствие не сумел. Тогда, признавая поражение, автомобиль выпустил из чрева человеческую фигурку, которая обошла вокруг, заглянула под колеса, плюнула и, погружаясь в снег по щиколотки, продолжила неудавшийся машине путь.
Оказавшись у врат обители, фигурка, вместо того, чтобы постучать в них или ткнуться, пустилась собирать разбросанные здесь и там пустые ящики, коряги, даже пробитую железную бочку и, соорудив из подручного–подножного материала небольшую баррикаду у стены, вскарабкалась и застыла, наблюдая за работою одинокой монахини.
Снег взлетал и ложился точно под стеною, порция за порцией, порция за порцией. Нинка была румяна и прекрасна: физическая работа, казалось, не столько расходует ее силы, сколько копит.
Подняв голову, чтобы поправить прядь, Нинка увидела гостя и узнала: крутой-молодой, тот самый, который купил ее некогда за невероятные, баснословные тридцать тысяч долларов и от которого она умудрилась сбежать на вторую же ночь.
Какое-то время они глядели друг на друга, как бы разведывая взаимные намерения, пока крутой-молодой не улыбнулся: открыто и не зло.
Нинка улыбнулась тоже, одним движением сбросила черный платок-апостольник, помахала рукою и сказала:
— Привет!
(support [a t] reallib.org)