"Жизнь Марианны, или Приключения графини де ***" - читать интересную книгу автора (Мариво Пьер Карле де Шамблен де)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
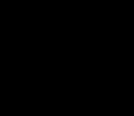 |
Да, сударыня, вы правы, давно уже вы ждете продолжения моей истории; прошу у вас за это прощения; извинений никаких приводить не стану, признаю свою вину и начинаю рассказ.
Я сказала, что постучали в дверь, как раз когда госпожа Дютур призывала меня соблюдать правила бережливости, соглашаясь, однако, чтобы я нарушала их в ее пользу, то есть на ее именины, на именины Туанон и мои собственные и в некоторые праздничные дни, ибо тогда с моей стороны будет очень хорошо потратиться на угощение ее самой и всех ее домочадцев.
Приблизительно так она мне говорила, но тут стук в дверь прервал ее наставления.
— Кто там? — тотчас крикнула она, не вставая с места.— Кто это стучится?
Я слышала, что перед лавкой остановилась карета, а когда на вопрос госпожи Дютур: «Кто там?» — ответили, я как будто узнала голос.
— Мне думается, это господин де Клималь,— сказала я.
— Да неужели! — воскликнула госпожа Дютур и побежала отворять.
Я не ошиблась, это действительно был он.
— Ах, боже мой, сударь, уж вы, пожалуйста, извините, я бы еще скорее отворила, если б могла предположить, что это вы,— затараторила госпожа Дютур.— Мы-то с Марианной еще сидели за столом, а кроме нас, никого в доме нет. Жанно (это ее сын) в гостях у своей тетки — ведь этот мальчишка вечно торчит у нее, особенно по праздникам, и сегодня она поведет его на ярмарку. Мадлон (это ее служанка) гуляет на свадьбе у родственника. Я ей сказала: «Иди, повеселись, не каждый день свадьбы», и уж она не скоро вернется. Туанон пошла мамашу навестить, старушка не часто ее видит. А они далеко живут, в предместье Сен-Марсо! Воображаете, сколько нашей Туанон придется пошагать? Ну, да это ничего, я очень довольна, а то девчонка совсем из дому не выходит. И вот я осталась одна, жду Марианну, а она, представьте себе, ухитрилась упасть, возвращаясь из церкви, и повредила себе ногу и по причине этого не могла идти, и пришлось ее перенести в чужой дом, что поблизости был, и там полечить ее ногу, позвать для этого лекаря, а его ведь под рукой то никогда не бывает; и вот он приходит, разувает девушку, смотрит, что стряслось, а потом опять обувает, а потом велит ей полежать, отдохнуть, а потом понадобилось позвать для нее фиакр, и ее привезли ко мне совсем охромевшую — верно, в награду за мои труды, за то, что я целых полтора часа ждала ее с обедом. Думаете — все? Сели за стол и пообедали? Не тут-то было! Еще навязался мне на шею этот проклятый извозчик. Я хотела сама с ним расплатиться, чтобы поберечь деньги Марианны, ведь она в таких делах ничего не понимает; а она, не спросясь меня, отдала ему деньги, да куда больше, чем надо! Я рассердилась. Уж до того рассердилась, так бы и отколотила ее, будь у меня силы.
— Так, значит, был большой шум? — сказал господин де Клималь.
— Ну, шум, конечно, был,— подхватила госпожа Дютур. — Я немножко погорячилась, покричала на него. Да ведь кто и слыхал-то? Соседи помаленьку собрались у нашей двери, да кое-кто из прохожих остановился.
— Очень жаль! — холодно заметил он.— Подобных сцен следует избегать всеми силами, и Марианна хорошо сделала, что заплатила ему. Как ваша нога? — добавил он, обращаясь ко мне.
— Ничего,— ответила я,— мне уже почти не больно, только слабость; надеюсь, что завтра все пройдет.
— Вы уже закончили обед? — спросил он нас.
— Да, да, конечно,— ответила госпожа Дютур,— просто задержались за столом, толковали о разных разностях. Не присядете ли, сударь? Вы что-то хотите сказать Марианне?
— Да,— ответил он,— мне надо с ней поговорить.
— Ну что ж,— подхватила госпожа Дютур,— будьте добры, пройдите в залу, здесь вам будет неудобно, здесь у нас и столовая и кухня. Пойдемте, Марианна, обопритесь на меня, я вас доведу. Погодите, погодите, я сейчас принесу аршин, вы воспользуйтесь им как тростью.
— Нет, нет,— сказал господин де Клималь,— я помогу ей. Возьмите меня под руку, мадемуазель.
Тут я встала, мы вернулись в лавку, через нее прошли в маленькую залу, куда, мне думается, я прекрасно добралась бы и сама, опираясь на палку.
— Ах, так! — говорила госпожа Дютур, пока я усаживалась в кресло.— Раз вам нужно побеседовать с Марианной, я сейчас надену чепчик и пойду в церковь; служба уж давно идет, но все-таки я хоть на кончике застану вечерню. До свидания, сударь. Уж не обессудьте, что я ухожу! Оставляю вас дом сторожить. Марианна, если кто- нибудь спросит меня, скажите, что я скоро вернусь. Слышите, милочка? До свидания, сударь, всегда к вашим услугам.
Она простилась с нами и через минуту вышла из дому; входную дверь она только прикрыла, а не заперла, зная, что из залы, где мы сидели, мы увидели бы всякого, кто войдет в лавку.
До этой минуты господин де Клималь, хранивший вид мрачный и задумчивый, не сказал мне и двух слов; казалось, он ждал, когда госпожа Дютур уйдет, и только тогда намеревался начать разговор; я, со своей стороны, по его смущению и замешательству догадывалась, о чем он будет говорить, и мне уже заранее было противно. «Наверняка станет объясняться в любви»,— думала я про себя.
Вспомните, что еще до моего приключения с участием Вальвиля я уже пришла к выводу, что господин де Клималь влюблен в меня, и я еще больше убедилась в этом после нашей встречи у его племянника. Святоша, покрасневший тогда до ушей и притворявшийся, будто он не знаком со мной, только потому был так смущен и так скрытничал, что совесть у него была нечиста. Он боялся, как бы не узнали про его грехи, и вы представить себе не можете, каким безобразным казался мне теперь этот старый греховодник, как тягостно мне было его присутствие.
Тремя днями раньше, открыв, что он влюблен в меня, я считала его только лицемером и думала: пусть себе будет кем угодно, все равно ничего он от меня не добьется; но теперь я этим не ограничивалась, у меня уже исчезло спокойное равнодушие к нему. Его чувства меня коробили, возмущали, мне тошно было думать о них. Словом, он стал теперь совсем другим человеком в моих глазах; после нежных речей племянника, молодого, привлекательного и любезного кавалера, дядя предстал передо мной таким, каким он и был в действительности и каким следовало его видеть; он сразу поблек, я не могла не замечать его старости, его морщин и всего уродства его души.
Какую глупую и смешную личину пришлось ему надеть на себя у Вальвиля! «Ну что мне он скажет теперь, этот старик, одержимый гнусной своей любовью, оскорбляющей господа бога? И уж не будет ли он молить меня, чтобы я стала такой же гадкой, как он,— в благодарность за те услуги, какие он мне еще окажет? — думала я.— Ах, как он мне противен! И как он сам-то в преклонные свои годы не считает себя мерзким? Быть таким старым, хранить благочестивый вид, слыть добрым христианином, а тайком нашептывать молоденькой девушке: «Не обращайте на это внимания, я всех обманываю, я люблю вас позорной любовью развратника и хотел бы и вас сделать распутницей!» Какой привлекательный любовник, не правда ли?
Вот что за мысли проносились в моей голове, пока он молча выжидал, чтобы госпожа Дютур ушла из дому.
Наконец мы остались одни.
— Какая болтливая женщина! — проговорил он, пожимая плечами.— Я уж думал, что нам не удастся от нее отделаться.
— Да, она любит поговорить. А впрочем, она не может себе представить, чтоб у вас были какие-то секреты со мной.
— Что вы думаете о нашей встрече у моего племянника? — бросил он, улыбаясь.
— Ничего не думаю,— ответила я.— Только то, что это просто случайность.
— Вы очень умно поступили, что не пожелали узнать меня,— продолжал он.
— Мне показалось, что вы сами этого не желаете,— ответила я.— Позвольте вас спросить, почему вы так довольны, что я не назвала вас по имени, и почему вы сделали вид, будто никогда меня прежде не видели?
— Дело в том,— ответил он вкрадчивым и ласковым тоном,— что и для вас и для меня лучше будет, чтобы никто не ведал о нашем близком знакомстве, которое будет длиться не один день. Нет никакой необходимости возбуждать толки, дорогая моя девочка. Вы так милы, и люди непременно решат, что я влюблен в вас.
— О, вам совершенно нечего бояться,— ответила я с простодушным видом.— Всем известно, что вы порядочный человек!
— Конечно, конечно,— ответил он как будто шутливо,— всем это известно, и все с полным основанием верят этому. Но, Марианна, можно быть порядочным человеком и полюбить молодую девицу.
— Когда я говорю «порядочный человек»,— ответила я,— то разумею под этими словами человека хорошего, благочестивого и действительно верующего. И мне кажется, такой человек не будет любить других женщин, кроме своей собственной жены.
— Но, дорогое дитя мое,— сказал он,— вы, значит, принимаете меня за святого? Не смотрите на меня с такой стороны, я совсем не святой, да и самому большому святому было бы весьма трудно сохранить возле вас свою святость,— судите сами, каково же другим? К тому же я вдовец, у меня больше нет жены, которой я должен хранить верность, мне не запрещено любить, я свободен. Но мы еще поговорим об этом, а сейчас возвратимся к несчастному случаю с вами. Вы упали, вас пришлось отнести к моему племяннику, к ветрогону, который начал с того, что наговорил вам всяких любезностей, верно? Во всяком случае, он говорил их вам, когда мы вошли — та дама и я. И в этом нет ничего удивительного, он увидел, что вы хороши собой, милы, очаровательны,— словом, обладаете великими прелестями, которые решительно всех пленяют; но так как я, разумеется, лучший ваш друг в целом свете (и надеюсь доказать вам это), признайтесь мне, милое дитя, не доставляло ли вам некоторую приятность слушать его речи? Мне показалось, что близ него вид у вас был довольный. Я не ошибся?
— Право, сударь, я слушала его, потому что оказалась у него в доме,— ответила я.— Иначе я и не могла поступить; но все его речи были весьма учтивы и благородны.
— Благородны? — повторил он.— Берегитесь, Марианна, может быть, вы уже несколько пристрастны к нему? Увы! Как мне жаль будет, если вы в вашем-то положении прельститесь подобными коварными любезностями! Ах, боже мой! Какая беда! И что станется с вами? Но скажите мне, он спрашивал у вас, где вы живете?
— Кажется, спрашивал, сударь,— ответила я, краснея.
— А вы, не зная, какие последствия это может повлечь за собою, разумеется, сообщили свой адрес? — добавил он.
— Я не стала чиниться,— сказала я,— он все равно бы это узнал — ведь, садясь в фиакр, надо сказать извозчику, куда ехать.
— Ах, я трепещу за вас! — воскликнул он с видом серьезным и сочувственным.— Да, трепещу! Ведь это весьма досадное происшествие, и оно будет иметь несчастные последствия, если вы не примете надлежащих предосторожностей. Он вас погубит, дитя мое! Я нисколько не преувеличиваю и буду твердить это неустанно. Увы! Как жаль, что при вашей прелести и красоте, которыми наделило вас небо, вы станете добычей молодого распутника, ведь он любить вас не будет, разве эти молодые сумасброды умеют любить? Разве есть у них сердце, нежные чувства, порядочность, характер? Они полны пороков и дают им волю, особенно с девушками вашего положения, а это положение мой племянник сочтет неизмеримо ниже своего — он будет смотреть на вас, как на хорошенькую простолюдинку, с которой недурно завести интрижку, и постарается вскружить вам голову. Ничего иного от него не ждите. Галантные любезности, приятные подарочки, нежнейшие заверения в любви, коим вы поверите, показные проявления мнимой страсти, кои вас соблазнят; вечное восхваление ваших чар; наконец, любовные свидания, от коих вы сперва будете отказываться, а затем согласитесь на них и кои вдруг прекратятся из-за непостоянства молодого возлюбленного и его охлаждения к вам,— вот что неизбежно воспоследует. Смотрите сами, подходит ли это вам. Да, да, я спрашиваю вас — разве это вам надо? У вас есть тонкость души и рассудок, и не может быть, чтобы вы иной раз не думали о своей судьбе, думали с тревогой и страхом. Пусть девушка молода, беспечна, неосторожна — все, что угодно, но не может же она забыть свое положение, когда оно так печально, так плачевно, как ваше; и вы же знаете, Марианна, я не преувеличиваю; вы сирота сирота, никому не нужная, сирота, у которой нет никого на свете, кто бы о ней тревожился и заботился, навсегда ей предстоит остаться неведомой своим родным, коих она и сама не знает, жить без близких, без всякого состояния, без друзей, за исключением меня одного, меня, коего вы узнали лишь случайно, кто один-единственный сочувствует вам и кто поистине питает к вам нежную привязанность,— в чем вам нетрудно убедиться, хотя бы по тому, как я говорю с вами и в чем вы при желании еще больше, бесконечно больше можете убедиться в дальнейшем; ведь я богат, скажу между прочим, и могу быть для вас крепкой опорой, если вы поймете собственные свои интересы и если я буду доволен вашим поведением. Говоря о вашем поведении, я имею в виду благоразумие, а не какую-то чрезмерную строгость нравов; тут и речи не может быть о жизни, скованной суровыми правилами, которую вам было бы трудно, а может быть, и невозможно вести,— вы даже и представить себе не можете некоторые обстоятельства. В сущности, я говорю сейчас с вами как светский человек, вы понимаете? То есть, как человек, убежденный, что ведь в конце концов людям надо жить и что необходимость — ужасная вещь. И вот, каким бы я вам ни казался врагом любви,— того, что называют любовью, я вовсе не являюсь противником каких бы то ни было сердечных симпатий; я не говорю вам: «Бегите всякой близости», есть связи полезные и разумные, а есть губительные и бессмысленные, какой оказалась бы и ваша близость с моим племянником, чья любовь привела бы только к тому, что он похитил бы у вас единственное сокровище, коим вы обладаете, и лишил бы вас привлекательности. Неужели вы пожелаете стать любовницей молодого вертопраха, которого вы любили бы искренне и нежно, что, конечно, доставило бы вам удовольствие, но и погубило бы вас, поскольку молодой развратник не отвечал бы вам такой же любовью и очень скоро бросил бы вас в нужде, в нищете, из которой вам было бы куда труднее выбраться, чем прежде; я говорю «в нищете», так как хочу открыть вам глаза и поэтому не стану смягчать истину. Вот о чем я думал с той минуты, как расстался с вами сегодня. Вот что заставило меня рано уйти из того дома, где я был на званом обеде. Мне много надо сказать вам, Марианна; я полон самых добрых чувств к вам; вы это, вероятно, заметили?
— Да, сударь,— ответила я со слезами на глазах, смущенная и даже рассерженная печальной картиной моего положения, которую он нарисовал, и возмущенная его корыстным желанием запугать меня.— Да, сударь, говорите, я слушаю вас, я считаю своим долгом во всем следовать советам такого благочестивого человека, как вы.
— Ах, оставим мое благочестие, прошу вас! — заметил он и с шутливым видом, пододвинувшись ко мне, взял меня за руку.— Ведь я уже вам сказал, в каком смысле я все это говорю вам. Повторяю, религию оставим в стороне: я совсем не собираюсь читать вам проповедь, дорогая моя, я обращаюсь к вашему рассудку; смотрите на меня как на человека здравомыслящего, который видит, что у вас нет ничего, а между тем вам надо добывать себе средства на всякие житейские нужды, вот разве только вы решитесь пойти в услужение; но мне кажется, вы очень далеки от такого решения; да и действительно, подобное ремесло совсем вам не подходит.
— Нет, сударь,— подтвердила я, раскрасневшись от гнева,— надеюсь, мне не придется дойти до этого.
— Конечно, это был бы печальный выход,— заметил он.— Я и сам думаю об этом с болью душевной,— ведь я люблю вас, мое дорогое дитя, очень люблю.
— Я в том уверена,— сказала я.— И я рассчитываю на вашу дружбу, сударь, так же как и на вашу добродетель, которой вы справедливо гордитесь,— добавила я, чтобы отбить у него дерзкое желание говорить яснее.
Но я ничего не выиграла.
— Э-э, Марианна,— ответил он,— ничем я не горжусь, я существо слабое, еще слабее других; а вы прекрасно знаете, что я подразумеваю под словом «дружба»; но вы, лукавая насмешница, хотите позабавиться и делаете вид, будто не понимаете меня. Да, я вас люблю, и вы это знаете; это для вас не новость, недаром вы держитесь начеку. Я люблю вас, и как не любить столь прелестное, столь очаровательное создание. Любовь, а не дружбу питаю я к вам, мадемуазель. Сперва я думал, что это только дружба; но я ошибался — это любовь, и притом нежнейшая. Поймите же, что я говорю именно о любви, вы ничего от перемены слов не потеряете, ваша судьба устроится не хуже: ни один друг не сравняется с таким возлюбленным, как я.
— Вы? Мой возлюбленный? — воскликнула я, опустив глаза.— Вы, сударь? Вот уж не ожидала!
— Увы, я и сам не ожидал,— проговорил он.— Это неожиданно и для меня, моя дорогая. Вы в таких несчастных обстоятельствах; я никогда не встречал девушку более достойную жалости и помощи, чем вы; я рожден с сердцем чувствительным к страданиям ближних и, оказывая вам поддержку, хотел быть лишь великодушным, лишь сострадательным, лишь благочестивым, раз вы меня таким считали; и правда, я обычно щедро делаю добро, стараюсь помочь как можно больше. Сначала я думал, что так же будет у меня и с вами; я поступил неосторожно, доверившись такой мысли, и был наказан по заслугам — уверенность моя рухнула. Но я не собираюсь оправдываться — я виноват; конечно, было бы куда лучше, куда более похвально не влюбляться в вас; мне следовало страшиться вас, бежать от вас, не протягивать вам руку помощи; но, с другой стороны, если бы я вел себя так осторожно, что сталось бы с вами, Марианна? В какой ужасной крайности вы оказались бы? Видите, как маленькая моя слабость или моя любовь (называйте, как хотите) пришлась для вас кстати. Как не сказать, что само провидение дозволило мне полюбить вас и потратиться на вас, чтобы вывести вас из затруднительного положения? Если б я думал только о своем спокойствии, у вас не было бы убежища, и эта мысль иной раз утешает меня, когда я раскаиваюсь в своих чувствах к вам; я меньше корю себя за них, ибо они были необходимы для меня, и к тому же они учат меня смирению. Это зло, но оно ведет к великому благу, к бесконечно великому благу; вы и представить себе не можете, сколь оно велико. Я вам говорил лишь о нужде, с которой вы очень скоро познакомитесь, если будете слушать моего племянника или какого-нибудь другого шалопая,— а за нуждой последует позор; ведь большинство мужчин, и особенно молодые кавалеры, не щадят таких девушек, как вы, когда бросают их; уж как они хвастаются своим успехом у этих бедняжек, до чего ж они нескромны, бесстыдники, как насмехаются над своими покинутыми любовницами,— пальцем на них указывают, говорят приятелям: «Вот она». О, судите сами, как обернется для вас это приключение: вы такая прекрасная, такая милая, а потому на вас-то и обрушится бесчестье. Ведь в подобных случаях самых прекрасных больше всего и позорят, как будто мстят за то, что они оказались достойны презрения. Но от девушки-красотки вовсе не требуют, чтоб у нее совсем не было любовников; не будь у нее возлюбленных, ей все равно их припишут, и ей даже лучше завести себе покровителя, лишь бы все оставалось шито-крыто и чтобы мужчины, видя ее, по- прежнему думали, что пользоваться ее милостями — великое удовольствие. А какое же это удовольствие, когда она окажется опозоренной. Но со мною вы можете быть спокойны за себя. Вы же должны чувствовать по моему характеру, что вашему доброму имени не грозит никакая опасность: мне совсем не интересно, чтобы все знали, что я вас люблю, а вы отвечаете мне взаимностью. Втайне, втайне хочу я исправить несправедливость судьбы, потихоньку обеспечить вам состояньице, которое навсегда даст вам возможность обойтись без помощи покровителей, совсем на меня не похожих, людей более или менее богатых, но скуповатых, которые влюблялись бы в вас без нежности, дарили бы вам достаток посредственный и временный, но требовали бы за это любви, которую вам приходилось бы терпеть, даже оставаясь в мастерской госпожи Дютур.
От его речей я почувствовала мучительную душевную боль, и мне так стало жаль себя за то, что я вынуждена выслушивать подобное наглое описание будущей своей участи, что я разразилась слезами и воскликнула:
— Боже мой! До чего же я дошла!
Думая, что мой возглас свидетельствует об испуге, вызванном его словами, господин де Клималь постарался меня утешить и, сжимая мне руку, сказал:
— Тише, тише, прелестная и дорогая детка, успокойтесь. Раз мы с вами встретились, вам не грозят те опасности, о которых я говорил. Конечно, без меня вы бы их не избежали, ибо нечего себя обманывать — вы совсем не рождены для того, чтобы гнуть спину над иголкой, ремесло белошвейки совсем не для вас, вы в нем не сделали бы никаких успехов, вы и сами это прекрасно чувствуете, я уверен. И даже если бы вы понаторели в нем, где вам взять денег для получения патента и звания мастерицы? Значит, вы всегда оставались бы подручной. И вот подумайте, разве могли бы вы заработать на все свои нужды?! Ведь нет? И что же остается делать такой красоточке, как вы, раз ей необходимо множество всяких вещей, а их у нее нет? Бедненькой остается лишь одно — соглашаться, чтобы мужчины, о коих мы говорили, помогали ей. А если вы на это пойдете, какое ужасное положение ждет вас!
— Ах, сударь,— плача, сказала я,— перестаньте! Имейте уважение ко мне и моей молодости. Вы знаете, что меня воспитала добродетельная женщина, и не для того же она меня растила, чтобы я слушала подобные речи. Я просто ушам своим не верю. Такой человек, как вы, оказывается, способен говорить ужасные вещи, пользуясь тем, что я бедна!
— Нет, дитя мое, нет,— ответил он, сжимая мне руки выше локтя.— Нет, вы вовсе не бедны, у вас будет некоторое состояние, так как я богат; я заменю вам родителей, коих вы потеряли. Успокойтесь, я хотел лишь внушить вам спасительный страх и показать, к каким благодетельным последствиям для вас привело то, что мы познакомились, и то, что я, сам того не замечая, почувствовал нежную склонность к вам; хоть она и несколько унизительна для меня, но я смиренно переношу сие маленькое унижение, ибо в нем есть нечто восхитительное; да, да, ведь от него зависел конец вашим несчастьям, ведь, несомненно, без этой нежданной склонности я не стал бы помогать вам с особой щедростью: я показал бы себя просто благодетелем, человеком добросердечным, какие обычно помогают бедным, а для вас это было бы недостаточно. Вам требовалось нечто большее. Вам надо было, чтобы я вас полюбил, воспылал любовью, именно воспылал; надо было, чтобы я не мог ее подавить, и, вынужденный уступить ей, я, по крайней мере, почел своим долгом искупить свою слабость, а для сего спасти вас от всех превратностей вашего положения; вот как я решил, дочь моя, и, надеюсь, вы сему противиться не станете; я рассчитывал даже, что вы не останетесь неблагодарной. Конечно, я признаю, между нами большая разница в годах, но имейте в виду, ведь я стар только по сравнению с вами, ибо вы очень молоды, а для всякой другой женщины я еще могу считаться мужчиной вполне приличного возраста,— добавил он хвастливым тоном, по-видимому уверенный в своей представительной наружности.— Ну-с, пока Дютур не вернулась, условимся, как нам действовать. Я уверен, что вы уже больше не собираетесь стать белошвейкой. С другой стороны, появился сумасброд Вальвиль, вы ему сказали, где вы живете, и уж он непременно постарается увидеться с вами; стало быть, надо избежать его преследований и скрыть от него нашу связь; а если вы останетесь здесь, он недолго будет в неведении; так что для вас выход только один: завтра же исчезнуть из этого квартала и поселиться в другом месте, что сделать нетрудно. Я знаю одного честного человека, которому иногда даю кое-какие поручения,— он, что называется, ходатай по делам при суде; жена у него весьма разумная особа, у нее есть хорошенький домик, где имеется отдельное помещение, которое снимал один провинциал, но сейчас он съехал: нынче же вечером я пойду и сниму для вас это помещение; вам будет там как нельзя лучше, в особенности оттого, что я за вас поручусь. Хозяева ваши — люди добрые и будут рады вам, сочтут за честь держать вас на квартире, тем более что и ваше появление у них я обставлю таким образом, чтобы вызвать к вам уважение: я представлю вас как свою родственницу, потерявшую и отца и мать, скажу, что я выписал вас из деревни и взял теперь на свое попечение; добавим к этому кругленькую сумму за содержание, которую вы станете им платить (ведь вы будете столоваться у них), наряды, которые они увидят на вас, обстановку, которую вы получите через два дня, учителей, которых я для вас найму (учитель танцев, учитель музыки — вы будете учиться играть на клавесине, если вам угодно), и, наконец, мое обращение с вами, когда я буду навещать вас,— и вы сделаетесь полной хозяйкой в их доме. Верно я говорю? Ну, чего ж колебаться? Не будем терять времени, Марианна. А чтобы подготовить Дютур к вашему уходу, скажите ей нынче вечером, что вы не чувствуете себя пригодной для ремесла белошвейки и решили поступить в монастырь, куда вас завтра утром отвезут в десять часов утра; а соответственно с этими словами я пришлю за вами жену того человека, о котором говорил; она приедет за вами в карете и отвезет вас к себе в дом, где мы с вами встретимся. Ведь вы согласны, не правда ли? А не хотите ли вы, чтобы я для вашего поощрения, для доказательства моей добросовестности (ведь я вовсе не хочу беспокоить ваше сердечко требованием: «Верьте мне на слово»), не хотите ли вы, чтобы я в ожидании лучшего принес вам завтра небольшой договор на пятьсот ливров ренты? Ну, говорите же, прелестное мое дитя, говорите! Будете вы завтра готовы? Приехать за вами? Не правда ли?
Я сперва ничего не ответила; от столь явной гнусности я просто онемела и сидела неподвижно, опустив полные слез глаза.
— О чем задумались, дорогая моя Марианна? — спросил он.— Время не терпит. Сейчас вернется Дютур. Согласны вы? Поговорить мне сегодня с моим поверенным?
При этих словах я пришла в себя.
— Ах, сударь,— воскликнула я,— так вот вы какой, оказывается! Вы, значит, всех обманывали? Ведь тот монах, который привел меня к вам, сказал мне, что вы порядочный человек!
Слезы и вздохи не дали мне говорить дальше.
— Э-э, дорогое дитя,— ответил де Клималь.— Какие у вас неправильные понятия! Право же, сам этот монах, если бы он знал о моей любви вовсе не был бы так удивлен, как вы воображаете, и не меньше, чем прежде, уважал бы меня, он вам сказал бы, что такие невольные чувства могут возникнуть у людей самых порядочных, самых рассудительных, самых благочестивых, он вам сказал бы, что даже монах, при всем своем ангельском чине, не посмел бы поручиться за себя и заверить, что уж он-то никогда не будет ведать таких волнений. Не обращайте же их в чудовищную вину, Марианна,— добавил он, незаметно склоняя колено передо мной,— не думайте что сердце мое менее искренне, менее достойно великого доверия оттого что оно полно нежности. Это ведь совсем не касается честности; я уже говорил вам, слабость не преступление и такой слабости подвержены прекраснейшие сердца вы узнаете это по собственному опыту. Вы говорите что монах привел вас ко мне как к человеку добродетельному но я и был добродетельным и до сих пор остаюсь им а если б оказался менее добродетельным то может быть, и не полюбил бы вас. Ведь именно ваши несчастья и моя природная добродетель способствовали моей склонности к вам; именно потому, что я исполнен великодушия и слишком большого сострадания к вам я и полюбил вас. Вы меня упрекаете за это, а ведь вас будут любить другие которые меня не стоят, и вы примете их любовь, хотя она не улучшит вашей судьбы! Меня же вы отталкиваете, тогда как благодаря мне вы избавитесь от всех огорчений, от всякого бесчестья, грозящего вам в вашей жизни, вы отвергаете меня, чья нежность (говорю это без всякой гордости) для вас истинный дар судьбы, ибо небо, по воле коего все совершается, ныне хочет через мое посредство изменить вашу участь!
И когда он дошел до этих слов в своей речи небо, которое он дерзнул сделать, так сказать, своим сообщником, покарало его внезапным появлением Вальвиля хорошо знавшего, как я уже указывала, госпожу Дютур. Войдя в ее лавку, он прошел в залу где мы находились, и застал моего воздыхателя как раз а той самой позе в какой два-три часа тому назад его самого увидел господин де Клималь,— я хочу сказать, что дядюшка тоже стоял передо мною на коленях, держал меня за руку, которую я пыталась отдернуть, и покрывал ее поцелуями словом, реванш племянника был полный.
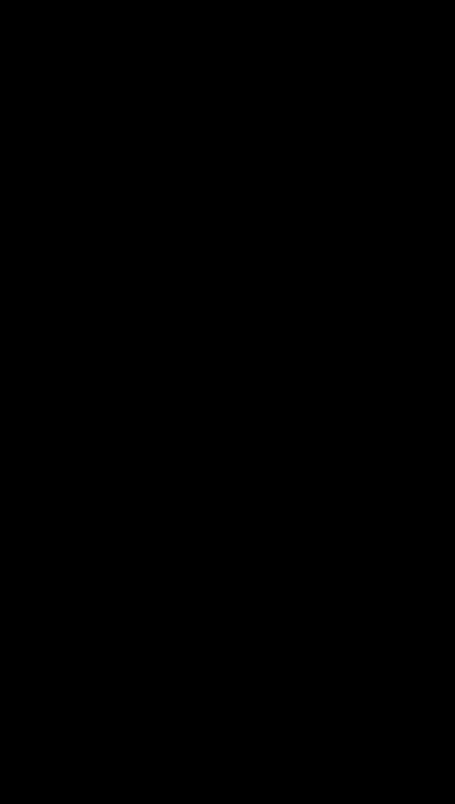 |
Я первая заметила Вальвиля, в ответ на удивленный жест, вырвавшийся у меня, господин Клималь повернул голову и тоже увидел его.
Сами посудите, что сталось тогда с ним, он оцепенел с открытым ртом, застыл в своей злополучной позе. Как стоял на коленях, так и остался. Куда девалась его бойкость, самоуверенность, его говорливость! Никогда уличенный лицемер так плохо не скрывал свой стыд и так легко не выставлял его на посмешище, так не терялся под бременем своих подлостей и не признавался так откровенно, что он негодяй. Сколько бы я ни старалась, мне не обрисовать, каким он был в эту минуту.
Что касается меня, то, поскольку мне не в чем было себя упрекнуть, я больше была раздосадована, чем растеряна из-за этого события. Я хотела что-то сказать, как вдруг Вальвиль, бросив довольно презрительный взгляд на меня, а затем холодно посмотрев на своего сконфуженного дядюшку, спокойно и пренебрежительно сказал:
— Ну и хороши же вы, мадемуазель! До свидания, сударь, прошу прощения за свою нескромность! — И он исчез, еще раз метнув в меня дерзкий взгляд, исчез как раз в то мгновение, когда господин де Клималь поднялся с колен.
— Что это значит: «Ну и хороши же вы, мадемуазель!» — вскочив, крикнула я.— Остановитесь, сударь, остановитесь! Вы ошибаетесь, вы напрасно обвиняете меня. Вы несправедливы.
Но, сколько я ни кричала, он не вернулся.
— Бегите же за ним, сударь,— сказала я тогда дядюшке, который, весь еще трепеща, дрожащими руками натягивал себе на плечи плащ (на нем был плащ).— Бегите же за ним, сударь. Ужели вы хотите, чтобы я стала жертвой ошибки? Что он теперь подумает обо мне! За кого он меня примет! Боже мой, как я несчастна!
У меня слезы лились из глаз, я была так оскорблена, что готова была сама броситься за племянником, хотя он уже вышел на улицу.
Но дядюшка преградил мне путь.
— Что вы хотите делать? — сказал он.— Не ходите никуда, мадемуазель, не беспокойтесь. Я знаю, какой оборот придать этому происшествию. Да, впрочем, какое вам дело до того, что подумает какой-то юный глупец, которого вы больше и не увидите никогда, если пожелаете?
— Что? Какое мне дело? — с горячностью воскликнула я — Да ведь он знаком с госпожой Дютур и поделится с ней своим мнением об этой картине. А ведь я больше часа беседовала с ним и, следовательно, он везде узнает меня! Сударь, ведь он каждый день может встретить меня где- нибудь. Может быть, завтра встретит! Разве он теперь не станет презирать меня? Не будет глядеть на меня, как на падшую женщину? И все из-за вас, тогда как я благонравная девушка и готова лучше умереть, чем лишиться чистоты. Нет у меня ничего, кроме моей чистоты, и вдруг станут думать, что я лишилась ее! Нет, сударь, я в отчаянии! Какое горе, что я познакомилась с вами, это самое большое несчастье, какое могло случиться со мной! Пустите, дайте же мне пройти, я непременно хочу поговорить с вашим племянником и во что бы то ни стало сказать ему, что я невинна. Ведь это же несправедливо, что вы хотите обелить себя за мой счет. Зачем вы притворяетесь благочестивым, раз вы совсем не такой? Противно мне ваше лицемерие!
— Ах вы, неблагодарная девчонка! — побледнев, ответил де Клималь.— Так-то вы платите за мои благодеяния? Кстати сказать, что это вам вздумалось говорить о своей невинности? Кто это хотел посягнуть на нее, на вашу невинность? Разве я говорил о чем-либо ином, кроме того, что питаю некоторую склонность к вам, но вместе с тем я себя упрекал за нее, сердился на себя, сознавал, что она несколько унижает меня, смотрел на нее, как на греховное чувство, в коем винил себя и хотел, чтобы оно обернулось в вашу пользу, ничего не требуя от вас за это, кроме крупицы признательности. Разве я не говорил вам все это и в таких же самых словах? Есть ли в моих намерениях и действиях что-либо предосудительное?
— Хорошо, сударь,— сказала я ему,— раз таковы были ваши намерения и раз вы так благочестивы, не допускайте же, чтобы это происшествие причинило мне вред; поведите меня к вашему племяннику, пойдемте к нему сейчас же и объясните ему все, как оно есть, чтобы он не судил дурно ни о вас, ни обо мне. Когда он вошел, вы держали меня за руку, и, кажется даже, вы целовали ее против моей воли; вы стояли на коленях; как же вы хотите, чтобы он все это принял за благочестие и не подумал бы, что вы мой возлюбленный, а я ваша любовница, если только вы не постараетесь разуверить его в этом? Необходимо, совершенно необходимо поговорить с ним, хотя бы ради меня,— вы обязаны позаботиться о доброй моей славе и избежать скандала, иначе вы прогневите бога; а когда вы исполните мою просьбу, то увидите, что у меня самое чувствительное в мире сердце, что никто не будет вас так любить, почитать, как я, и питать к вам такую признательность. И вы можете тогда благодетельствовать мне, сколько угодно и как угодно. Я поеду в то место, в какое вы укажете, и буду во всем повиноваться вам; я буду счастлива, что вы заботитесь обо мне, что вы, по милосердию своему, не покидаете меня,— лишь бы теперь вы не делали тайны из этого милосердия, которое я готова принять, и лишь бы вы без промедления пошли сейчас и сказали господину де Вальвилю: «Племянник, вы не должны дурно думать об этой девушке; она бедная сирота, которой я помогаю по доброте своей и по долгу христианина; и если я сегодня у вас в доме сделал вид, будто не знаю ее, то поступил так потому, что не хотел предавать гласности свое благодеяние». Вот и все, чего я требую от вас, сударь. Прошу у вас прощения за обидные для вас слова, которые вырвались у меня сгоряча. Я искуплю их глубокой покорностью. Так вот, лишь только госпожа Дютур возвратится, мы с вам тотчас отправимся. Предупреждаю, если вы не пойдете, я пойду одна.
— Идите, девчонка, идите! — ответил он, и видно было, что этот бессовестный человек уже совсем не заботился о моем уважении и не страшился, что я буду его презирать.— Я нисколько вас не боюсь, вы не можете мне навредить. А вот вам, хоть вы и угрожаете мне, надо поостеречься, как бы я не рассердился, не то худо вам будет, слышите? Больше я ничего не скажу. Только не пришлось бы вам раскаяться, что слишком много вы наговорили. Прощайте, больше на меня не рассчитывайте, я прекращаю свои даяния; найдутся и другие нуждающиеся, с душой более отзывчивой, нежели у вас, и будет справедливо оказать им предпочтение. У вас кое-что останется от моих щедрот, будет чем меня вспомнить: платья, белье и деньги. Я их оставляю вам.
— Нет! — сказала или, вернее, крикнула я.— У меня ничего не останется, я все вам верну начиная с денег,— к счастью, они при мне! Вот они! — добавила я, бросив на стол кошелек с деньгами быстрым и гневным движением, передавшим негодование чистого и гордого юного сердца.— А платья и белье я сейчас уложу, и вы увезете сверток с собой в карете, сударь. И так как некоторые ваши тряпки сейчас надеты на мне, а мне они так же противны, как и вы, я прошу вас обождать немного: я переоденусь в своей спальне и сейчас же вернусь. Подождите меня, иначе я, даю слово, выброшу все это в окно.
Выкрикивая гневные слова, я, заметьте это, вытаскивала шпильки, которыми приколот был чепчик, подаренный мне им, и, когда сняла его, осталась с непокрытой головой, с распустившимися волосами, а они были у меня прекрасные, ниже пояса, как я уже упоминала.
При этом зрелище он совсем потерялся, я себя не помнила от возмущения, не щадила ничего, я кричала во весь голос, волосы мои растрепались, и вся эта сцена вышла такая шумная, скандальная, что господин де Клималь встревожился, как бы она не принесла ему сраму.
Я побежала было в свою комнату собрать вещи, но господин де Клималь так испугался моего неистовства, что у него побелели губы, и, удерживая меня, он бормотал невнятные слова, которых я и не слушала:
— Да что с вами? Вы бредите?.. Зачем такой шум подняли? Безумие какое-то!.. Да подождите же... Будьте осторожнее...
И тут вернулась госпожа Дютур.
— Ой! Ой! Что это такое! — воскликнула она, увидев меня в растерзанном виде.— Что это значит? Это почему так? Пресвятая дева! На кого вы похожи! Что, она дралась, что ли, с кем, сударь? А где ее чепчик? На полу валяется! Подумайте только! Господи прости! Да что же это, боже ты мой! Кто-нибудь побил ее? — И, производя этот допрос, она подняла шуму еще больше, чем мы с господином де Клималем.
— Нет, нет! — проговорил он, торопясь ответить из страха, что я сама пущусь в объяснения.— Я сейчас скажу, в чем тут дело. Это просто недоразумение, досадная ошибка с ее стороны, и теперь я больше не могу оказывать ей никакой помощи. Я заплачу вам за те дни, что она прожила здесь, но за тот срок, какой она еще пробудет у вас, я уже не отвечаю.
— Как! — с встревоженным видом воскликнула госпожа Дютур.— Вы больше не будете платить за хлеба этой бедной девочки? Так как же вы хотите, чтобы я оставила ее у себя?
— Не бойтесь, сударыня, я совсем не хочу быть вам в тягость, и сохрани меня бог брать что-нибудь от этого человека,— вставила и я свое слово, не глядя ни на нее, ни на господина де Клималя, ибо я проливала горькие слезы, безотчетно забившись в кресло.
Тем временем господин де Клималь улизнул, и я осталась наедине с госпожой Дютур, которая в полном расстройстве чувств разводила руками от удивления и твердила.
— Какой кавардак! — Потом усевшись, сказала: — Ну и натворили вы дел, Марианна! Денег нет, платить за стол и квартиру никто не будет, содержать тебя никто не будет — устраивайся как знаешь. Ступай на улицу! Верно? Вот так передряга! Хорошенькое дело, нечего сказать! Да, плачьте теперь, плачьте! Попали вы в переделку. Экая дурья голова!
— Ах, оставьте меня, сударыня, оставьте меня! — ответила я.— Вы же знаете, в чем тут дело.
— А что тут знать? Разве я не знаю, что у вас нет ничего? А больше мне и знать нечего. Подумаешь, мудрость какая! А вот куда вам теперь деваться, сударыня? Вот что меня заботит, вот о чем я печалюсь. Из чистой дружбы, и только. Да если бы я могла прокормить вас, наплевать нам было бы на господина де Клималя. Ну его, скатертью дорожка! А вам бы я сказала: «Дочь моя, у тебя нет ничего, а у меня больше, чем надо, пусть он убирается на все четыре стороны, ты не тревожься, где есть на четверых, хватит и на пятерых». Но вот беда, хорошо иметь доброе сердце, да только далеко с этим не уедешь, верно? Времена тяжелые, ничего не продается, за квартиру и за помещение для лавки дерут втридорога, в кармане — так мало, что едва-едва хватит на прожитье до Нового года, да и то еще еле дотянешь.
— Будьте спокойны,— ответила я с горьким вздохом.— Завтра я съеду от вас во что бы то ни стало, уверяю вас. Я не вовсе без денег и отдам, сколько ва потребуете, за все то, что вы еще израсходуете на меня, пока я у вас живу.
— Экая жалость! — сказала госпожа Дютур.— Да как же это случилось, Марианна? Из-за чего у вас вышла эта досадная ссора? Ведь я же вас наставляла, советовала беречь такого человека!
— Не говорите мне о нем,— ответила я,— он негодяй. Он хотел, чтобы я съехала от вас и поселилась бы далеко отсюда, у какого-то его знакомого, вероятно, такого же хорошего человека, как он; жена этого знакомого должна была завтра утром приехать за мной. Так что, если б я не порвала с ним, если бы я сделала вид, что отвечаю на его чувства, как вы говорите, я все равно не осталась бы у вас, госпожа Дютур.
— Ах, так! — воскликнула она.— Вот он что затевал! Взять вас от меня и поселить на квартире у какой-нибудь мерзавки. Ах, вот оно что! Ловко придумал! Поглядите-ка на этого старого безумца, на старого хрыча с постной рожей! С виду ни дать ни взять святой апостол, хоть молись на него, а он сущий плут, хотел надуть меня. Да зачем же он собирался поселить вас в другом месте? Разве он не мог приходить к вам сюда? Кто бы ему помешал? Он сам себе хозяин; он же мне говорил, что решил сделать доброе дело и потому берет на себя заботу о вас. Ну, что ж, прекрасно. Я ему поверила. Мне-то что? Разве можно мешать человеку творить добро? Наоборот, приятно и самому тут принять участие. Не станешь ведь докапываться: а нет ли в этом добром деле чего-нибудь плохого? Один бог знает, чиста ли совесть у человека, и велит нам не судить ближнего своего. Чего ж он испугался? Пусть бы хаживал сюда, и все бы шло своим чередом. Раз он назвался добрым человеком, неужели я стала бы с ним спорить: «Нет, ты солгал!» Ведь у вас была своя комната? Была. Неужели я стала бы подглядывать да подслушивать, что он в ней наговаривает вам? Чего еще ему надо было? Экая фантазия ему пришла! Зачем вздумал перевезти вас в другое место, скажите на милость?
— Да он не хотел,— пренебрежительно заметила я,— чтобы господин де Вальвиль, к которому меня утром отнесли, приходил сюда меня навещать, ведь я сказала ему свой адрес.
— Ах, вот в чем дело! — заметила она.— Понимаю. Тогда не удивительно! Ведь господин де Вальвиль ему племянник, и уж он-то наверняка не принял бы «доброе дело» своего дядюшки за чистую монету, а сказал бы господину де Клималю: «Что вы делаете с этой девушкой?» Да разве он приходил, племянник-то?
— Только что вышел отсюда,— ответила я, не вдаваясь в подробности.— А когда он ушел, господин де Клималь рассердился, что я отказываюсь переехать завтра в ту квартиру, о которой он мне говорил, и стал упрекать меня за те подарки, какие я получила от него; и тут я решила все вернуть ему, вплоть до чепчика, и сняла его с головы.
— Ведь надо же, какая история вышла! Ну что за незадача,— упали вы как раз возле дома этого господина де Вальвиля! Боже мой! Да отчего ж это вы поскользнулись? Поосторожнее надо ходить, Марианна, смотреть, куда ногу ставишь. Видите, к чему ведет опрометчивость. А во-вторых, зачем было говорить этому племяннику, где вы живете? Разве девушке пристало давать мужчине свой адрес? И если нога подвернулась, так неужели девушка обязана докладывать, где она проживает? Ведь только из- за этого у вас сегодня и случилась беда!
Я не очень-то обращала внимание на ее слова и отвечала ей только из вежливости.
— Ну что ж, милая моя,— продолжала она.— Теперь уж тут помочь ничем нельзя. Подумайте и решайте, как вам быть. Ведь после того, что случилось, вам надо принять решение, и чем скорее, тем лучше. Я не потерплю скандалов в своем доме, нам с Туанон скандалы ни к чему. Я хорошо понимаю, что вы тут не виноваты, а все равно люди по-своему перевернут, каждый судит и сам не знает, что говорит, сплетен не оберешься: «А он кто? А она кто? Что между ними было да чего не было?» Это, знаете ли, неприятно; не считая того, что мы вам никто и вы нам никто; для какой ни на есть родственницы, будь она хоть седьмая вода на киселе,— еще туда-сюда, но ведь вы нам не родня — ни близкая, ни далекая, и никому не родня.
— Вы меня огорчаете, сударыня,— с живостью возразила я.— Ведь я же сказала, что съеду от вас завтра. Может быть, вы хотите, чтобы я сегодня уехала? Если угодно, я так и сделаю.
— Да нет, милочка, нет,— ответила она.— Есть же у меня рассудок, не такая уж я дикая! Если бы вы знали, как мне жаль вас, право, не стали бы сердиться на меня. Нет, вы переночуете здесь, поужинаете у меня чем бог послал. Денег ваших мне не надо; если мне представится случай оказать вам какую-нибудь услугу через моих знакомых, не стесняйтесь. А кроме того, я хочу вам кое-что посоветовать: отделайтесь вы от этого платья, которое вам подарил господин де Клималь. Теперь вам уже не пристало носить его, раз вы станете бедненькой девушкой, без всяких средств; платье окажется слишком красивым для вас; да и белье у вас такое тонкое, что всякий спросит, где вы его взяли. Поверьте мне, против такой миловидности, да еще в юных летах бедность и щегольство вместе не живут: бог весть что о вас люди наплетут. Значит, никаких нарядов — вот мое мнение; оставьте только те вещи, какие были у вас когда вы приехали сюда, а все остальные продайте.
Я сама у вас их куплю, если хотите; я не так уж за ними гонюсь, но вот решила приодеться,— и, чтобы доставить вам удовольствие, куплю для себя ваше платье. Я потолще вас, но вы ростом выше, а так как платье широкое, я его переделаю и постараюсь, чтобы оно мне послужило. Что касается белья, то я заплачу вам за него деньгами или дам взамен другое.
— Нет, сударыня,— холодно сказала я.— Ничего я не стану продавать — я решила и даже обещала все вернуть господину де Клималю.
— Ему?! — воскликнула госпожа Дютур,— Да вы с ума сошли. Уж я бы ему вернула, дожидайся! Как бы не так! Черта лысого он бы получил! Ни единой ниточки и в глаза бы не увидел. Вы что, смеетесь, что ли? Ведь это подаяние, он вам подарил это, верно? А что подарено, назад не отдают, вы же это хорошо знаете, милочка.
Она, вероятно, на этом бы не остановилась и все старалась бы, хотя и тщетно, обратить меня в свою веру, но тут пришла к ней по делу какая-то старушка, и, лишь только госпожа Дютур оставила меня в покое, я поднялась в нашу спальню, я говорю «нашу», потому что я разделяла ее с Туанон.
О своих чувствах к господину де Клималю больше говорить не стану; меня могла привязывать к нему лишь признательность, он больше не заслуживал ее: он стал мне противен, я смотрела на него, как на урода, и этот урод был мне глубоко безразличен, я даже не жалела, что он оказался таким мерзким. Я твердо решила вернуть ему его подарки и никогда больше не встречаться с ним. Этого оказалось достаточно — я уже почти и не думала о нем. Посмотрим теперь, что я делала в спальне.
Вы, наверное, предполагаете, что предметом моих размышлений было бедственное положение, в котором я осталась. Нет, это положение касалось лишь внешних обстоятельств жизни моей, а занимало мои мысли лишь то, что касалось меня самой.
Вы скажете, что я неверно провожу тут различие. Нисколько. Наша жизнь, можно сказать, нам менее дорога, чем мы сами,— то есть чем наши страсти. Стоит только посмотреть, какие бури бушуют порою в нашей душе, и можно подумать, что существование — это одно, а жизнь — совсем другое; жизнь наша складывается по воле случая, а существование присуще нам от природы. И если человек кончает жизнь самоубийством, он расстается с жизнью лишь для того, чтобы спастись, избавиться от чего-то невыносимого; невыносим же несчастному не он сам, но бремя, которое он несет.
Я вставила в свой рассказ это рассуждение, желая подтвердить то, что собираюсь сказать — а именно, что, уйдя к себе в спальню, я думала о предмете, занимавшем меня гораздо больше, чем мое положение,— предметом же моих размышлений был Вальвиль, иначе говоря, мои сердечные дела.
Помните, как этот племянник господина де Клималя, застав меня с ним, сказал: «Хороши же вы, мадемуазель!» А вы ведь знаете, что я полюбила Вальвиля; сами посудите, каково мне было услышать эти слова.
Во-первых, я была целомудренна; Вальвиль больше не верил этому, а Вальвиль был моим возлюбленным. Возлюбленный! Ах, дорогая, как женщина ненавидит возлюбленного в подобных случаях! Но как ей горько его ненавидеть! Потом, ведь Вальвиль теперь, наверно, разлюбит меня. Ах, недостойный! Да, разлюбит, но разве уж он так виноват? Этот де Клималь — человек пожилой, человек богатый; Вальвиль видит, что он стоит на коленях передо мной; я скрыла от него, что знаю де Клималя, а я бедна. На что это похоже? Какое мнение обо мне может быть у Вальвиля после всего этого? В чем я имею право его упрекать? Если он меня любит, естественно, что он считает меня преступной, и Вальвиль должен был сказать именно то, что сказал мне, ведь как ему было обидно, он питал уважение и склонность к девушке, которую теперь ему приходится презирать. Да, он и в самом деле теперь презирает меня, возводит на меня самое ужасное обвинение; не поколебавшись ни одного мгновения, он осудил меня, даже не захотел поговорить со мной. Ужели я могла бы простить этого человека? Ужели у меня хватило бы духу увидеться с ним! Нет, для этого надо быть бесхарактерной, не иметь никакой гордости. Пусть он питал подозрения, пусть он гневался, чувствовал себя обиженным — пожалуйста, это его дело. Но как он мог оскорбить меня пренебрежением, презрением, как мог уйти, слышать, что я зову его, и не вернуться? Он любил меня, а теперь, очевидно, не любит. Ах, да зачем мне думать о человеке, который так недостойно обманывается, так плохо меня знает! Да пусть он делает, что ему угодно; дядюшка ушел, пусть убирается и племянник. Один — сущий негодяй, а другой думает что я негодяйка. Стоит ли жалеть о таких людях?
«А что же сверток? Почему я его до сих пор не упаковала? — упрекнула я себя, вставая с кресла, на котором сидела, ведя с собою тот разговор, что вам сейчас передала.— Занимаюсь какими-то пустяками,— думала я,— а ведь завтра я уезжаю. Надо сегодня же отослать эти тряпки, а также деньги, которые дал мне на днях де Клималь?» (Деньги остались на столе, куда я их бросила, и госпожа Дютур чуть не силой положила кошелек мне в карман.)
И вот я отперла сундучок, чтобы достать оттуда новое белье, купленное мне де Клималем. «Да, господин де Вальвиль, да,— бормотала я, вынимая белье,— вы еще меня узнаете и будете судить обо мне правильно, как должно». Эти мысли преследовали меня, и, сама того не замечая, я скорее Вальвилю, чем его дядюшке, возвращала подарки, тем более что, отсылая белье, платья и деньги, я собиралась присоединить к посылке письмо, которое решила написать,— я полагала, что все это рассеет заблуждения Вальвиля и заставит его пожалеть о разлуке со мной.
Мне казалось, что у него благородная душа, и я уже заранее радовалась, представляя себе, как он будет горевать, зачем оскорбил девушку, столь достойную уважения, а мне смутно представлялись многие и многие причины, требовавшие почтительного отношения ко мне.
Прежде всего, за меня говорит беспримерное несчастье, постигшее меня, и то, что, несмотря на него, я осталась чиста и невинна, а ведь добродетель и несчастье так украшают друг друга! А кроме того, я молода и хороша собой, чего же еще? Все как по заказу для того, чтобы растрогать великодушного влюбленного, исторгнуть у него вздохи раскаяния в том, что он так оскорбил меня. Лишь бы мне повергнуть Вальвиля в уныние, и я буду довольна; а после этого я не хочу и слышать о нем. У меня возник хороший замысел: больше никогда не видеться с ним; я находила, что это будет с моей стороны красивым и очень гордым поступком; ведь я полюбила его, мне так радостно было видеть, что он заметил мою любовь, и вот, когда я, несмотря на это, порываю с ним, пусть хорошенько поймет, какое сердце он разбил.
А тем временем работа моя подвигалась, и, к вашему удовольствию, замечу, что, предаваясь столь возвышенным и мужественным мыслям, я, складывая белье, любовалась им и говорила себе (но так тихо, что и сама своего шепота не слышала): «А какое красивое белье!» Что означало: «Жаль с ним расставаться».
Мелочные сожаления, не делавшие чести моей гордой досаде, но что поделаешь! Я представляла себе, как бы приятно было надевать это нарядное белье, которое я перебирала сейчас, а великие жертвы даются нелегко; как бы они ни тешили наше сердце, мы бы с удовольствием обошлись без них. «Так что ж вы? Зачем лишили себя удовольствия?» — можно было бы в шутку сказать мне, но ведь если хочешь выглядеть высоким, надо выпрямиться во весь рост, а будешь ежиться да горбиться, покажешься маленьким. Ну, возвратимся к нашему повествованию.
Мне оставалось только сложить чепчик, так как, войдя в комнату, я положила его на стул у двери и позабыла о нем: в мои годы на девушку, расстающуюся со своими уборами, могла напасть рассеянность.
Так, я думала лишь о платье, которое тоже нужно было уложить,— я говорю о том платье, которое мне подарил господин де Клималь,— оно как раз было на мне, и, понятно, я не спешила снять его с себя. «Не надо ли еще чего-нибудь положить? — говорила я.— Все ли я собрала? Нет, еще деньги не положила». Деньги эти я вынула из кармана без всякого сожаления: я совсем не была скупой, а только тщеславной, поэтому у меня и не хватало мужества расстаться с красивым платьем.
Однако ж в конце концов только это платье и осталось уложить. Что ж мне делать? «Ну, прежде чем снять с себя новое платье, достанем-ка сначала старое»,— добавила я, все еще стараясь выиграть время. А старое платье, о котором я говорила, висело у меня перед глазами на вешалке.
И вот я встала, чтоб пойти за ним, но за краткий путь, потребовавший всего лишь двух шагов, гордое мое сердце смягчилось, слезы увлажнили глаза, и, не знаю уж хорошенько почему, я тяжело вздохнула,— может быть, горюя о себе, может быть, о Вальвиле, а может быть, о красивом своем платье. К какому из трех предметов грусти относился мой вздох, в точности не могу сказать.
Как бы то ни было, я сняла с крючка старое платье, все еще вздыхая, печально опустилась на стул. «Какая я несчастная! Ах, господи, зачем ты отнял у меня отца и мать!»
Быть может, я вовсе не то хотела сказать и упомянула о родителях для того, чтобы причина моего огорчения стала благороднее; ведь мы иной раз играем в прятки с самими собой, скрываем мелкие чувства, в которых не хотим признаться, называя их другими именами, и, быть может, я плакала лишь из-за своих нарядов. Как бы то ни было, после этого короткого монолога, который, несмотря на все мои горести, кончился бы переодеванием, я случайно бросила взгляд на чепчик, лежавший возле меня.
— Ну вот! — сказала я тогда.— Думала, что все уже сложила в узел, а тут еще чепчик.— Я даже и не подумала достать другой чепчик из своего сундучка и, причесавшись, надеть его. Хожу простоволосая. Так не хочется возиться!
А затем, переходя незаметно от одной мысли к другой, я вспомнила о старике монахе, своем покровителе. «Увы, бедняга! — сказала я себе.— Как он удивится, когда узнает обо всем этом!»
И тотчас же я решила, что мне надо увидеться с ним; времени нельзя терять; в моем положении это свидание — самое срочное дело; сверток с вещами можно послать и завтра. Право, какая я глупая, что столько хлопочу сегодня об этих противных тряпках (я назвала их «противными», желая уверить себя, что они совсем мне не нравятся). Даже лучше будет послать их завтра утром: Вальвиля застанут тогда дома, а сейчас он наверняка куда- нибудь ушел; оставим тут этот сверток, я его запакую, когда вернусь от монаха; нога у меня почти уже не болит; я потихоньку дойду до монастыря (а надо вам сказать, что в прошлый раз, когда монах приходил навестить меня, он объяснил мне дорогу).
Надо идти. Но какой же чепчик надеть? Какой? Да тот самый, который я сняла и который лежит теперь около меня. Не стоит рыться в сундучке и доставать другой, раз этот готов к моим услугам!
И к тому же, поскольку он гораздо наряднее и дороже моего чепчика, даже лучше будет надеть именно его и показать монаху — пусть он посмотрит и скажет, что у господина де Клималя, подарившего мне его, тонкий вкус и что из милосердия такие красивые чепчики бедным девушкам не покупают; ведь я собиралась рассказать все свое приключение этому доброму монаху,— он мне показался поистине хорошим человеком, а чепчик стал бы осязательным доказательством того, что я говорю правду.
А то платье, что было на мне? Право же, его тоже не следовало снимать: просто необходимо, чтобы монах увидел его — платье будет еще более веским доказательством.
И вот я без зазрения совести осталась в подаренном мне платье; так мне советовал рассудок; меня привела к этому решению неуловимая нить моих мыслей, и я снова воспрянула духом.
Ну, теперь причешемся и наденем чепчик! С этим делом я быстро управилась и сошла вниз, собираясь выйти из дому.
Госпожа Дютур разговаривала внизу с соседкой.
— Вы куда, Марианна? — спросила она.
— В церковь,— ответила я, и это почти не было ложью: церковь и монастырь приблизительно одно и то же.
— Очень хорошо, милочка,— сказала госпожа Дютур,— очень хорошо! Положитесь на святую волю господа бога. Мы вот с соседкой о вас беседовали: я говорила ей, что завтра закажу в церкви отслужить мессу за ваше благополучие.
И пока она сообщала мне это, соседка, видевшая меня два-три раза и до сих пор не очень-то меня замечавшая, смотрела на меня во все глаза, разглядывала с простонародным любопытством и в результате своего осмотра время от времени пожимала плечами и приговаривала:
— Бедняжечка! Прямо жалости достойно! Посмотреть на нее, так всякий скажет, что она из благородной семьи.
Но это было умиление дурного тона и лишенное искреннего сочувствия; поэтому я не стала благодарить эту женщину и поспешила проститься с обеими кумушками.
Со времени бегства господина де Клималя и до той минуты, как я вышла из дому, мне, по правде сказать, не приходили на ум разумные мысли. Я занималась тем, что презирала Клималя, сетовала на Вальвиля, любила его, замышляла планы против него, полные нежности и гордости, сожалела о своих нарядах, но о своем положении и не подумала, о нем у меня и вопроса не возникало, я нисколько о нем не тревожилась.
Но уличный шум развеял все пустые мысли и заставил меня подумать о самой себе.
Чем больше народу и движения я видела в этом чудном городе Париже, тем больше я как будто погружалась в пропасть безмолвия и одиночества; даже темный лес показался бы мне менее пустынным, я там чувствовала бы себя менее одинокой, менее затерянной. Из леса я бы как- нибудь могла выбраться, но как выйти из пустыни, в которой я оказалась? Да и весь мир был для меня пустыней, так как меня ничто и ни с кем не связывало.
Толпа людей, сновавших вокруг, их голоса и разговоры, шум, грохот проезжавших экипажей, зрелище множества жилых домов еще больше повергли меня в уныние.
«Все, что я вижу здесь, никакого отношения ко мне не имеет,— думала я, и через минуту уже говорила себе: Какие счастливцы эти люди,— у каждого есть пристанище! Настанет ночь, их уже здесь не найдешь, они разойдутся по домам, а я не знаю, куда мне идти, меня нигде не ждут, никто не станет обо мне беспокоиться, у меня есть убежище только на сегодня, а завтра его уже не будет».
Это было преувеличение, ведь у меня еще оставались кое-какие деньги, и в ожидании того часа, когда небо пошлет мне помощь, я могла снять комнату, но кто имеет пристанище лишь на несколько дней, может с полным правом говорить, что у него нет приюта.
Я передала вам почти все, что мелькало у меня в голове, пока я шла по улицам.
Однако я тогда не плакала; но от этого мне легче не было. В душе моей накапливались причины для слез, она впитывала все, что могло ее омрачить, она подводила итог своим несчастьям — минута для слез неподходящая: ведь слезы мы проливаем, лишь когда печаль всецело завладеет нами, и редко, очень редко мы плачем, когда она закрадывается в сердце, вот и мне в скором времени предстояло плакать. Последуйте за мной к монаху; я иду, на сердце у меня тяжело, одета я нарядно, так же как утром, но совсем уж и не думаю о своих уборах, а если и думаю, то без всякого удовольствия. Многие прохожие смотрят на меня, я замечаю это, но не радуюсь восхищенным взглядам; иногда я слышу, как кто-нибудь говорит своим спутникам: «Какая красивая девушка!» — но эти лестные слова меня не трогают: у меня нет сил проникнуться приятным чувством, которое они вызывают.
Иногда мелькает мысль о Вальвиле, но тут же я говорю себе, что теперь нечего и думать о нем: положение совсем неблагоприятное для сердечной склонности. Где же мне помышлять о любви? Хорошая любовь, завладевшая таким несчастным созданьем, как я, безвестным существом, которое бродит по земле, где ему тошно жить, потому что оно не хочет служить предметом отвращения или сострадания людей.
Наконец я прихожу в монастырь в таком упадке духа, что и выразить не могу; спрашиваю монаха, меня проводят в приемную, а там, оказывается, он занят с каким-то посетителем; и этот посетитель — подивитесь игре случая, сударыня! — не кто иной, как господин де Клималь. Он то краснеет, то бледнеет, завидев меня, а я не смотрю на него, словно никогда не была с ним знакома.
— Ах, это вы, мадемуазель,— сказал мне монах,— подойдите, я очень рад, что вы пришли, мы как раз беседовали о вас. Садитесь, пожалуйста.
— Нет, отец мой,— тотчас заговорил господин де Клималь, прощаясь с монахом.— Разрешите мне покинуть вас. После того что случилось, мне было бы просто неприлично остаться: разумеется, не потому, что я рассердился на мадемуазель Марианну, боже меня упаси, я ее прощаю от всего сердца и нисколько не питаю к ней зла за то, что она дурно думала обо мне, клянусь, отец мой! Напротив, я еще больше, чем прежде, желаю ей добра и благодарю господа за то, что при исполнении долга милосердия я подвергся с ее стороны тяжкой обиде; но я полагаю, что и благоразумие, и правила религии больше не позволяют мне видеть ее.
Проговорив все это, мой «благодетель» поклонился монаху и, что еще хуже, поклонился и мне, скромно потупив взор, а я лишь слегка склонила голову. Он уже собрался уйти, но монах взял его за руку и остановил.
— Нет, сударь, нет, дорогой мой,— сказал он,— не уходите, заклинаю вас. Выслушайте меня. Конечно, ваши чувства похвальны, весьма поучительны; вы ее прощаете, вы желаете ей добра — превосходно! Но позволю себе заметить, что вы больше не намереваетесь оказывать ей поддержку, что вы покидаете ее на произвол судьбы, хотя она нуждается в вашей помощи и хотя ее оскорбления придали бы еще больше заслуги вашему милосердию; ведь вы, как вам кажется, все еще питаете к ней сострадание и, однако, собираетесь прекратить свои благодеяния. Берегитесь, как бы чувство жалости не угасло в вашей душе. Вы, по вашим словам, благодарите господа за небольшое испытание, ниспосланное вам,— так вот, не хотите ли вы Действительно заслужить хвалу за смирение, проявленное вами в этом испытании, каковое вы правильно назвали милостью неба. Хотите вы быть поистине ее достойным? удвойте заботы ваши об этой бедной девочке, о несчастной сироте, которая, конечно, признает свою ошибку. К тому же она так молода и неопытна; быть может, ей вскружили голову комплиментами, и она из тщеславия, из робости и по самому своему целомудрию могла ошибиться относительно вас. Не правда ли, дочь моя? Разве вы не чувствуете себя виноватой перед господином де Клималем которому вы стольким обязаны? Ведь он отнюдь не смотрел на вас иначе, как по заветам господним, а своей святой привязанностью к вам, своими ласковыми и благочестивыми увещеваниями побуждал вас бежать от того, кто мог вовлечь вас во грех? Да будет благословен господь за то, что он ныне привел вас сюда! Ведь это к нам он привел ее, дорогой господин де Клималь,— вы же хорошо это видите. Ну, дочь моя, признайте же свою ошибку, с полной искренностью раскайтесь в ней и обещайте исправить ее доверием и признательностью. Ну что же вы? Подойдите,— добавил он, так как я по-прежнему держалась в стороне от господина де Клималя.
— Ах, сударь,— воскликнула я, обращаясь к святоше,— так это я виновата перед вами? Как вы можете слушать, когда про меня так говорят? Бог все видит, он вас рассудит. Я не могла ошибаться, вы это прекрасно знаете.
И в заключение я разразилась слезами.
Господин де Клималь, хоть он и был наглый лицемер не мог этого выдержать. Я видела, что на лице его отобразилось смущение, которое он даже не мог скрыть, и, опасаясь, как бы монах не заметил этого и не возымел подозрений против него, он прибегнул к хитрой уловке: решил показать наивное замешательство и признаться в нем.
— Я очень расстроен! — сказал он с целомудренно смущенным видом.— Я не знаю, что ответить. Ах, какое унижение! Отец мой, помогите мне перенести это испытание! Ведь повсюду распространятся слухи, эта бедная девочка везде начнет болтать, она меня не пощадит. Однако, дочь моя, вы окажетесь тогда весьма несправедливы. Но да будет воля господня! Прощайте, отец мой. Поговорите с ней, постарайтесь, по возможности, разубедить ее. Правда, я выказывал нежность к ней, а она поняла это по-другому; меж тем я любил ее душу, я люблю ее душу еще и сейчас, и душа ее заслуживает любви. Да, отец мой, сия девица добродетельна, я открыл в ней множество добрых качеств, и я прошу вас оказать ей покровительство, так как мне теперь невозможно вмешиваться в то, что ее касается.
После этих слов он удалился, поклонившись на сей раз только монаху, который с растерянным видом, ответив на его поклон, смотрел ему вслед, пока господин де Клималь не вышел из приемной, потом, повернувшись ко мне, сказал, чуть не плача:
— Дочь моя, вы меня огорчаете, я очень недоволен вами: в вас нет ни покорности, ни признательности, вы верите всему, что взбредет вам в головку,— и вот что случилось! Ах, вы оттолкнули такого почтенного человека! Великая потеря для вас! Ну, что вы от меня хотите? Нечего вам теперь и обращаться ко мне, право, нечего. Какую услугу я могу вам теперь оказать? Я сделал все, что мог; если помощь не пошла вам на пользу, это уж не моя вина и не вина того благодетеля, которого я нашел для вас и который обращался с вами, как с родной своей дочерью; ведь он мне все сказал — он, оказывается, вас снабдил и платьями, и бельем, и деньгами, платил за ваше содержание, собирался платить и дальше, даже имел намерение устроить вас самостоятельно, как он меня заверил; но так как он не желал, чтобы вы виделись с его племянником, легкомысленным и распутным повесой, и желал отвести от вас страшную опасность такого знакомства, которое вы, однако, хотели поддерживать, вы с досады измыслили, что этот благочестивый и добродетельный человек ревнует вас. Какая дичь! Он — и вдруг ревнует вас! Он — и вдруг влюблен в вас! Бог накажет вас за такие мысли, дочь моя; лукавое ваше сердце подсказало их вам, и бог накажет вас, попомните мое слово.
Пока он говорил, я все плакала.
— Выслушайте меня, отец мой,— рыдая, ответила я.— Выслушайте меня.
— Ну что? Что вы мне скажете? — сказал он.— Какие такие дела были у вас с этим молодым человеком? Почему вы упорно желали видеться с ним? Что за поведение! Ну, допустим, можно простить вам это сумасбродство, но довести оскорбление и мстительность до того, чтобы оклеветать такого почтенного человека, которому вы всем обязаны, оказаться такой к нему неблагодарной, так озлобиться против него — да что же с вами станется при подобных недостатках? Что за несчастье иметь такой характер! Право же, ваше поведение меня возмущает. Посмотрите, какая вы нарядная, просто прелесть! Ну кто скажет, что у вас нет родителей и никаких родных? Да если б у вас таковые и были, да притом богатые, разве они лучше нарядили бы вас? Боже, как мне вас жаль! Добрый человек ни в чем вам не отказывал...
— Ах, отец мой,— воскликнула я,— вы правы, но не осуждайте меня, пока не выслушаете! Я совсем не знаю его племянника, я видела его только раз, да и то случайно, и вовсе не стремилась еще раз увидеть его, даже и не думала об этом: что у меня общего с ним? Я вовсе не сумасбродка, господин де Клималь вас обманывает; совсем не из-за этого я порвала с ним, не думайте. Вы вот говорите о моем платье, оно даже слишком нарядное, я была этим удивлена, и вы сами тоже удивляетесь. Постойте, отец мой, подойдите поближе, посмотрите, какой тонкий у меня чепчик, я совсем не хотела такого белья, мне неприятно было брать его, особенно из-за того, как он перед этим держал себя со мною. Но сколько я ни твердила: «Не хочу такого белья»,— он смеялся над мною и отвечал мне: «Слушайте, посмотритесь в зеркало и тогда уж решайте, слишком ли красив для вас чепчик». Да будь вы на моем месте, что бы вы подумали, слыша такие речи, отец мой? Скажите правду. Если господин де Клималь такой благочестивый, такой добродетельный, как вы говорите, что ему за дело до моего лица? Хорошенькая я или безобразная, не все ли ему равно? А когда мы ехали с ним в его карете, он в шутку называл меня плутовкой и шептал мне на ухо пожелания, чтобы у меня сердце было посговорчивее, а для сего предложил оставить мне в залог свое собственное сердце. Почему он все это говорил? Что это значит? Разве набожные люди ведут с девушками разговоры об их сердце и предлагают в залог собственное сердце? И разве позволяют они себе целовать девушку, как это попытался сделать в карете господин де Клималь?
— Целовать? Да как же это, дочь моя? Целовать? Вы не думаете, что говорите! Как же это? Запомните, таких вещей никогда нельзя говорить. Ведь этого же не было! Кто вам поверит? Перестаньте, дочь моя, вы ошибаетесь. Ничего этого не было! Это невозможно. Целовать? Вам привиделось! Бедный! Бедный человек! Карету трясло, и при каком-нибудь толчке его голова столкнулась с вашей головой — вот и все, что могло быть, а вы при вашей досаде на него приняли это за поцелуи. Когда ненавидишь человека, все понимаешь шиворот- навыворот.
— Ах, отец мой, за что же мне было ненавидеть его? — ответила я.— Я тогда еще и не видела его племянника, из- за которого, как уверяет господин де Клималь, я рассердилась на него, ни разу его не видела. Если я ошиблась на счет поцелуя — вы ведь мне не верите,— то разве господин де Клималь потом не подтвердил мою мысль? Ведь у госпожи Дютур он опять принялся за свое, и у меня в комнате все трогал, гладил и хвалил мои волосы, брал меня за руку и поминутно подносил ее к губам, наговаривая комплименты, от которых мне становилось стыдно.
— Полноте... полноте... Что вы там рассказываете, мадемуазель? Осторожнее, пожалуйста, осторожнее,— говорил мне монах скорее удивленно, чем недоверчиво.— Трогал ваши волосы? Хвалил их? Господин де Клималь? Он? Ничего не понимаю. Да что ж это ему взбрело? Конечно, он мог бы обойтись без таких повадок. Признаюсь, рассеянность просто неприличная, не подобает трогать девичьи косы, он, видно, сам не замечал, что делает. Но все равно, так вести себя не годится.
— А почему ж он то и дело брал меня за руку? Это что? Тоже рассеянность?
— О, за руку брал? — заговорил опять монах.— За руку брал ? Уж я и не знаю, что это значит. Очень многие люди берут человека за руку, когда ведут с ним разговор. Может быть, и у господина де Клималя такая же привычка. Я уверен, что мне и самому случалось брать собеседника за руку.
— Ну, хорошо, пусть так, отец мой,— заметила я.— Но когда вы брали руку девушки, вы не целовали ее несчетное количество раз, вы не говорили девушке, что у нее прехорошенькие ручки, вы не становились перед ней на колени, не объяснялись ей в любви.
— Ах, боже мой! — воскликнул монах.— Ах, боже мой! Замолчите! У вас не язычок, а просто змеиное жало. Вы говорите ужасные вещи, вам их дьявол внушает, да, именно дьявол. Ступайте, уходите отсюда, я больше не желаю вас слушать. Ничему я не верю — ни про волосы, ни про руку, ни про недостойные речи. Все это выдумки! Оставьте меня. Ах вы, маленькое опасное созданье! Вы меня страшите! Что это такое, подумайте! Сказать про господина де Клималя, про человека праведной жизни, посвятившего себя господу богу, сказать про него, что он встал перед ней на колени и объяснялся ей в любви. О, боже, до чего же мы дошли!
Он говорил это, молитвенно сложив руки, и видно было, что мои слова перепугали его, что он изо всей мочи отбрасывает подобные домыслы, борясь с искушением рассмотреть их.
Я же, выйдя из себя из-за его пристрастного отношения ко мне, вся в слезах, отвечала ему:
— Право, отец мой, вы очень дурно думаете обо мне. Как мне горько встретить оскорбления там, где я думала найти утешение и помощь! Вы знали ту особу, которая привезла меня в Париж, ту, которая воспитала меня; вы сами говорили мне, как вы ее уважаете, ибо ее добродетель была назидательной даже для вас. И ведь это с вами она беседовала незадолго до своей смерти; она не могла что- нибудь сказать вам против совести, и вы же должны помнить, что она говорила вам обо мне; постарайтесь вспомнить, ведь не так-то давно господь призвал ее к себе, и я не думаю, чтобы после ее смерти я совершила что-либо нехорошее, что оправдывало бы ваше дурное мнение обо мне; напротив, моя невинность и неопытность, моя растерянность внушили вам сострадание и тем не менее вы вдруг хотите видеть во мне гнусную, вероломную, недостойную обманщицу, ужаснее которой и на свете нет! Вы хотите, чтобы я в дни скорби и крайней нужды, проведя из-за несчастного случая один час в обществе молодого кавалера, коего я никогда больше не увижу, влюбилась в него так страстно, что потеряла и здравый смысл, и совесть и что у меня хватило смелости и даже хитрости придумать такие вещи, что оторопь берет, и очернить ужасной клеветой человека, который был бы мне поддержкой в жизни и мог бы сделать мне много добра, человека, чью помощь мне было бы очень важно сохранить, не будь он распутником, притворщиком, святошей, осыпавшим меня подарками с намерением сделать меня втайне нечестной девушкой.
— Ах, праведное небо, как она горячится! Что она такое говорит? Слыханное ли это дело? — восклицал монах, опустив голову, но он не прервал меня. И я продолжала:
— Да, отец мой, он только к этому и стремился; вот почему он одевал меня так хорошо. Пусть он сочиняет вам что угодно, но наша с ним ссора только на этом и основана. Если б я согласилась уехать оттуда, где нахожусь, и позволила перевезти меня в дом, который он собирался роскошно обставить и поселить там меня на квартире у его хорошего знакомого, какого-то ходатая по делам, коего он уверит, что я прихожусь родственницей господину де Клималю и приехала к нему из деревни... Видите, чего он добивался... Хороша его набожность!..
— Постойте! Как вы говорите? — прервал меня монах.— Ходатай по делам? Он женат?
— Да, отец мой, женат,— ответила я.— Ходатай по делам, небогатый сутяга. Живя у него на квартире, я бы училась танцевать, петь, играть на клавесине; я была бы там полной хозяйкой — такое почтение мне бы оказывали; жена этого ходатая должна была завтра же приехать за мной туда, где я живу; и если бы я согласилась на это и не отказалась бы также принять не позднее чем завтра ренту, не знаю в точности сколько — пятьсот или шестьсот франков (только для начала); если б я не высказала ему, что все его предложения омерзительны, он не стал бы меня упрекать за луидоры, которые дал мне и которые я верну ему, так же как и эти дорогие тряпки, подаренные им, ибо мне стыдно носить их и я не хочу ими пользоваться, боже меня упаси! Он ведь вам не сказал также, что я грозила пойти к вам и все рассказать про его гнусную любовь и его намерения; на это он имел наглость ответить мне, что если бы вы даже все узнали, то сочли бы такие дела сущими пустяками, какие случаются со всеми, да и с вами могут когда- нибудь случиться; и вы, говорил он, не осмелились бы поручиться, что это невозможно, так как и самый добродетельный человек способен влюбиться, и никто ему в том воспрепятствовать не может. Подумайте, неужели слова мои похожи на ложь и выдумку?
— Ах, боже мой! — взволнованно воскликнул монах.— Ах, господи! Страшные вещи вы говорите! Не знаю, право, что и думать! Боже милосердный, до чего же слаб человек! Вы меня поколебали, дочь моя: этот ходатай по делам смущает, удивляет меня, я не могу отрицать, что он существует; ведь я его знаю, я видел его с господином де Клималем (сказал он как бы в сторону), и это девочка не могла бы угадать, что господин де Клималь пользовался его услугами и что ходатай женат. У этого человека неприятная физиономия, правда? — добавил он.
— Ах, отец мой, я ничего об этом не знаю,— ответила я. — Господин де Клималь только говорил мне о нем, я не видела ни его самого, ни его жену.
— Тем лучше, тем лучше. Да, понимаю, вы только еще должны были переехать к ним. Муж — человек сомнительный, он никогда мне не нравился. Но, дочь моя, как все это странно! Если вы говорите правду, кому же тогда можно верить?
— «Если я говорю правду»? Ах, отец мой, да зачем же мне лгать? Неужели из-за этого злосчастного племянника? Ах, поместите меня в монастырь, чтобы я никогда его не видела, никогда не встречалась бы с ним!
— Очень хорошо! — сказал он тогда.— Очень хорошо! Прекрасно сказано, лучше и не придумаешь.
— А кроме того, отец мой,— добавила я,— спросите у торговки, у которой господин де Клималь устроил меня, какого она мнения обо мне, считает ли она меня мошенницей и лицемеркой, спросите у племянника господина де Клималя, не застал ли он своего дядюшку, когда тот стоял на коленях передо мной и осыпал поцелуями мою руку, не давая мне отдернуть ее; и это зрелище так возмутило молодого человека, что он теперь смотрит на меня, как на падшую девушку: и, наконец, отец мой, вспомните, как смутился господин де Клималь, когда я вошла сюда. Вы разве не обратили внимания, какое у него стало тогда лицо?
— Да,— ответил монах,— да, он покраснел, вы правы, я ничего понять не могу. Неужели это возможно? А тут еще этот ходатай по делам, это ужасное доказательство! И смущение господина де Клималя тоже мне не нравится. А рента? Что это еще за рента? Ишь как торопится человек! Да еще дорогая мебель и учителя для всяких пустяков! С кем же вы, по его мнению, должны были танцевать? Любопытное милосердие — учить людей плясать и вывозить их на балы! Странно видеть это от такого человека, как господин де Клималь! Да поможет нам бог! Право, поневоле скажешь: увы, несчастное человечество, какие только грехи не одолевают его! Жалкое существо — человек! Жалкое существо! Не думайте больше обо всем этом, дочь моя! Я верю, что вы меня не обманываете,— нет, вы не способны на такую низость, но больше не стоит говорить об этом. Будьте скромны, долг милосердия вам это предписывает, понимаете? Не разглашайте никогда и никому это странное приключение; не надо доставлять этим скандалом удовольствие мирянам, они будут торжествовать и получат право высмеивать служителей божиих. Постарайтесь даже уверить себя, что ваши глаза и слух обманули вас; такое расположение духа, такая невинность мыслей будут приятны господу, и небо благословит вас. Ступайте, дорогое мое дитя, возвратитесь домой и не горюйте так сильно,— добавил он, видя, что я плачу (а я готова была плакать в три ручья, потому что он пожалел меня).— Будьте по-прежнему чисты, и провидение позаботится о вас. Сейчас я должен с вами проститься — у меня дела. Но скажите мне адрес той торговки, у которой вы живете.
— Увы, отец мой! — сказала я после того, как сообщила адрес.— Мне остается прожить у нее только этот день. За стол и квартиру заплачено за меня только до завтра, и я обязана буду съехать от нее, она этого ждет; а завтра я лишусь пристанища, если вы меня покинете, отец мой. Вы — единственное мое прибежище.
— Я? Дорогое дитя! Увы! Господи, какая жалость! Такой человек, как я, бедный монах, беспомощен, но бог все может. Посмотрим, дочь моя, посмотрим; я подумаю. Богу известно, что я всей душой готов помочь вам; быть может, он вдохновит меня, все от него зависит; я буду молиться ему, молитесь и вы. Говорите: «Господи, на тебя вся моя надежда». Обязательно молитесь. Завтра в девять часов утра я буду у вас. До этого времени не выходите из дому. Ох, уж поздно, у меня дела, до свидания, не падайте духом; отсюда до вас далеко, ступайте. Да хранит вас бог. До завтра.
Я молча поклонилась, ибо не в силах была вымолвить ни слова, и ушла по меньшей мере столь же печальная, как и пришла: от святых и благих утешений, коими монах старался приободрить меня, мое положение показалось мне еще более ужасным; я была недостаточно благочестива, да и в восемнадцать лет человек считает, что все потеряно, все погибло, когда ему говорят, что остается только надеяться на бога: эта страшная, серьезная мысль пугает душу. В юном возрасте можно представить себе только то, что видишь, и юность помышляет лишь о земном.
Итак, я глубоко сокрушалась, возвращаясь домой, никогда еще я не была так удручена.
Из-за какого-то затора на улице мне пришлось остановиться у ворот женского монастыря; двери в монастырскую церковь были открыты, и вот, отчасти из религиозного чувства, вдруг охватившего меня, отчасти из желания предаться свободно вздохам и скрыть свои слезы, обращавшие на меня внимание прохожих, я вошла в эту церковь, где никого не было, и опустилась на колени в исповедальне.
Там я погрузилась в свою скорбь и не сдерживала ни своих стенаний, ни плача; я говорю «стенаний», потому что я громко жаловалась и произносила вслух целые фразы: «Да зачем же я, несчастная, появилась на свет? Что делать мне на земле? Боже великий, ты вдохнул в меня жизнь, помоги же мне!» И во многих других, подобных же возгласах изливала я свое горе.
В самый разгар моих вздохов и причитаний (так, по крайней мере, мне кажется) в церкви появилась какая-то дама — я не видела, как она вошла, и заметила ее, лишь когда она направилась к выходу.
Позже я узнала, что она приехала из деревни, что она приказала кучеру остановить карету у монастыря; там ее очень хорошо знали, и некоторые ее знакомые просили ее мимоездом передать их письма настоятельнице; и, пока ходили предупредить настоятельницу и вызвать ее в приемную, дама зашла в церковь, увидев, как и я, что двери в нее открыты.
Едва она очутилась там, как ее поразили мои громкие сетования, она услышала все, что я говорила, и по моей скорбной позе могла судить о великом моем отчаянии.
Я сидела, низко опустив голову и бессильно свесив руки, до того погруженная в свои мысли, что даже позабыла, где я нахожусь.
Вы знаете, что я была хорошо одета, и хотя дама не видела моего лица, но что-то легкое и гибкое, всегда разлитое по юному и стройному стану, позволило ей без труда угадать мой возраст. Моя скорбь, показавшаяся ей безмерной, тронула ее: моя молодость, изящество, а может быть, также и мой наряд привлекли ко мне ее симпатии; я не зря упомянула о наряде — благообразие ведь никогда не вредит.
В таких случаях хорошо бывает понравиться чужому взору, а уж он привлечет к нам и сердце созерцающего. Если вы несчастны, но дурно одеты, то вы оставите равнодушными самые лучшие в мире сердца, или же они почувствуют к вам весьма прохладное сострадание; у вас не будет той привлекательности, которая льстит их тщеславию; а ведь ничто так не помогает нам проявлять великодушие к несчастным, ничто так не доставляет нам чести и удовольствия выказывать страдальцам сочувствие, как их изящный облик.
Дама, о которой я говорила, внимательно рассмотрела меня, и чтобы увидеть мое лицо, вероятно, выждала бы, когда я подниму голову, но тут пришли сказать, что настоятельница ждет ее в своей приемной.
От стука отодвигаемого стула я очнулась, а когда услышала шаги, захотела посмотреть, кто идет; она ждала этого, и наши глаза встретились.
Увидев ее, я покраснела, поняв, что она слышала мои сетования, но, несмотря на свое смущение, я заметила, что ей понравилось мое лицо, что мое горе ее трогает. Все это я прочла в ее взгляде, а в моем взгляде (если он выразил то, что я чувствовала) она должна была прочесть благодарность и робость, ведь человеческие души понимают друг друга.
Она смотрела на меня, проходя по церкви, я неприметно опустила глаза, и она вышла.
Минут десять я еще оставалась в церкви, утирая слезы и думая о том, что делать мне завтра если хлопоты монаха не увенчаются успехом «Как я завидую участи святых дев спасающихся в этом монастыре,— говорила я себе.— Вот то счастливицы!»
Эта мысль занимала меня как вдруг сестра привратница подошла ко мне и учтиво сказала.
— Барышня, скоро закроют церковь.
— Я сейчас уйду, сударыня,— ответила я, глядя в сторону, ибо боялась, как бы она не заметила, что я плакала но я забыла, что надо остерегаться интонаций голоса, и они-то и выдали меня. Сестра привратница почувствовала, сколько в нем жалостного уныния, как я молода — совсем еще девочка, увидела к тому же, как я мило одета и миловидна сама по себе, и, как она потом мне рассказывала, не могла удержаться и сказала мне:
— Увы, дорогая моя, что с вами? Боже ты мой, жалко смотреть на вас! У вас какое-нибудь горе? Право, жалко мне вас. Может быть, вы пришли поговорить с одной из наших монахинь? С которой же вы хотите побеседовать?
Я ничего не ответила ей, но глаза мои опять увлажнились слезами. Ведь все девушки, все женщины готовы вновь залиться слезами, как только им скажут: «Вы сейчас плакали». Это ребячество и как будто кокетство с нашей стороны, от которых мы почти никогда не можем избавиться.
— Ну вот, барышня, скажите же мне, что с вами, скажите,— настойчиво повторила сестра привратница.— Пойти мне позвать кого-нибудь из монахинь?
А я размышляла над тем, что она сказала мне. Может быть, через ее посредство бог призывает меня подумать над этим? Умиленная ее ласковой настойчивостью, я вдруг ответила.
— Да, сестра, я бы очень хотела поговорить с матушкой настоятельницей, если у нее есть время
— Хорошо, красавица моя, пойдемте,— сказала привратница,— идите вслед за мной, я проведу вас в приемную, она через минутку придет туда. Пойдемте.
Я пошла вслед за нею; мы поднялись по узкой лестнице, она отворила дверь, и мне сразу бросилась в глаза та дама, о которой я говорила,— я видела ее лишь в ту минуту, когда она выходила из церкви и, выходя, очень приветливо посмотрела на меня.
Мне показалось, что дама эта обрадовалась, увидев меня, она любезно встала, чтобы дать мне место.
Она вела беседу с настоятельницей монастыря, и я сейчас сообщу вам, что было причиной ее посещения.
— Сударыня,— сказала привратница,— я пришла доложить вам, что вот эта барышня спрашивает вас.
Настоятельница оказалась кругленькой и белотелой коротышкой с двойным подбородком и свежим, гладким лицом. У мирян не бывает таких физиономий, да и вообще монашеское дородство отличается особыми свойствами: оно создается на приволье и более методически, более искусно, более умело, с большей любовью к самому себе, чем у нас.
Обычно наша полнота достигается очень просто — благодаря темпераменту, количеству поглощаемой пищи или же отсутствию деятельности и вялости натуры; но чувствуется, что для приобретения той полноты, о которой я говорю, нужно сделать ее своей задачей; она может быть лишь следствием деликатной и ревностной заботы о своем благоденствии и удобствах, она свидетельствует не только о любви к жизни — и к жизни здоровой, но к жизни сладостной, праздной, о пристрастии ко всяким лакомствам; свидетельствует и о том, что, наслаждаясь удовольствием чувствовать себя хорошо, человек так нежно холит себя, как будто он всегда находится на положении выздоравливающего больного.
И ко всему этому монашеское дородство не похоже на наше мирское; оно не столько огрубляет лицо, сколько делает его важным и степенным и придает всему облику не столько веселый, сколько спокойный и довольный вид.
Приглядитесь к этим благодушным сестрицам монахиням, и вы найдете, что внешне они очень любезны, но внутренне глубоко равнодушны к людям. На лицах монахинь написано сострадание к вам, но душу их оно не затрагивает; они подобны красивым картинкам, изображающим чувствительность и доброту, а на деле их не имеют.
Но оставим это, я пока говорю здесь только о кажущейся стороне, а остальное отбрасываю. Возвратимся к настоятельнице, возможно, я где-нибудь нарисую ее портрет.
— Мадемуазель, я к вашим услугам,— сказала она, отвешивая мне низкий поклон.— Могу я узнать, с кем имею честь говорить?
— Нет, это честь для меня,— ответила я скромно и даже униженно.— Даже если б я сказала, кто я такая, та все равно осталась бы для вас незнакомкой, сударыня.
— Если не ошибаюсь, я видела вас, мадемуазель, в церкви, когда зашла туда на минутку,— с ласковой улыбкой сказала вышеупомянутая дама,— кажется, я видела даже, что вы плакали, и мне было так жаль вас.
— Тысячу раз благодарю вас за доброту вашу, сударыня,— ответила я голосом слабым и робким и тут же умолкла. Я не знала, как приступить к разговору: прием, оказанный мне настоятельницей, при всей ее приветливости, обескуражил меня. Я больше не возлагала на нее никаких надежд, а почему — не могу сказать: ее обхождение поразило меня, хотя я еще не различала тогда, насколько поверхностно подобное участие. «Она меня пожалеет, а помощи не окажет. Ничего не поделаешь»,— думала я.
Тем временем приезжая дама и настоятельница поднялись со стульев и стояли, глядя на меня; я краснела — ведь мой наряд обманывал их, я не заслуживала таких церемоний.
— Может быть, вы желаете побеседовать со мною наедине?— спросила настоятельница.
— Как вам угодно, матушка,— ответила я.— Но мне будет очень неприятно, что из-за меня ваша посетительница должна будет уйти, что я помешала вам. Если позволите, я приду в другой раз.
Я сказала это, ища выхода из затруднительного положения, в которое поставила себя; я решила уйти и больше не возвращаться к настоятельнице.
— Нет, мадемуазель, нет! — сказала посетительница и, взяв меня за руку, заставила подойти ближе.— Нет, останьтесь, пожалуйста. Наш разговор окончен, и я собираюсь проститься с матушкой настоятельницей. Итак, вы можете говорить свободно; у вас какое-то горе, как я заметила; вы заслуживаете сочувствия, и если вы сейчас уйдете, я никогда себе не прощу этого.
— Да, сударыня,— сказала я ей, глубоко взволнованная ее словами, и снова залилась слезами.— Правду вы говорите, у меня горе, у меня большое горе; пожалуй, нет на свете человека более несчастного, чем я, более достойного жалости и сострадания; а у вас, сударыня, как видно, сердце столь доброе, что мне не стыдно будет говорить при вас. Не уходите, не надо, вы нисколько не приведете меня в смущение, наоборот, для меня счастье, чтобы вы были здесь: вы поможете мне получить от матушки настоятельницы ту милость, о которой я на коленях молю ее (и я действительно бросилась на колени). Да, я молю ее принять меня к ней в монастырь.
— Ах, прелестное дитя, как вы меня растрогали! — ответила настоятельница, простирая ко мне руки, тогда как дама ласково подняла меня.— Как я рада, что выбор ваш пал на мой монастырь! Право, лишь только я вас увидела, у меня возникло некое предчувствие, догадка, что какие-то обстоятельства привели вас сюда. Ваша скромность поразила меня. «Не пришла ли ко мне та, которой сие предназначено было?» — подумала я тогда. Ведь ваше призвание написано на вашем лице — не правда ли, сударыня? Я полагаю, вы тоже это находите? Как она хороша! Какой у нее разумный вид! Ах, дочь моя! Я просто в восторге! До чего ж вы меня обрадовали! Пожалуйте к нам, ангел мой, пожалуйте! Ручаюсь, что она единственная дочь, и бедняжку хотят выдать замуж против ее воли. Но скажите, сердечко мое, вы сейчас же хотите вступить к нам? Надо все-таки уведомить ваших родных, не правда ли? К кому мне послать?
— Увы, матушка! — ответила я.— Никого не могу указать,— и в смятении я остановилась, задыхаясь от рыданий.
— Ну, что с вами? — сказала настоятельница.— В чем тут дело?
— Нет, никого не могу указать,— продолжала я.— И нет тут ничего такого, что вы предполагаете, матушка. Я лишена утешения иметь родителей, то есть родителей своих я никогда не знала.
— Господи Иисусе! Что вы говорите, мадемуазель! — произнесла настоятельница с важностью и с едва заметным холодком.— Как это неприятно совсем не иметь родителей! Да как же это может быть? Кто же о вас заботится? Ведь, очевидно, у вас нет и никакого состояния? Куда же девались ваш отец и ваша мать?
— Мне было всего лишь два года,— ответила я,— когда их убили грабители, остановившие почтовую карету, в которой отец и мать ехали со мной; их слуги тоже погибли; только мне пощадили жизнь. Проезжие отнесли меня к приходскому священнику, которого теперь уже нет в живых; его сестра, святая женщина, воспитала меня с бесконечной добротой; но, к несчастью, она недавно умерла в Париже, куда приехала ради наследства после умершего родственника, которое она, однако, не получила из-за долгов, оказавшихся у покойного; она взяла меня с собой, намереваясь пристроить на какое-нибудь подходящее для меня место. С ее смертью я все потеряла; только она одна в целом мире и любила меня, и мне больше ни от кого нельзя ждать ласки; мне остается только надеяться на милосердие ближних; но я жалею о ней самой, о добром ее сердце, а не о помощи, какую она мне оказывала; я отдала бы свою жизнь, лишь бы ее спасти. Она умерла в той гостинице, где мы с ней остановились; я осталась одна; она мне оставила небольшие деньги, но часть их у меня украли. Отец Сен-Венсан, монах, навещавший ее перед смертью, помог мне выбраться из этой гостиницы и несколько дней тому назад поручил меня попечению одного человека, имени коего я не хочу называть; отец Сен-Венсан считал этого человека добродетельным и сострадательным, а он обманул нас обоих, ибо вовсе не был таким. Правда, он начал с того, что поместил меня в ученье к госпоже Дютур, хозяйке бельевой лавки; но едва он устроил меня там, как тотчас открыл свои дурные намерения: насильно заставил меня принять от него деньги, стал делать мне подарки, и я сразу почувствовала в них что-то бесчестное; а потом он стал держать себя так, что его поведение ничего хорошего мне не сулило, и действительно, он не постыдился, в его-то годы, заявить, взяв меня за руки, что он влюблен в меня и хочет, чтобы я стала его любовницей; а посему он решил поселить меня в доме, расположенном в отдаленном квартале, где ему будет свободнее содержать меня тайком от всех; он обещал мне и ренту, и всяких учителей, и роскошную обстановку; а я ему ответила, что меня приводит в ужас его лицемерие и плутовство. «Ах, сударь,— сказала я ему,— или вы в бога не верите? Какие у вас мерзкие мысли!» Но тщетно я стыдила его, этот подлый человек, вместо того чтобы опомниться и раскаяться, разозлился на меня, назвал меня неблагодарной маленькой тварью, пригрозил наказать меня, если я все разболтаю, стал упрекать за свои подарки, деньги, белье, купленное им для меня, и вот за это платье, что на мне; а я решила нынче же вечером положить это платье в узел, в который уже собрала остальные вещи, и все отослать ему, как только вернусь к госпоже Дютур. Она, со своей стороны, отказывает мне в квартире с завтрашнего утра, так как ей заплачено за мое содержание только до этого срока, и теперь я уж и не знаю, куда мне деваться, если не поможет мне отец Сен-Венсан; я сейчас ходила к нему, чтобы рассказать, как нас обманул этот ужасный человек, к коему он так простодушно привел меня. Да, я не знаю, куда мне деваться, если отцу Сен-Венсану не удастся завтра пристроить меня куда-нибудь, как он обещал.
Возвращаясь от него, я проходила мимо вашего монастыря и зашла в вашу церковь, потому что я всю дорогу плакала и люди смотрели на меня; и вот бог внушил мне мысль броситься к вашим ногам, матушка, и молить вас о помощи.
На этом я закончила свою краткую речь или, вернее, свою безыскусную исповедь, которая проникнута была искренней скорбью и произвела впечатление на вышеуказанную даму. Я видела, что она утирает глаза; но она не сказала ни слова, предоставив отвечать самой настоятельнице, почтившей мой рассказ легкими мановениями руки и выражением сочувствия в чертах лица, в этом я не могла ей отказать, и все же мне казалось, что черствое сердце ее не подает никаких признаков жизни.
— Конечно, ваше положение очень печально, мадемуазель. (Она уже не говорила мне «прелестное дитя» и «ангел мой» — все эти нежности были отброшены.) Но не надо отчаиваться. Подождите еще, что сделает для вас этот монах, которого вы называете отец Сен-Венсан,— продолжала она с видом сдержанного сочувствия.— Ведь вы говорили, что он обещался найти вам место. Ему гораздо легче, чем мне, оказать вам услугу, ибо я никуда не выхожу и не умею хлопотать. Мы никого не видим, почти никого не знаем; за исключением вот этой дамы и некоторых других дам, по доброте своей немного привязавшихся к нам, нас по целым неделям никто не посещает. К тому же наша община небогата, мы существуем только на средства, получаемые за наших пансионерок, а число их значительно уменьшилось с некоторого времени. Поэтому мы в долгах, у нас так мало достатка, что недавно я, к огорчению своему, должна была отказать одной молодой и весьма достойной девице, просившейся к нам в послушницы; хоть нам и очень нужны послушницы, мы их больше не принимаем, так как они приносят в общину совсем малый вклад и становятся для нас бременем. Итак, мы во всех отношениях бессильны вам помочь, что меня поистине сокрушает, так как мне очень жаль вас, бедняжка. («Бедняжка!» Какая разница в стиле! Только что она называла меня «красавица моя».) Мне очень жаль вас, но почему вы не обратились к священнику вашего прихода? А наша община может помочь вам лишь своими молитвами, принять же вас к себе она не в состоянии. Все, что я могу сделать, это обратиться к милосердию наших пансионерок; я устрою сбор подаяний в вашу пользу и завтра вручу вам собранные деньги. (Собрать милостыню для «ангела»,— нечего сказать, лестное для него предложение!)
— Нет, нет, матушка,— ответила я сухим и твердым тоном.— Я еще ничего не брала из той маленькой суммы, что оставила мне мой друг и воспитательница. И я пришла не милостыню просить. Я полагаю, что если есть у человека мужество, то лишь страх умереть от голода может заставить его просить подаяния,— и я уж подожду такой крайности. Благодарю вас.
— А я не допущу, чтобы такое благородное сердце когда-нибудь дошло до этого,— сказала дама, хранившая до тех пор молчание.— Не падайте духом, мадемуазель. Вы можете рассчитывать, что у вас будет на свете еще один друг: я хочу утешить вас в утрате покровительницы, которую вы оплакиваете, и приложу все старания, чтобы стать столь же дорогой вашему сердцу, какой она была для вас. Матушка,— добавила она, обращаясь к настоятельнице,— я заплачу за содержание этой милой девушки, вы можете принять ее в ваш пансион. Однако ж, поскольку она вам совершенно неизвестна и справедливо, чтобы вы знали, каких девиц вы принимаете, нам для очистки совести и даже для того, чтобы предотвратить злоречие по поводу моих добрых чувств к мадемуазель, остается одно: послать сейчас же сестру привратницу к этой госпоже Дютур, которая торгует бельем, и ее свидетельство, несомненно благосклонное, оправдает как мое поведение, так и ваше.
Из слов этой дамы я поняла, что прежде всего ей самой хочется побольше узнать обо мне и уяснить себе, с кем она имеет дело; но заметьте, пожалуйста сколько деликатности она при этом выказывала, как старалась не обидеть меня и как искусно скрывала еще не рассеявшуюся и вполне понятную неуверенность в том что я говорю правду.
Бесценные черты доброй натуры! Из всего, чем мы обязаны бываем чьей-нибудь прекрасной душе самым трогательным я считаю — нежное внимание и тайную деликатность чувств. Я называю ее тайной, потому что сердце, проявляющее эту деликатность, не выставляет ее напоказ, не требует от вас признательности за нее, она полагает, что только ему известно об этом, а от вас хочет все скрыть, прячет свою заслугу. Как не назвать эту черту восхитительной?
Но я все разгадала, люди с благородным сердцем понимают друг друга в таких вещах и прекрасно замечают все хорошее, что делают для них.
В порыве восторга я бросилась к этой даме и прильнула к ее руке долгим, почтительным поцелуем, орошая ее самыми нежными и сладостными слезами, какие я когда либо проливала в своей жизни. Ведь душа человека исполнена гордости, и все, в чем сказывается уважение к его достоинству, волнует и восхищает нас, и уж тут мы никогда не бываем неблагодарными.
— Сударыня,— сказала я,— не разрешите ли вы мне написать несколько слов госпоже Дютур и переслать ей эту записку через сестру привратницу? Вы прочтете мое послание; я думаю, что при теперешних моих обстоятельствах, которые ей известны, она может опасаться какой либо неожиданности и поэтому не решится говорить свободно с незнакомым человеком.
— Да, да, мадемуазель,— услышала я в ответ, — вы совершенно правы, пишите. Матушка, не будете ли вы так любезны дать нам перо и чернила?
— С удовольствием,— сказала настоятельница, сразу смягчившись, и дала мне все необходимое для письма. Оно вышло кратким, и гласило приблизительно следующее:
«Особа, которая передаст вам это письмо, сударыня, направлена к вам лишь для того, чтобы навести справки обо мне, будьте добры говорить бесхитростно и по чистой правде все, что вы знаете касательно моего поведения и характера, а также касательно моей истории и того, как меня поместили к вам. Я совсем не хочу, чтобы вы обманывали людей и отзывались обо мне лестно, а поэтому прошу вас говорить по совести, не заботясь о том, выгодны для меня или нет ваши слова. Ваша нижайшая слуга...»
А внизу весьма краткая подпись — «Марианна».
Я подала эту записку будущей моей благодетельнице, та прочитала ее, улыбаясь с таким видом, словно хотела сказать: «Мне это совсем не нужно», затем протянула ее через решетку настоятельнице и сказала:
— Прочтите, матушка, я думаю, вы будете согласны со мной, что так может писать только тот, кому нечего бояться разоблачений.
— Отлично! — сказала настоятельница, прочитав письмо.— Отлично. Лучше и не напишешь! — И тотчас же, пока я надписывала на обороте письма адрес, она позвонила, чтобы вызвать сестру привратницу.
Привратница явилась и весьма почтительно поклонилась даме, а та сказала ей:
— Кстати, в деревне я видела вашу сестру, ею очень довольны в том доме, куда я ее рекомендовала. Мне хочется передать вам от нее весточку.— Отведя привратницу в сторону, она заговорила о чем-то с ней. Предполагаю, что я и была той самой «сестрой», о которой она беседовала, и что она отдавала какие-то распоряжения, касавшиеся меня; два-три слова, такие, как: «Хорошо, сударыня», «Положитесь на меня», громко произнесенные привратницей, с любопытством поглядывавшей на меня, подтвердили мою догадку.
Как бы то ни было, привратница взяла записку, отправилась и через полчасика возвратилась. То, о чем в ее отсутствие шел разговор между дамой, настоятельницей и мною, я пропускаю. Но вот возвратилась сестра привратница; я позабыла упомянуть о следующем обстоятельстве: прежде чем она вошла в приемную, явилась другая монахиня и сообщила даме, что ее просят в соседнюю приемную, где кто-то хочет с ней поговорить. Дама пошла туда и пробыла там минут пять-шесть, не больше. Лишь только она оттуда вернулась, пришла сестра привратница по-видимому только что расставшаяся с ней, и с веселостью, казавшейся добрым знаком, заговорила прежде всего со мной, начав с восторженного изъявления дружеских чувств ко мне:
— Ах, пресвятая богоматерь! Сколько же я хорошего услышала про вас, мадемуазель! Вот видите, правильно я угадала. Наружность ваша не обманывает, вы именно такая, какой кажетесь. Сударыня, вы и представить себе не можете, чего только мне не наговорили! Уж и разумна то она, и добродетельна, и такая душевная, сердечная, да и учтивая, порядочная,— словом, другой такой девицы в целом свете не найдешь — сущее сокровище! Одна беда — такая уродилась несчастливая, что мы с доброй госпожой Дютур наплакались над ней. Ведь у нее, бедняжки, ни отца, ни матери, неизвестно, кто она такая,— вот единственный ее недостаток; и не будь у нее страха божия, плохо бы она кончила. Тому свидетель богач, которого она по заслугам прогнала, негодяя этакого! Я вам про это расскажу в другой раз, а сейчас только самое главное. Кстати сказать, сударыня, как вы мне велели, я так и сделала: не сказала белошвейке вашего имени, она и не знает, кто наводит справки.
Дама покраснела при этой нескромности болтливой привратницы, и я окончательно утвердилась в мысли, что именно обо мне они толковали тогда в сторонке, а краска смущения, прихлынувшая к лицу дамы, была для меня новым доказательством ее деликатности, и я запомнила его.
— Ну хорошо, хорошо, моя милая, довольно,— сказала она сестре привратнице.— А как вы, мадемуазель, решаете? Сегодня же вы вступаете сюда? Может быть, вам нужно взять у этой белошвейки свои вещи и вы должны еще сходить к ней?
— Да, сударыня,— ответила я.— Но через полчаса я вернусь, если вы позволите мне отлучиться.
— Пожалуйста, мадемуазель. Ступайте,— сказала дама.— Я жду вас.
Итак, я отправилась; монастырь находился недалеко от лавки госпожи Дютур, и я скоро добралась до нее, хотя нога у меня не совсем прошла и еще болела немного.
Госпожа Дютур болтала у дверей лавки с соседкой; я вошла, поблагодарила ее, расцеловала от всего сердца — она этого заслуживала.
— Ну как, Марианна? Слава богу, вам счастье привалило? И прежде удача, и опять удача! Кто эта дама, которая присылала ко мне?
Коротко ответив, я сказала ей:
— Я очень тороплюсь. Сейчас я пойду переоденусь, а это платье положу в сверток, в который уже сложила кое-какие вещи. Будьте так добры отослать его сегодня же к племяннику господина де Клималя.
— Хорошо, хорошо,— подхватила она — Значит, к господину де Вальвилю? Я его знаю, он у меня покупает белье.
— Да, да, именно к нему, вы напомнили мне его имя, — ответила я, уже поднимаясь по лестнице в свою комнату.
Лишь только я вошла туда, как живо, живо сбросила с себя нарядное платье, надела свое старое, а новое положила в сверток,— вот и вся недолга! На столе стояла маленькая чернильница и лежало несколько листков бумаги; я взяла один и вот что написала на нем Вальвилю:
«Милостивый государь, всего лишь пять-шесть дней я знакома с господином де Клималем, вашим дядюшкой, и не знаю, где он проживает и куда направить принадлежащие ему вещи, а посему прошу вас передать их господину де Клималю. Он мне сказал, что дарит их мне из чувства сострадания, так как я бедна, и я только поэтому и приняла их. Но поскольку он сказал мне неправду и обманул меня, я не хочу пользоваться его подарками и возвращаю их, так же как и деньги, насильно навязанные им мне. Я не стала бы затруднять вас в этом случае, будь у меня время послать за монахом ордена реколлетов[12], отцом Сен-Венсаном,— он думал, что оказал мне услугу, познакомив меня с вашим дядюшкой, а теперь, если пожелаете, объяснит вам, что вам следует упрекнуть себя за оскорбление, нанесенное вами удрученной и добродетельной девушке, быть может равной вам по происхождению своему».
Что вы скажете о моем письме? Я им осталась довольна и находила, что оно написано лучше, чем я это ожидала от себя, имея в виду свою юность и незнакомство с обычаями света; но надо быть уж очень глупым, чтобы чувство чести, любовь и гордость не придали больше живости нашему слогу, чем это свойственно ему при обыденных обстоятельствах.
Написав письмо, я тотчас взяла сверток и сошла вниз.
Опускаю здесь одну подробность, о коей вы легко догадаетесь: я имею в виду сундучок с моей одеждой, который мне самой снести было не под силу; я позвала на помощь человека, оказывавшего такого рода услуги всему кварталу и обычно стоявшего в двух шагах от лавки госпожи Дютур; опускаю и прощание со своей бывшей хозяйкой, клятвенно обещавшей, что сверток и записка Вальвилю меньше чем через час будут доставлены по адресу; мы обменялись с этой доброй женщиной множеством заверений во взаимной симпатии, причем она почти что плакала (слезы хоть и не лились из ее глаз, но, казалось, вот-вот польются), а я немного всплакнула — так мне было грустно: мне казалось, что, расставаясь с Дютур и покидая ее дом, я разлучаюсь с какой-то родственницей и даже прощаюсь с родным краем и под покровом божьим ухожу в чужую страну, не успев в ней оглядеться. Меня как будто похитили, слишком крутыми переменами были для меня эти быстро свершившиеся события, которые толкали, гнали меня куда-то, причем я не знала, куда и в чьи руки я попаду.
А разве вы ни во что не ставите квартал, от коего я теперь удалялась? Ведь я жила там по соседству с Вальвилем; правда, я говорила, что больше никогда не увижусь с ним, но это уж чересчур строго — ловить человека на слове; я дала себе слово больше не видеться с ним, а не лишать себя возможности видеть его,— а ведь это большая, серьезная разница; да и нельзя так сурово обращаться со своим сердцем. В таких случаях, как у меня, свобода проявить слабость помогает человеку сохранять твердость, а с переменой жизни я лишалась этой свободы и вот совсем пала духом.
Однако ж пора отправляться, и вот я уже в пути. Я сказала Дютур, что иду в монастырь. Как он называется, я не знаю, так же как не знаю и названия улицы, на которой он находится; но дорогу я знаю, носильщик с моими вещами пойдет за мною следом. Возвратившись, он, вероятно, все расскажет госпоже Дютур, и если она случайно увидит Вальвиля, то осведомит и его; я совсем этого не хотела,— так просто, пришла мысль и отвлекла меня от моих горестей. «Ну хорошо, он узнает место моего уединения, не все ли равно? Что из этого воспоследует? Ничего,— думалось мне.— Разве он попытается увидеть меня или написать мне! О, конечно, нет! — говорила я себе.— О, конечно, да»,— следовало бы мне сказать, если б я ответила искренне, сообразно утешительной надежде, возникшей у меня.
Но мы уже приближаемся к монастырю, вот мы уже в приемной. Я возвратилась далеко не такая нарядная, как ушла; моя благодетельница спросила меня, какая тому причина.
— Дело в том,— ответила я,— что я переоделась в свое старое платье, а то, что вы на мне видели, сударыня, я оставила у госпожи Дютур для того, чтобы она отдала все эти дорогие тряпки человеку, о котором я говорила,— ведь это он подарил их мне.
— Дорогая девочка, вы ничего от этого не потеряете,— ответила дама, целуя меня.
После этого я прошла во внутреннее помещение. Я появилась в приемной еще раз, но уже по другую сторону решетки, и поблагодарила даму. Она уехала, и вот я пансионерка монастыря.
Мне много надо сказать вам о моем монастыре; я узнала там многих его обитательниц, одни из них меня полюбили, другие пренебрегали мною; я обещаю вам поведать историю моей монастырской жизни — вы прочтете ее в четвертой части. А эту, третью часть, закончим событием, послужившим причиной моего возвращения в мир.
После двух-трех дней моего пребывания у монахинь моя благодетельница одела меня так изящно, словно я была ее родная дочь, и соответственно снабдила всеми необходимыми вещами. Судите сами, какие чувства питала я к ней: при встречах с нею мое сердце всегда переполняли радость и восторженная нежность.
В монастыре заметили, что у меня есть голос, она пожелала, чтобы я училась музыке. У настоятельницы была племянница, которая училась играть на клавесине, ее учитель стал обучать и меня.
— Есть таланты,— говорила мне моя любезная благодетельница,— которые всегда пригодятся, какой бы путь вы ни избрали себе. Если вы станете монахиней, они выделят вас в вашей общине, если будете жить в миру, они окажутся лишним вашим очарованием, и очарованием невинным.
Она навещала меня через два-три дня, и я прожила в монастыре уже три недели в таком расположении духа, которое трудно передать словами: я больше старалась быть спокойной, чем была спокойна на самом деле, и совсем не хотела обращать внимания на то, что мешало моему спокойствию и что было безумной тайной надеждой, преследовавшей меня повсюду.
Вальвиль, несомненно, знал, где я нахожусь, однако ж я ничего не слышала о нем, и сердце мое не находило тому причин. Если бы Вальвиль нашел способ подать о себе весть, он ничего бы не выиграл: я ведь отказалась от него, но я совсем не хотела, чтобы он отказался от меня. Какая странность чувств!
Однажды, когда я думала об этом против своей воли (а было это после полудня), пришли мне сказать, что чей-то лакей хочет со мной поговорить. Я подумала: «Наверно, прислан от моей благодетельницы», и спустилась в приемную. Я едва взглянула на этого мнимого слугу, все старавшегося повернуться боком и протягивавшего мне письмо дрожащей рукой.
— От кого? — спросила я.
— Посмотрите, мадемуазель,— ответил он так взволнованно, что сердце мое, прежде разума, узнало его и тоже исполнилось волнения.
Я посмотрела на него, принимая письмо, и встретила его глаза. Ах, какие глаза, дорогая! Я вперила в него взгляд; некоторое время мы молча смотрели друг на друга, говорили только наши сердца, и тут вдруг вошла сестра привратница и сказала, что сейчас придет моя благодетельница: ее карета уже въехала во двор. Заметьте, что привратница не назвала ее имени. «Ваша добрая маменька приехала»,— сказала она мне и удалилась.
— Ах, сударь, уходите скорее! — крикнула я в смятении Вальвилю (вы, конечно, поняли, что это был он), и, ответив мне только горестным вздохом, он вышел.
Я спрятала письмо и стала ждать свою благодетельницу; через минуту она вошла и привела с собой другую даму; эта вторая дама мне очень понравилась, да и вам понравится по ее портрету, который я нарисую в четвертой части, присоединив его к описанию дорогой мне особы, именовавшейся у нас «моей маменькой».
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |