"ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский" - читать интересную книгу автора (Иванова Евгения)
Глава 1 Учитель и Ученик
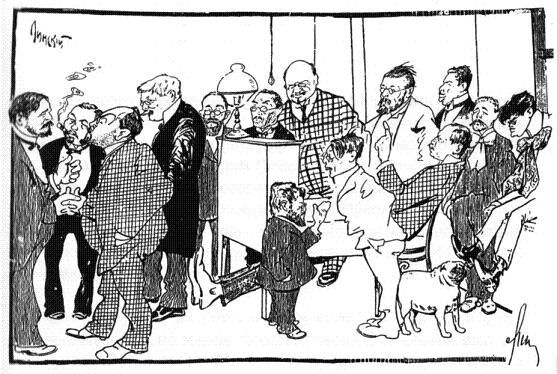 |
Началом этого сюжета мы обязаны Р. П. Марголиной, которая воистину «нашла подходящее время и подходящее место», чтобы задать очень важный для биографии К. И. Чуковского вопрос о его знакомстве с Владимиром (Зеевом) Жаботинским. Вдобавок она задала его в письме, которое пришло и ушло в Переделкино с нарочным, — так что никакой цензуры Чуковский мог не опасаться. Кроме того, в эти годы он был настроен на воспоминания и потому ответил охотно и сразу письмом от 11 мая 1965 года, где говорилось:
«Вы пробудили во мне слишком много воспоминаний, неведомая мне, но милая Рахиль. У меня в гимназии был товарищ Полинковский[1]. lt;…gt; Изредка к Полинковскому вместе со мною заходил наш общий приятель Владимир Евгеньевич Жаботинский, печатавший фельетоны в газете „Одесские новости“ под псевдонимом Altalena (по-итальянски: качели). Он втянул в газетную работу и меня, писал стихи, переводил итальянских поэтов (он несколько месяцев провел в Италии) и написал пьесу в стихах, из которой я и теперь помню отдельные строки. Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишиневе погром[2]. Володя Жаботинский изменился совершенно. Он стал изучать родной язык, порвал со своей прежней средой, вскоре перестал участвовать в общей прессе. Я и прежде смотрел на него снизу вверх: он был самый образованный, самый талантливый из моих знакомых, но теперь я привязался к нему еще сильнее».[3]
В следующем письме от 3 июня Чуковский добавил еще несколько штрихов:
«…Я считаю его перерождение вполне естественным. Пока он не столкнулся с жизнью, он был Altalena — что по-итальянски означает качели, он писал забавные романсы lt;…gt;. Недаром его фельетоны в „Одесских новостях“ назывались „Вскользь“ — он скользил по жизни, упиваясь ее дарами, и, казалось, был создан для радостей, всегда праздничный, всегда обаятельный. Как-то пришел он в контору „Одесских новостей“ и увидел на видном месте — икону. Оказалось, икону повесили перед подпиской, чтобы внушить подписчикам, что газета отнюдь не еврейская. Он снял свою маленькую круглую черную барашковую шапочку, откуда выбилась густая волна его черных волос, поглядел на икону и мгновенно сказал:
И вдруг он преобразился: порвал с теми, с кем дружил, и сдружился с теми, кого чуждался. Остались у него два верных друга: журналист Поляков[4] и студент-хирург Гинзбург[5], которого я впоследствии встречал в Москве.
Последний раз я видел Владимира в Лондоне в 1916 году. Он был в военной форме — весь поглощенный своими идеями — совершенно непохожий на того, каким я знал его в молодости. Сосредоточенный, хмурый — он обнял меня и весь вечер провел со мной».[6]
Наконец, последняя порция воспоминаний Чуковского содержалась в письме от 12 сентября:
«Вдруг вспомнил его строки, которых я не видел лет шестьдесят:
Помню также из его пьесы „Кровь“[7]:
И из „Ворона“ Эдгара По:
Все это врезалось мне в память, так как я глубоко переживал все, что писал тогда Altalena.
Он ввел меня в литературу. Я был в то время очень сумбурным подростком: прочтя Михайловского, Спенсера, Шопенгауэра, Плеханова, Энгельса, Ницше, я создал свою собственную „философскую систему“ — совершенно безумную, которую я проповедовал всем, кто хотел меня слушать. Но никто не хотел меня слушать, кроме пьяного дворника Савелия, у которого я жил, и одной девушки, на которой я впоследствии женился. Свою „философию“ я излагал на обороте старых афиш, другой бумаги у меня не было. И вдруг я встретил
Меня они радушно приняли в свой круг. Он почему-то назвал меня „Емельяныч“[12]. С волнением взбегал я по ступенькам на второй этаж „Гимназия Т. Е. Жаботинской-Коппе“ — и для меня начинались блаженные часы. От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация, в нем было что-то от пушкинского Моцарта, да, пожалуй, и от самого Пушкина. Рядом с ним я чувствовал себя невеждой, бездарностью, меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его густые черные-черные волосы, свисавшие чубом над высоким лбом, и его широкие пушистые брови, и африканские губы, и подбородок, выдающийся вперед, что придавало ему вид задиры, бойца, драчуна. Чаепитие в доме было долгое. Разливала чай сама Тlt;амараgt; Еlt;вгеньевнаgt;. Я немного побаивался ее: в ней было что-то суровое. В то время ее брат был в полосе ницшеанства: он высказывал молодые, вольные и дерзкие мысли об общепринятой морали, о браке, о бунте против установленных обычаев и т. д. Т.Е., нежно любившая брата, взглядывала на него с материнской тревогой. Теперь это покажется странным, но главные наши разговоры тогда были об эстетике. В.Е. писал тогда много стихов, — и я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах. Помню, он прочитал нам Эдгара По: „Philosophy of composition“[13], где дано столько (наивных!) рецептов для создания „совершенных стихов“.
От него первого я узнал о Роберте Броунинге, о Данте Габриеле Россетти, о великих итальянских поэтах. Вообще он был полон любви к европейской культуре, и мне порой казалось, что здесь главный интерес его жизни. Габриеле Д'Аннунцио, Гауптман, Ницше, Оскар Уайльд — книги на всех языках загромождали его маленький письменный стол. Тут же были сложены узкие полоски бумаги, на которых он писал свои замечательные фельетоны под заглавием „Вскользь“. Joseph В. Shlесhtman в первом томе своей замечательной книги на стр. 65–66 очень верно и метко характеризует эти фельетоны: „bubbling with exuberance of youth, with the irrepressible urge to proclaim truth, beauty and justice“[14].
Писал он эти фельетоны с величайшей легкостью, которая казалась мне чудом. Присядет к столу, взъерошит свои пышные волосы и ровным почерком, без остановки пишет строку за строкой. У меня была невеста — и мы часто бывали у Владимира Евгеньевича вдвоем, он относился к ней дружески и в свободное время играл со всеми нами в шарады. В изобретении шарад он был неистощим. Однажды, когда он задумал слова „Иоанн Кронштадтский“, мы никак не могли отгадать первый слог, оказалось, что это было еврейское слово йо (да), которое девушка говорит своему возлюбленному. Никаких других еврейских слов я от него не слыхал. Но с еврейской массой он встречался и тогда. Помню, как он, вместе с моей невестой и многими другими друзьями, принимал живое участие в раздаче угля (перед Пасхой) беднейшим евреям, жившим под землей в катакомбах. Никогда я не видал такой страшной бедности. С ним спускались в эти мрачные подземелья Гинзбург, Кармен[15] и я; мы раздавали беднейшим какие-то „квитки“ для получения угля, и Владимир Евгеньевич нередко присовокуплял к этим квиткам свои деньги.[16] Но я никогда не кончил бы воспоминания о нем. Мало что он вовлек меня в литературу, он уговорил редакцию „Одесских новостей“ послать меня корреспондентом в Лондон. Это было в 1903 году. Корреспондентом я оказался плохим — но здесь не вина Владимира Евгеньевича. Он почему-то верил в меня, и мне больно, что я не оправдал его доверия. В 1916 году я снова был в Лондоне. Жаботинский пришел ко мне в гостиницу, мы провели с ним вечер, он оставил в моем рукописном альманахе короткую дружескую запись[17] — и я долго бродил с ним по Лондону. Он живо интересовался литературой, расспрашивал меня об Ал. Толстом, о Леониде Андрееве, — но чувствовалось, что его волнует другое и что общих интересов у нас нет. Что с ним было дальше, я не знал, покуда не прочитал замечательную Story of his Life by Joseph В. Shlесhtman. Думаю, даже враги его должны признать, что все его поступки были бескорыстны, что он всегда был светел душой и что он был грандиозно талантлив. Как и всякий подлинный талант, он был скромен и держался со всеми нами на равной ноге — со мной, с Вознесенским (Бродским)[18], с Карменом и другим сотрудниками „Одесских новостей“».[19]
В период, когда писались эти мемуарные отрывки, в дневнике Чуковского появилось несколько записей, часть которых не вошла в первые публикации дневника. В опубликованной записи читаем:
В пропущенной записи находим несколько дополнительных подробностей:
15 авг. 1965. Я написал длиннейшее письмо в Иерусалим — воспоминанье о Жаботинском, который дважды был моей судьбой: 1) ввел меня в литературу и 2) устроил мою первую поездку в Англию.
30 авг. 1965. Был из Израиля еврей американец. Симпатичный человек. Он сообщил, что мое письмо к Рахиль Гальперин (так в тексте. —
Но эти цитаты из писем к Марголиной более или менее известны теперь. Любопытно другое: Чуковский до этого, в 1958 году упомянул о роли Жаботинского в своей жизни, причем на страницах советских изданий, правда, не называя его имени. В 1958 году литератор Макс Поляновский принес ему юбилейный выпуск газеты «Одесские новости», где в иллюстрированном приложении от 25 декабря 1909 года были помещены портреты всех сотрудников газеты, и среди них — Жаботинского и Чуковского. Процитируем Макса Поляновского:
Старое юбилейное приложение я lt;…gt; как бы невзначай показал Корнею Ивановичу Чуковскому. С интересом, любопытством и волнением вглядывался он в портреты сотрудников, большинство которых знал и, конечно, помнил. «Вот этот, — писатель назвал фамилию бородача на снимке, — дал мне путевку в литературу. Напечатал первую мою статью в „Одесских новостях“»… Корней Иванович поцеловал лицо, изображенное на описке. «А этот был на моей свадьбе!» — воскликнул Чуковский.
По поводу многих, впоследствии ставших широко известными, Чуковский рассказывал такие устные новеллы, что его импровизации позавидовал бы даже мастер этого жанра Ираклий Андроников. В это время я сфотографировал Корнея Ивановича со старой газетой в руках.
Но вот на последней странице он увидел самого себя: молодого, черноволосого, темноусого. За минувшие полвека писатель совсем позабыл и о приложении, и о снимке, где он моложе на… пять десятилетий.
Чуковский попросил дать ему до вечера старую газету.
…Вечером мы застали его на веранде все с той же старой газетой. Корней Иванович выглядел грустным и необычно притихшим.
— Никого из них уже не осталось. Не с кем даже поделиться, — сказал он, протягивая чуть пожелтевшее приложение, где под своей фотографией сделал следующую надпись:
«Да, действительно, милый Поляновский, я был когда-то такой. К. Чуковский. 17 августа 1958».[22]
Мог ли кто-нибудь тогда предположить, что Чуковский целует портрет Жаботинского, для отвода глаз превращенного в «бородача». Остается только сожалеть, что сохранивший тайну этой встречи Поляновский не записал устных новелл, которые тогда рассказывал Корней Иванович. Единственным памятником этой встречи остался снимок Чуковского с газетой, взирающего на портрет Жаботинского.
Но вернемся к письмам к Марголиной. Основные вехи отношений Чуковского и Жаботинского обозначены в них очень верно, поражает точность даже в деталях — ведь писалось это спустя почти пятьдесят лет после последней встречи. Но Чуковского и Жаботинского связывали не только личные, но и литературные отношения, вот их-то мы и попытаемся восстановить, опираясь на тексты каждого из них, похороненные в периодике тех лет и обретающие новое звучание в контексте этих отношений.
О том, каким был тогда Жаботинский, написано его биографами и последователями немало. О своей юности Чуковский написал сам (повесть «Гимназия» (два издания) позднее получила заглавие «Серебряный герб», воспоминания о Борисе Житкове и др.). Но писалось все это в советское время, когда любая автобиография человека, успевшего хоть кем-то стать до революции, писалась не столько, чтобы что-нибудь рассказать о своей прежней жизни, сколько для того, чтобы скрыть «родимые пятна прошлого».
Прежде всего о том, когда состоялось первое знакомство наших героев. Уже после писем к Марголиной, 12 марта 1968 года Чуковский делает следующую запись в дневнике: «Сейчас вспомнил, что была в Одессе мадам Бухтеева (ее объявления можно найти в „Одесских новостях“). У нее было нечто вроде детского сада — и туда мама поместила меня, когда мне было лет 5–6. Там было еще 10–15 детей, не больше. Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самым старшим среди нас был кучерявый, с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский. Вот когда я познакомился с будущим национальным героем Израиля — в 1888 или 1889 годах!!!»[23] Как установила Наталья Панасенко, детский сад Е. Бухтеевой в 1888–1989 годах находился по адресу Еврейская ул., 22 (здание не сохранилось).[24]
Самым тяжелым психологическим моментом биографии Чуковского являлось его происхождение: он был незаконнорожденным ребенком. Об обстоятельствах его появления на свет мы знаем очень мало, только недавно Наталья Панасенко опубликовала биографические сведения об отце Чуковского — Эммануиле Соломоновиче Левенсоне (1851-?), сыне одесского врача, потомственном почетном гражданине, в семье которого мать Чуковского — Корнейчукова Екатерина Осиповна (1856–1931) — жила в прислугах. Связь родителей была достаточно прочной, некоторое время их совместная жизнь продолжалась в Петербурге, где и появились на свет будущий критик Корней Чуковский[25] и его сестра Маруся, кстати, всю жизнь носившая отчество отца. Позднее, по настоянию семьи, Э. С. Левенсон женился на девушке своего круга, мы мало что знаем о его дальнейшей жизни, известно лишь, что его внуком от дочери Анны был известный математик Владимир Рохлин[26].
Мать Чуковского одна воспитывала детей, зарабатывая на жизнь стиркой белья, по семейным преданиям, от денег, которые предлагал отец, она отказывалась. Даже если бегло пройтись по биографиям людей Серебряного века (критик Л. Л. Кобылинский-Эллис, философ С. А. Аскольдов, дети В. В. Розанова и др.), ситуация эта была не такой уж редкой — но все переживали ее по-разному. Чуковский — крайне болезненно, и в этом, думается, одна из причин, по которой он так решительно сделал свое литературное имя гражданским. В одной из дневниковых записей он вспоминал о своей юности: «Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?) — был самым нецельным непростым человеком на земле. Главное: я мучительно стыдился в те годы сказать, что я „незаконный“. У нас это называлось ужасным словом, „байструк“ (bastard). Признать себя „байструком“ — значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что быть „байструком“ — чудовищно, что я единственный — незаконный, что все остальные на свете — законные, что все у меня за спиной перешептываются и что когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня»[27].
Обстоятельства рождения, причинявшие Чуковскому столько душевных терзаний, объясняют множество «белых пятен» в его биографии. Самое главное из них касается пребывания в гимназии, до сих пор не удается установить, когда и сколько лет он там проучился.[28] В повести «Серебряный герб» Чуковский писал, что его исключили как кухаркиного сына, но есть основания полагать, что скорее причиной послужила какая-то история, так или иначе связанная с отцом, который платил за его обучение.
Учеба в гимназии прекратилась около 1898 года, о том, что затем последовало, Чуковский вспоминал: «Меня выгнали из гимназии, я живу чем попало: то помогаю рыбакам чинить сети, наживляю переметы, то клею на перекрестках афиши о предстоящих гуляньях и фейерверках, то, обмотав мешковиной свои голые ноги, ползаю по крышам одесских домов, раскаленным безжалостным солнцем, и счищаю с этих крыш особым шпателем старую, заскорузлую краску, чтобы маляры могли покрасить их заново».[29]
Об атмосфере в семье и о своей матери Чуковский вспоминал позднее с некоторым даже умилением. «Воспитывала она нас демократически — нуждою»[30], — писал он в 1964 году. Но тогда, в начале жизненного пути, он понимал и другое — из этой нужды надо было вырываться во что бы то ни стало, и рассчитывать при этом приходилось только на себя. В юности Чуковский был довольно набожным ребенком, о чем свидетельствует сохранившийся в дневнике отрывок из его автобиографического романа, который он писал, когда ему было 15 лет:
Он не помнил, как это случилось, как это из религиозноlt;гоgt; мальчика, встававшего в полночь для тайной молитвы (край страницы оторван. —
А теперь, теперь он с тоской жмется к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в его голове, а стоят где-то в стороне, вне его; он чувствует их присутствие в мозгу. Но он еще борется и мучительно старается думать о другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что…
Ей-богу, ничего себе. Или я, быть может, не умею приложить к этому роману теперешнего критерия, а оставляю прежний? Я почти уверен, что это так. Заставить себя забыть прежнее мнение, забыть прежнего себя.
«Забыть прежнего себя» Чуковскому приходилось неоднократно, прошлый он никогда себе не нравился, здесь можно было бы привести немало примеров из его дневника. Превращение из гимназиста в босяка, а из босяка в литератора происходило не просто так, тут без посторонней помощи и без точки опоры было не обойтись. Зарабатывая на жизнь окраской крыш, перебиваясь другими случайными заработками, он вел дневник, где конспектировал все, что без разбору читал, и куда заносил собственные философские рассуждения, которые со временем надеялся объединить в оригинальную философскую систему «самоцельности». И здесь во всех его советских автобиографиях зияло белое пятно; он туманно давал понять, что неизвестный друг протянул тогда ему руку помощи: «Нужно сказать, что моей философией заинтересовался один из моих школьных товарищей, он был так добр, что пришел ко мне на чердак, и я ему первому прочитал несколько глав из этой своей сумасшедшей книги, которая у меня и сейчас сохраняется, написанная полудетским почерком[31]. Он слушал, слушал и, когда я окончил, сказал: „А знаешь ли ты, что вот эту главу можно было бы напечатать в газете?“ Это там, где я говорил об искусстве. Он взял ее и отнес в редакцию газеты „Одесские новости“, и, к моему восхищению, к моей величайшей радости и гордости, эта статья появилась там, большая статья о путях нашего тогдашнего искусства. Я плохо помню эту статью, но хорошо помню, что мне заплатили за нее семь рублей и что я мог купить себе наконец на толкучке новые брюки. Так началась моя литературная деятельность».[32]
Статья называлась «К вечно юному вопросу», речь в ней шла о спорах вокруг теории «искусства для искусства», и сегодня она открывает раздел «несобранные статьи» в новом собрании сочинений Чуковского[33]. А неизвестным другом и благодетелем, знакомым еще по гимназии, и был Владимир Жаботинский.
Обстоятельства публикации первой статьи Чуковского на страницах «Одесских новостей» отражены в его раннем дневнике, но по понятным для конца 80-х годов, когда готовился дневник к печати, причинам часть записей была пропущена. В опубликованной записи 27 ноября 1901 года читаем: «В „Новостях“ напечатан мой большой фельетон „К вечно юному вопросу“. Подпись: Корней Чуковский. Редакция в примечании назвала меня
Угощал Розу, Машу и Альталену чаем в кондитерской Никулина. Altalena устроил мне дело с фельетоном… В конце сентября я принес ему рукопись — без начала и конца, спросил, годится ли. Он на другой день дал утвердительный ответ. Я доставил начало и конец — он сдал в редакцию, и там, провалявшись около месяца, статья появилась в свет.
В этой записи появляется еще один важный персонаж — Маша, будущая жена и спутница жизни — Мария Борисовна Чуковская, тогда девушка из обеспеченной семьи, предмет воздыханий и основная тема всех дневниковых записей; как будет видно в дальнейшем, к ней с большой симпатией относился и Жаботинский.
Altalena-Жаботинский помог с публикацией следующей статьи Чуковского, посвященной публицисту М. О. Меньшикову, о чем упоминалось в записи 11 декабря:
Читал сегодня Жаботинскому свою статейку. Понравилась. Отнес в редакцию — и вот я на бездельи. А мне ни за что бездельничать не хочется — опять время упустишь. Нужно, чтобы после второй обязательно шла третья — обязательно. 5 статеек дам — а там и подумаю, как и что. Милый человек этот Altalena! Прихожу сегодня к нему — он спит, а уже двенадцатый час. Какое двенадцатый — первый! Работал вчера долго — вот и заспался. Я подождал — он оделся, вышел, даю статью свою с замираньем — прочел. — Ну, говорит, неужели вы сомневаетесь! — валяйте скорей к Хейфецу. Быть может, завтра пойдет.
В редакции Чуковского ждал достаточно равнодушный прием:
Хейфец был занят, статьи моей не прочел, и она сегодня не пошла. Я встретил Хейфеца на улице. Раскланялся — и, памятуя совет Альталены, — даже не заикнулся о статье. Так — лучше.[35]
На страницах газеты статья о Меньшикове появилась спустя несколько месяцев, и еще до того, как она была напечатана, Чуковский успел вступить в полемику со своим благодетелем. Произошло это вскоре после появления на страницах «Одесских новостей» фельетона Жаботинского «О литературной критике», опубликованного в его обычной рубрике «Вскользь». Мы воспроизводим его текст полностью.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |