"За Великой стеной" - читать интересную книгу автора (Демиденко Михаил Иванович)
ДНЕВНИК ПРОЙДОХИ КЕ ПОВЕСТЬ
Я окончил в Шанхае американский колледж, проявив, как меня уверяли, явную склонность к математическим наукам. Это радовало отца, который хотел, чтобы я поступил в Высшую коммерческую школу в Лондоне. Но мои собственные желания не соответствовали желаниям отца. Карьера коммерсанта не привлекала меня. Она представлялась мне слишком скучной. Во мне бродили недостаточно еще осознанные, но неодолимые стремления жить независимо, не пребывать долго на одном месте, не обременять себя грузом прочных привязанностей, столь свойственных натуре англичанина даже в наше время.
Строго говоря, я не изменял ни национальным, ни тем более семейным традициям. Моя мать — дочь русского офицера, бежавшего из России в 1920 году. До сих пор я не пойму, что легло в основу этого странного брака: родители были на редкость разные люди. Отец являл собой образец достоинства и хладнокровия; ничто на свете, казалось, не могло поколебать его твердых принципов, благоприобретенных еще в юности. Мать, напротив, отличалась характером добрым и мягким, говорят, это типично русский женский характер. Не знаю, к счастью ли, но от матери во мне гораздо больше, чем от отца. Иными словами, я больше, наверное, русский, чем англичанин...
Как бы то ни было, в Высшую коммерческую школу я не поступил (в 1952 году, спустя год с небольшим после возвращения из Шанхая на Британские острова, отец мой скончался, и мне, по существу, была предоставлена полная самостоятельность в выборе жизненного пути). Имея средства, я мог бы окончить Оксфорд или, скажем, уехать в Австралию и заняться там каким-нибудь небольшим, но прибыльным бизнесом, но вместо этого я направился в Гонконг и стал репортером в «Гонконг стандард».
В этой проклятой газете я сделал себе имя. Впрочем, что тут удивительного? Я молод, не обременен семьей, довольно бегло говорю на шести языках, не считая, разумеется, английского и русского. Туда, где пахло сенсацией или паленым — уверяю вас, это почти одно и то же, — редакция неизменно отправляла именно меня. За шестнадцать лет я исколесил добрую половину нашей удивительной планеты. Мне есть что рассказать...
Ну хотя бы эту историю. Она произошла во время вьетнамской войны. В моей судьбе она сыграла особую роль.
Началась она с того, что я познакомился в Макао[7] с молодым вьетнамцем и через несколько минут понял, что влип. Глупейшее положение: я сидел на его тетрадях и не знал, что делать.
Во мне боролись два человека — один хотел встать и уйти, второму очень не хотелось расставаться с тетрадями. Все мы любим таинственность. Конечно, каждый в разной степени. Одному достаточно разгадывать кроссворд в воскресном приложении газеты, а другой взбирается по отвесной скале на снежную вершину или сиднем сидит два месяца на дне пещеры. Людьми движет бог Любопытства, всесильный и неугомонный, на алтарь которого мы кладем бесценные сокровища — алмазы Времени, золото Жизни, рубины Разума в надежде получить взамен лишь дочь Любопытства — Истину.
Встать и уйти было просто. Те, за стеклом веранды, не задержали бы. Пока я не вызвал у них интереса. Тетради... Они не видели, что я сел на них. Руки мои лежали на столе, я вертел зажигалку.
Мы одновременно с парнем поглядели на окно веранды. Он умел владеть собой — удивительно в его годы. У него лишь побелели мочки ушей. Точно он их отморозил. Лицо у него было смуглым, волосы черные с отливом и белые-белые уши.
Он вдруг поднялся. Постоял. И, не прощаясь, пошел к выходу. Тогда я не понял, зачем он это сделал. Он шел не спеша, огибая столики. Никто не обращал на него внимания. Люди пили пиво, какая-то американка лет под тридцать в обществе трех солдат морской пехоты призывно хохотала, два невозмутимых голландца пожирали омара, какой-то парень в яркой рубашке тряс музыкальный автомат «джюк-бокс». По-видимому, автомат был сломан, это злило парня, и он хотел получить монету назад. Я действовал машинально. Уронил зажигалку, нагнулся и с ловкостью, которой никогда от себя не ожидал, сунул тетради под полу пиджака.
Я услышал выстрел, когда подходил к портьере. Звук был слабый. Пистолет был с глушителем. Излишняя предосторожность. Я знал, что происходит за спиной. Американка перестала смеяться и вскрикнула... Послышался стук упавшего кресла. Голландцы наверняка лишь на минуту перестали жевать, да парень у автомата грязно выругался по-испански, но трудно было судить, чему адресовалось ругательство — автомату или выстрелу. И все!
 |
Я в Макао! Здесь понятие любви к ближнему несколько отличается от общепринятого в Европе. Главная заповедь — занимайся своим делом и не суйся в чужие, если не хочешь принести в жертву богу Любопытства собственную жизнь.
Я знал гостиницу, останавливался в ней несколько раз. Я не поднялся вверх по лестнице, устланной красным синтетическим ковром, а рванул боковую низкую дверь и выскочил в коридор. Тускло горела единственная лампочка, вокруг нее вился рой москитов. Коридор вел на кухню. Повара разделывали огромную рыбу, наверное, тунца. Отрубленные куски рыбы складывались в холодильник, вмонтированный в стену. Толстая белая дверь напоминала дверь бомбоубежища, хотелось бы захлопнуть такую за спиной. Черным ходом, перепрыгивая через корзины с овощами, я выбежал в переулок.
На тротуаре, усыпанном шкурками бананов, мандаринов, обрывками бумаги, стружкой, два велорикши играли в карты. Один проигрывал, это было видно по хмурому выражению его лица.
— Чья очередь? Поехали! — крикнул я. — Быстрее!
Но они не обратили на мои слова внимания. Тот, кто проиграл, взял колоду, разделил на две части, привычным точным движением загнул края карт, потом отпустил, и карты веером легли друг на друга. Перетасовав колоду, он сплюнул, что-то проворчал под нос.
— Поехали! — опять крикнул я: если начнет сдавать, то их не поднимешь с места лебедкой.
— Второй пусть едет следом, — сказал я и прыгнул в коляску.
Рикши подумали... Поднялись и неохотно сели в свои седла.
— Гони! — приказал я. — Плачу вдвое, опаздываю.
Хорошо, что я нанял их обоих, — второй не наведет на след погоню. Я торопил рикшу. По его спине текли ручьи пота. Я видел только его спину. Шишечками выступали позвонки под рваной рубашкой. На авенида Алмейдо Рибейро я расплатился. Я специально остановился на главной улице: на ней полиция не разрешала задерживаться рикшам, иначе бы они уселись на газон и продолжали бы игру, пока кто-нибудь из них не спустил бы весь свой заработок. Я подождал, когда они скроются, перебежал улицу и пошел переулком в старую часть города. Я был уверен, что погони нет. Тем, кто подстрелил вьетнамца, потребуется время, чтобы хватиться тетрадей. Потом они обшарят гостиницу, пока не сообразят, что я улизнул.
«Зачем мне эта история? — подумал я. — Что может быть в этих тетрадях? Опять что-нибудь про воровство военного имущества в Сайгоне? Или свидетельские показания о крупной взятке?»
Мне совсем не хотелось возвращаться к подобной теме. Я и так нажил врагов среди американцев. Два года назад расшевелил муравейник.
Я прикинул — тетради весят фунтов пять. Не знаю, что удержало меня, почему я их не выбросил.
Мне открыла служанка. Новенькая, я ее впервые видел, в черном халате, с большой стеклянной брошью у воротничка. Широкие скулы. Скорее всего малайка. Я пошел в холл.
— Клер! — крикнул я. — Добрый вечер!
Клер вышла с сигаретой в руке. Мы поцеловались. У нас с нею были странные отношения. Когда-то я к ней был неравнодушен, присылал ежедневно по утрам цветы. Но у нас ничего не получилось. А теперь мы слишком долго знали друг друга. Такие отношения устраивали нас обоих: друг в Макао — самая большая ценность.
— Опять? — спросила она.
— Да, — ответил я. — И, кажется, задержусь. Мне хотелось бы несколько дней никуда не выходить.
— Я сварю тебе кофе, — сказала она и вышла. Удивительно она понимала меня.
Тетради жгли руки, я бросил их в угол. Нужно было обдумать, что произошло.
Вчера позвонила Дженни. Звонок не предвещал ничего плохого. Она сообщала, что хочет познакомить меня с интересным человеком. Она знала мою слабость.
Дженни... На ней стоит остановиться особо, потому что в происходящих событиях она сыграла не последнюю роль, и, даже если бы она не имела никакого отношения к моим последующим злоключениям, я обязан рассказать о ней подробнее, ибо она сама по себе была довольно любопытным явлением, иначе и не назовешь, так сказать, яркая представительница «золотой молодежи» Юго-Восточной Азии. Это особый район нашей старушки Земли, своего рода разросшийся до гигантского масштаба Шанхай начала тридцатых годов, прозванный в то смутное время «клоакой мира», Мекка авантюристов всех мастей и национальностей. Здесь умирали от голода и от обжорства, от неудачной любви и от венерических болезней, выигрывали в карты за ночь состояния и из-за трех пиастров расставались с жизнью в туалете. Ты мог поздороваться за руку с человеком, а через минуту узнать, что он прокаженный, рассуждать целый вечер о поэзии с профессиональным сутенером и подать чаевые министру. Здесь бесчисленное количество ресторанов, сомнительных кабачков, открытых притонов и одна-единственная библиотека в Гонконге — у английского губернатора. И если в Библии говорится о Вавилонском столпотворении, то оно по сравнению со столпотворением в районе Южно-Китайского моря выглядит жалким. Безалаберное, жадное, безжалостное, скупое, пьяное и безответственное сборище бизнесменов, искателей приключений, мужественных рыбаков и не менее отчаянных контрабандистов, сборище людей, где удел честных тружеников — беспросветная нищета, а за богатство приходится расплачиваться собственным «я», привязанностями, не говоря уже об идеалах святой юности.
Дженни по национальности была китаянкой. Отец ее был уроженцем одной из южнокитайских провинций, мать наверняка северянкой, и, хотя я ее никогда не видел и не знал, жива ли она вообще, я смело могу утверждать, что она была северянкой — об этом свидетельствовала фигура Дженни. Северяне отличаются от южан не только языком и обычаями, у северян примесь маньчжурской и монгольской крови, а на юге — малайской. Здесь, пожалуй, живет другая раса — длинноногая, поджарая, с мелкопористой кожей, отчего тело женщин кажется словно выточенным из слоновой кости. Правда, я не берусь безапелляционно утверждать, что на юге Китая живет другая раса. В антропологии я дилетант.
Отец Дженни был дельцом. Звали его господин Фу. Я не хочу называть его подлинного имени, потому что «подлинных» имен и фамилий у него было не меньше десятка. Официально господин Фу занимался перепродажей антиквариата. Так ли это? Меня несколько раз вежливо предупреждали, чтоб я не совал нос в его дела.
С Дженни мы познакомились в самолете английской авиакомпании. Она возвращалась из Калифорнии домой. В Штатах она училась, окончила какой-то университет, получила диплом, который потеряла на первой же пирушке. Откровенно говоря, меня всегда интересовали подобные «модернизированные» молодые люди, которых в Америке открыто называют «цветными». Вернувшись из-за океана, они отказываются подчиняться родителям, не признают обычаев предков, хотя зов крови в них необыкновенно силен. Не один ростовщик Сингапура или Манилы проклял тот момент, когда послал отпрыска набираться ума-разума к проклятым «заморским чертям». «Модернизированных» юнцов куда больше интересовали проблемы секса, чем цены на бананы или разработка редких пород древесины в малярийных болотах Суматры. У них были смутные желания, неосознанные порывы и никакой перспективы.
Дженни (ее настоящее имя было, конечно, иным) лепетала что-то о поп-искусстве, каких-то нелепых, лишенных элементарного смысла пьесах студенческой группы любителей театра. При этом она беспрестанно ела конфеты. Я сказал, что при подобной страсти к сладостям через несколько лет она будет весить не меньше, чем профессиональный боксер тяжелого веса. Она мило рассмеялась в ответ. Так началось наше знакомство.
Потом мы встретились в Гонконге. Она завизжала и бросилась мне на шею. Возможно, это считалось хорошим тоном там, в Калифорнии. Целый вечер она жаловалась, что умирает от скуки, и потом зверски напилась.
Вообще-то к Дженни следовало относиться осторожно. Вполне возможно, что разговор по телефону был подстроен ее отцом. И все же я, как бабочка на свет, полетел в Макао. В таких случаях я уже ничего не мог с собой поделать.
Когда парень сунул мне под столом тетради, первое, что пришло мне в голову, — это провокация. Но потом я увидел за окном людей. Гангстеров я узнаю с первого взгляда. Но я ведь видел и Дженни. Я не мог ошибиться. А может быть, это была не она? Не слишком ли подозрительным я стал в последнее время?
Нет, все-таки это была Дженни! Правда, девушка стояла в тени. И грызла ногти. Такая же неприятная привычка была у дочки господина Фу. Зачем она пришла сюда? Если бы хотела предупредить об опасности, она бы нашла какой-нибудь другой способ.
Парня убили. Значит, у них были для этого основания. Какие? Тетради?
Я поднял с пола тетради, перевязанные тонкой бечевкой, как пакет с покупками. Достал первую из них, развернул. С усилием прочитал первую строку:
«Сегодня у нас праздничный обед. Два дня уже не работаем. Все ходят радостные. Так хочется увидеть Балерину...»
Ерунда какая-то! Я полистал страницы. Описки, кляксы, жирные пятна. Две тетради, видимо, побывали в воде, и если можно что-то прочитать на слепившихся страницах, так это благодаря тому, что запись делалась шариковой ручкой, — ее паста не расплывается, как чернила «паркер». Читать дальше не хотелось. Я снова бросил тетради в угол.
И все-таки парня убили. Скорее всего он знал что-то. Ладно, как-нибудь разберусь, что там написано.
Вошла Клер. Служанка вкатила за ней следом столик. Клер любила сама варить кофе и делала это мастерски. Здесь, в Макао, кофе варят по-португальски и кладут в него слишком много пряностей. А мы с Клер любили кофе по-турецки, крепкий и сладкий. С пенкой и без цикория.
Что больше всего мне нравилось в доме у Клер — это отсутствие тяжеловесной старинной мебели. Такая мебель загромождает квартиры европейцев в Гонконге и Макао. В здешнем климате огромные трюмо и серванты гниют и быстро превращаются в ужасную рухлядь. В комнатах с вечно опущенными жалюзи на окнах стоит прочный запах плесени.
У Клер же было светло и просторно. Она любила японский стиль. Легкие бамбуковые занавески. Бамбук почти не подвержен грибковым заболеваниям, и от него не несет за милю плесенью. Раздвижные стены. Европейское — эго телевизор и стеллаж с книгами. Клер увлекалась испанской поэзией.
— Ну что ты будешь врать на сей раз Павиану? — спросила Клер.
Павианом мы называли моего шефа. Шеф действительно походил на павиана. Вытянутая вперед нижняя челюсть. Спутанная грива волос на затылке. Сходство добавляла его речь: когда он злился, а это было его обычное состояние, он выкрикивал какие-то нечленораздельные звуки, как будто действительно рычал павиан.
— Что-нибудь придумаем, — сказал я. — Обязательно придумаем.
— Удивляюсь, почему он до сих пор не выгнал тебя с работы?
— Да он бы рад, но кто будет на него работать? За какие-то три сотни долларов посылает в самые грязные дыры.
Клер промолчала. Она включила вентилятор. Но в комнате и без него было прохладно.
Я хотел рассказать ей о том, как полчаса назад убили парня. Но потом решил, что она разволнуется и будет — в который раз! — упрекать меня в легкомыслии. Женщины так устроены, что, если с мужчиной случается несчастье, они считают, что в нем прежде всего виноват мужчина. Может, поэтому я и не женился.
Трудно даже представить, как бы я жил, если бы был женатым. Я бы наверняка спился, какой бы ни была моя воображаемая супруга. С Клер было иначе. Правда, я не знал ее как женщину, может, это-то и было самым прекрасным. Несколько лет назад я открыл сам для себя «закон скорпиона». Суть его заключается в том, что скорпион после близости с самкой бежит от нее прочь сломя голову, иначе она его догонит, парализует ударом жала и отложит на его теле личинки.
Клер — милая, тонкая, уютная. В наших отношениях никогда не было и тени фальши. И тем не менее я часто ловил себя на мысли: а может быть, и в ней до поры до времени спит скорпиониха?..
— Только на этот раз, — сказала она, — ты будешь говорить с Павианом сам. Мне надоело слышать его рычание. Я теряюсь...
— Хорошо, — сказал я.
— А что ты ему скажешь?
— Что женюсь на тебе. И у нас уже началось свадебное путешествие.
— Не валяй дурака. Я спрашиваю серьезно.
— Скажу, что есть дело. Кажется, что-то интересное.
— Но он спросит, какое? Как ты объяснишь, что не можешь выехать из Макао?
— Этого он у меня никогда не спрашивает. Он знает, что если я застрял, то привезу хороший «гвоздь». Закажи разговор.
Соединили довольно быстро, быстрее, чем я предполагал. В трубке вначале треснуло, потом раздался хриплый голос Павиана. Кажется, на этот раз он был трезв.
— Шеф, — сказал я, — как вы себя чувствуете?
— С каких пор вы стали интересоваться моим самочувствием? Что там у вас, выкладывайте.
— Я задержусь на неделю.
— А в чем дело?
— Объясню, когда приеду, — сказал я.
Павиан буркнул что-то, в трубке опять щелкнуло, разговор кончился. Я мог считать, что разрешение получено.
— Полдела сделано, — сказал я. — Прикажи, чтоб мне постелили. Спокойной ночи, Клер! Я не знаю, что бы делал, если бы не ты. Ты молодец!
Я пошел наверх, в свою комнату, которую всегда мне отводили, когда я приезжал к Клер.
А тетради все-таки стоили риска, которому я себя подвергал. Это стало ясно после первых же страниц: кое-что, правда, я перефразирую, домысливаю, излагаю в собственном стиле, некоторые имена я сознательно опускаю — у меня для этого есть основания, — плюс неточности, которые бывают при всяком переводе, тем более с такого текста, который попался, — сплошная головоломка. Я не уверен, что даже сам автор смог бы точно расшифровать то, что написал впопыхах. Так бывает — пишешь: «Вчр. вид. К...», а потом берешь записную книжку и ничего не понимаешь. Что за «вид.», что такое «К.»?
Итак... Я засел за тетради. За что же убили человека? А его наверняка убили. Не станут же стрелять просто так в человека, вроде бы как попугать.
Первая тетрадь
В дверь постучали. Вошла Клер. Хотя я и жил в ее доме, эта комната считалась моей, и сюда никто не входил без стука, даже хозяйка.
— Ты что, нездоров? — спросила она встревоженно.
— Эх, Клер! — ответил я. — Наверное, ты абсолютно права — я легкомысленный человек. Видишь эти бумаги? — Я показал ей на стопку тетрадей. — Из-за них убили человека. Можно сказать, на моих глазах, хотя это будет неточно — я не видел, а слышал, как его убили, и даже не мог обернуться. Удивительно другое, что парни выпустили меня. А ведь где-то в злоключениях этого человека косвенно виноват и я.
— Ты всегда преувеличиваешь.
— Нет... На этот раз самую малость. Помнишь, я написал о хищении медикаментов в Сайгоне? Сейчас, правда, другое.
— Очень серьезно? — спросила Клер.
— Никогда еще так серьезно не было... Что-то нужно предпринимать. Что? Пока я не знаю. Ясно одно — немедленно надо отсюда выбираться. Конечно, убить европейца им сложнее, чем вьетнамца. Но ты знаешь, сколько способов существует избавиться от ненужного человека.
— Я могу помочь?
— По-моему, нет. Чем ты можешь помочь? Переодеть меня в одежду сестры милосердия?
— Прости, дорогой, — сказала она мягко, — если это так серьезно, может, на этот раз ты посвятишь меня в свои дела?
Я ни разу не рассказывал ей о тех перипетиях, в которые попадал. И дело было не только в моей профессии или в том, что я жил в Гонконге, а она в Макао, собственно, в другом государстве, дело заключалось в ином: я, как гончая, весь напрягаюсь и делаю стойку, когда чувствую опасность. Во мне играет, видимо, кровь моей матери, говорят, что русским свойственна бесшабашность.
В самом деле, как бы вел себя на моем месте чистокровный англичанин?
Он не отказался бы, конечно, от соблазна получить сенсационный материал, но был бы при этом спокоен и деловит.
Он заранее предусмотрел бы возникновение множества неожиданных ситуаций и действовал бы по плану — расчетливо и хладнокровно, имея всегда наготове пути отхода. У меня все иначе! Я вначале влезаю в историю, быстро связываю сам себя по рукам и ногам и только потом начинаю мучительно искать выхода.
Нет, таким людям, как я, нужно действовать в одиночку. Мои решения часто диктуются эмоциями. Зачем же ставить под удар друзей? Ведь чем дольше живешь, тем труднее находить их. Разве я могу подвергать смертельной опасности Клер, если это мой друг?
— Кое-что самому неясно, — сказал я, — как-нибудь в другой раз...
Я старался говорить спокойно, даже улыбнулся. Полистал последний журнал мод. Мини-юбки стали короче, макси превратились в рясы.
— От юбок скоро ничего не останется, — сказал я. — Но некоторым идет.
— Только не мне, — отозвалась Клер. — У меня не такие красивые ноги, чтобы выставлять их напоказ.
— Я не согласен. Они у тебя в норме, просто ты маленького роста. Моды возникают не только на юбки, но и на женщин. Сейчас какие в моде? Посмотрим. Высокие, худые. Такие тебе нравятся? Нет, Клер, такими меня не соблазнишь. Я консерватор. Я люблю нормальных женщин, чтобы у них все было на месте. Напрасно говорят, что женщины похожи. Неверно. Вся сила женщин в том, что каждая из них в своем роде неповторима.
Но Клер трудно было отвлечь. Если ее что-то беспокоило, она становилась настойчивой и упрямой.
— Артур, — сказала она, — на этот раз ты мне расскажешь, что с тобой приключилось. Я имею право знать. Мне надоело быть игрушкой в твоих руках. Ты всегда являешься неожиданно и так же исчезаешь. И потом полгода не догадаешься позвонить. Я не знаю, жив ли ты, здоров ли и где тебя опять носит. Я хочу знать о тебе больше, чем ты находишь нужным сказать. Ты приходишь когда тебе захочется... Когда я тебе нужна. А если ты мне нужен? Не делай удивленных глаз. Я женщина. И если тебе здесь бывает трудно, мне во сто раз труднее. Мне хочется иногда просто поговорить, а я не могу добраться до тебя даже по телефону. Это нечестно. Игра у нас неравная. Поэтому выкладывай!
Меня приперли к стенке... Но я все-таки не имел права рассказывать правду. Бывают обстоятельства, что даже лучшим друзьям нельзя открывать карты. Это случается, когда ты не хочешь другу причинить зла. «Знания умножают страдания» — классическая формула. Если взять ее за неопровержимую истину, то в наше время счастливыми могут быть только клинические идиоты. Я не считал Клер глупышкой, скорее наоборот, но я был обязан огораживать ее от опасности, пока возможно и даже если это было бы невозможно.
— Выкладывай, выкладывай, — продолжала она. — Что это за тетради? Ты их читаешь, точно новый роман Агаты Кристи.
— Тут об одном острове, — начал я издалека, — интересно... Необычайно...
Я помолчал. Закурил.
— Он отсюда недалеко, сравнительно, конечно, тем более если будем исчислять расстояние парсеками и прочими космическими мерами длины. Он здесь, в нашем районе... Я как-то был на нем, — сказал я неуверенно.
Теперь я знал, что ей говорить.
— Я был на этом острове, — повторил я, — помнишь, была сенсация?
— Какая? Одна из твоих? Или твоих коллег? Скажи честно, многие из них хотя бы на треть основывались на фактах?
— Это наивный, даже банальный вопрос, — сказал я. — В твоем возрасте подобных вопросов не задают. Мы, «четвертое сословие», журналисты, занимаемся одной из древнейших профессий — поставляем людям новости, или, как теперь принято говорить, информацию. Самым первым репортером был человек каменного века, топор которого высек на стене пещеры историю охоты на бизона.
— Когда не хотят отвечать прямо на вопрос, — сказала Клер, — то придумывают красивые отговорки. Сколько процентов правды было в твоих сенсациях? Можешь ты ответить на этот вопрос? Пусть он будет наивный и даже банальный.
— Понимаешь, — сказал я, — газета выходит каждый день. Действительная сенсация, если подходить со строгими мерками моего отца, случается не чаще одного раза в месяц, но газета выходит каждый день, и в каждой газете сидит свой Павиан. Между прочим, есть классический пример... Это сказки Шехеразады «Тысяча и одна ночь». Шах, это почти что мой Павиан, требовал от Шехеразады каждый день, вернее каждую ночь, сенсацию, в противном случае ей грозила смерть. Мне в подобной ситуации грозит увольнение. Сенсация — двигатель газеты. Хочешь, устроим опыт? Сними трубку и позвони в любую газету, скажи, что я сижу у тебя и у меня есть «гвоздь» — ну хотя бы что сменяют губернаторов — и что я готов продать материал. Через десять минут они будут здесь. Репортер должен быть на пожаре раньше пожарников.
— И на похоронах раньше покойника?
— Отлично сказано! А не попробовать ли тебе стать репортером? Держу пари, получится. Самое главное — у тебя есть здравый смысл.
— Ладно, — сказала она. — Ты уводишь разговор в сторону. О какой сенсации ты говорил?
— Ах да! — Я замолчал. Она сегодня была удивительно последовательной, мой друг Клер. Но говорить что-то нужно было, и я продолжал: — Так вот... Лет пять назад на этом острове поймали «йети». Я мчался туда сломя голову. И все-таки опоздал. Проторчал в Шолоне два дня, пока уговорил капитана одного лесовоза подбросить к острову. Капитан согласился, но как выбраться оттуда?.. Это уж я должен был придумать сам.
И все-таки я опоздал — там уже сидели ребята. Человек двадцать. Стояли палатки, на газовых плитках варили кофе, а весь берег был усыпан банками из-под пива. У каждой цивилизации свои следы. Ребята встретили меня дружным хохотом. Еще бы! Их подбросили на вертолете американской метеослужбы. Меня бы янки ни за что не взяли — я для них «нежелательное лицо».
И видела бы ты этого «йети», эту «сенсацию»! Солдат микадо. Он не знал, что кончилась война. Он не помнил, как его зовут. Он сидел испуганный, маленький, личико сморщенное, как у старой обезьянки. Ребята дали ему куртку и штаны. И когда мазали язвы, то его приходилось держать. Он визжал, брыкался и пытался укусить. От него шел такой запах! У тебя бы на неделю пропал аппетит. А моим коллегам хоть бы что! Они влили ему в рот несколько глотков джина. Дурацкая шутка! Он чуть было не взорвался... Чуть было не вырвался и не убежал в джунгли. Он залез на дерево, потом свалился и «запел». Да!.. Выл как гиена. Волосы дыбом вставали. А Боб из «Рэйдио корпорейшн», ты его знаешь, я был у тебя с ним, цыкал на нас и записывал песню «Робинзона XX века» на пленку. Говорят, прилично заплатили. Пленку купили японцы. Их можно понять. Двадцать лет солдат Страны восходящего солнца прыгал по островку во славу величия нации. От этой песни у них теперь бы все новобранцы разбежались.
А потом я неделю жил жизнью этого солдата, меня не взяли в вертолет, как я думал. Правда, была разница — у меня были палатка, сигареты, консервы, виски и транзистор. Я слушал мир, и он был так далек от меня, словно на другой планете.
Где-то кипели страсти. Закрылась Всемирная выставка... В Японии увеличили бюджет на военные нужды, что-то около полутриллиона иен. А мне до всего этого не было никакого дела.
Я лежал, смотрел в небо. Первые мои каникулы в жизни — за целую неделю я не написал ни строчки. Представляешь, ни одной строчки. И пожалуй, если бы меня заставили там стучать на машинке, я бы стал кусаться, как солдат микадо. Иногда я ловил себя на мысли, что тоже дичаю — не нужно было бриться, я ходил в ботинках на босу ногу, и мне было лень даже зашнуровать ботинки. Шнурки... Я жил в полудреме. Отпускаешь все тормоза. Прекрасное и страшное состояние. Сидишь с удочкой у кораллового рифа. И неважно, поймаешь рыбу или ничего не поймаешь. Ты чувствуешь себя частицей моря, неба и солнца. Единственно, кого мне не хватало, — это тебя.
— Ты говоришь правду? — спросила Клер. Глаза у нее почему-то стали грустными и мечтательными — так дети слушают сказку.
— Да, я думал о тебе, — сказал я, сам веря в то, что говорил. — Целый день качались бы в гамаках, слушали джунгли, а когда это надоедало, мы брали бы акваланги. И плыли к рифу. Меня бы не терзал Павиан, тебя бы не терзали твои клиентки... А на рождество я бы обязательно написал письмо Павиану и выложил бы все, что думаю о нем.
— Понимаю, — сказала Клер, и огонек мечты потух в ее глазах. — Ты бы написал... А письмо положил в пустую бутылку и бросил в океан — может быть, человеку посчастливится через сто лет ознакомиться с твоим посланием редактору.
— Я не думал, что ты такая... практичная... — сказал я, делая вид, что обиделся.
— Ты нарисовал очень заманчивую картину, — продолжала Клер несколько раздраженно. — Но ты бы первый не выдержал и сбежал. Если я непременная принадлежность рая для тебя, то почему ты не задерживаешься у меня больше двух дней? Почему даже эти два дня ты работаешь? Ты вечно в погоне за своими мнимыми и действительными сенсациями. Ты как ребенок.
Клер грустно улыбнулась.
— Почему я работаю? — переспросил я. — По простой причине. В этом мире может выжить тот, кто лучше работает. У кого быстрее реакция, кто может получить больше информации и, самое главное, обработать ее, извлечь полезное. И опять работать! Эта гонка и называется прогрессом, а все остальное — застоем, преддверием к отмиранию.
— Кстати, а как ты все-таки выбрался с того острова, из своего рая?
— Боб обещал прислать гидросамолет.
— И выполнил свое обещание?
— Откровенно говоря, я его никогда не спрашивал. Я выбрался сам.
— На ковре-самолете?
— Нет, все было более прозаично. За мной зашел тот капитан лесовоза, на котором я добрался до острова. Когда я влез к нему на борт, он пыхтел трубкой — у него вся борода была желтая, прокуренная, — и только я приготовился рассыпаться в благодарностях, он рявкнул: «Молчите, сэр! Я проиграл пари своему помощнику. Я был уверен, что вы окажетесь более ловким». Интересные люди моряки. В них еще осталось то, что мы потеряли, — естественность.
Не знаю, поверила ли она в то, что я ей рассказал. Пожалуй, все-таки поверила. Во всяком случае, сделала вид. В конце концов, я не солгал. Был и японский солдат, и остров. Я действительно прожил несколько чудесных дней на маленьком острове, где меня развлекали шум прибоя, пение попугаев. Но то был другой остров. И совсем в другом месте.
Поверила Клер или нет, у нее было достаточно такта, чтобы в конце концов оставить меня одного. Но я знал, что, выбрав подходящий предлог, она обязательно придет снова и снова настойчиво станет задавать вопросы, которые начинали ее беспокоить. Что-то изменилось в наших отношениях. По всей вероятности, наша дружба (в таком виде, какая она была) никогда не сможет полностью удовлетворить женщину. Мужская дружба нечто иное. Она не требует обязательных подтверждений и клятв. Взять того же Боба. Я знал его недостатки и слабости, даже пороки. Он знал мои... Вместе мы не выдерживали более суток. Встречались редко, но, когда сталкивались нос к носу, не выясняли, почему он меня не поздравил с днем рождения. Мы лишь хлопали друг друга по плечу, и со стороны могло показаться, что мы даже не рады встрече. Но я знал: если понадобится, Боб прилетит ко мне хоть из Австралии.
Да, у Клер появилось что-то новое... Пожалуй, я не удивлюсь, если в один прекрасный день ее служанка со стеклянной брошью у воротничка скажет, что хозяйки нет дома...
А звонить по телефону... писать письма... Значит, порождать у моего друга Клер ложные мысли или даже надежду, что я медленно, но неумолимо плыву к ее гавани. Женщины не любят неопределенности. Они требуют четкого солдатского ответа: да или нет!
Я подошел к окну. Жалюзи были опущены. Жалюзи как темные очки: ты видишь, что происходит вокруг, но никто не замечает выражения твоих глаз. Клер жила в старой части города. Здесь дома стояли нахохлившиеся, каждый сам по себе, не желая контакта с соседом. Они напоминали капитанов королевского флота — полуофицеров, полупиратов.
Я оглядел улицу. Мелькали редкие машины. Плавно катились коляски велорикш. В Макао нет правил уличного движения в европейском понимании. В Европе шофера задерживает полиция, если он едет на красный свет. За такое нарушение платят штраф или лишают водительских прав. То в Европе. Здесь вообще нет водительских прав, эти права даются автоматически хозяину машины во время ее покупки. Светофоры... Их поставили на главных улицах. Пустая затея. Никто не обращал на них внимания. Чтобы вести машину по кривым многолюдным улицам португальской колонии, требуются крепкие нервы и реакция партерного акробата. Каждую секунду под твои колеса может метнуться неосторожный прохожий или рикша встать поперек улицы. Поэтому никто не удивляется, когда машина влетает на тротуар и шаркает бортом о стену дома или даже сбивает человека на пороге собственного дома. Правила, конечно, кое-какие есть, неписанные и тем не менее обязательные, как все правила. Нельзя, например, сбивать бампером иностранцев, полицейских, нельзя давить собак, нельзя переезжать улицу, если по ней движется похоронная процессия.
Я еще раз оглядел улицу. Ничего подозрительного пока не было. Пожалуй, рановато тем, кто застрелил парня в баре, выйти впрямую на мой след. Я еще раз внимательно изучил улицу... Жалюзи... Они не только защищали от безжалостного солнца, из-за них было хорошо стрелять — идеальное прикрытие для покушения.
Я отошел от окна, достал зажигалку в виде пистолета. Настоящего оружия я никогда с собой не беру. Это уже было не правилом, а законом. Его ввел когда-то русский путешественник Миклухо-Маклай — хотя он имел ружье, но стрелял только дичь. Я усовершенствовал правило — вообще не ношу на себе оружия. Нервы могут не выдержать... Нервы — это только нервы. И если бы в минуту смертельной опасности пустил в ход оружие, это был бы верный конец. И не только карьеры журналиста. Если я хотел работать в этом сумасшедшем районе мира, я должен был быть только журналистом. Пусть даже единственный выстрел, он означал бы, что я вступил в борьбу на чьей-то стороне. Это означало, что другая сторона или третья, вполне могло оказаться, что и четвертая поняли бы мой выстрел как объявление военных действий, и если опасность мне угрожала лишь в тот момент, когда я добывал нужную для газеты информацию (эта опасность автоматически отпадала, когда я сидел «смирно»), то объявление войны любой из сторон привело бы к безусловному поражению. В конце концов, все те, за кем я охотился как репортер, испытывали ко мне не большую ненависть, чем к москиту, — москита прихлопывают, когда он кусает. Но если москит летит по своим москитным делам или сидит на стене и отдыхает, даже напившись крови, вряд ли кто, кроме одержимых, будет его ловить. Мой бизнес — новости. Каждый делает деньги как может. Это все знали и даже относились ко мне сочувственно. Я был газетчиком. Этим объяснялось все. Но если бы я выхватил пистолет и открыл стрельбу... Откровенно говоря, мне не хотелось ездить под усиленной охраной как видному политическому деятелю (газета бы на этом разорилась), я не хотел уходить в подполье, тем более в партизаны.
В данный момент я должен был «отлежаться» у Клер, как енот. На меня шла охота, призом служили тетради, и, как только я от них избавлюсь (продам или опубликую), я смогу чувствовать себя относительно безопасно. Если в тетрадях будут стоящие сведения, заинтересованные лица вначале не будут даже угрожать. Они вступят в деловые переговоры, будет объявлен негласный аукцион. Кто больше? И вот, если я по каким-то соображениям не захочу разойтись с ними «со взаимным уважением», тогда тетради попытаются похитить. Тогда мне будут угрожать. В ход пойдут все виды борьбы. И опять дело не в том, что кому-то будет нужна моя жизнь, она будет лишь препятствием к приобретению «товара».
Я должен был «отлежаться» у Клер. А поэтому не имел права тратить впустую время. Выигрывал тот, кто лучше умел работать.
Я снял покрывало с кушетки, сложил его и положил на стол. Потом достал пишущую машинку, поставил на одеяло — теперь не будет слышно стука клавишей. Пододвинул дневники. Я сразу переводил и печатал на машинке. На всякий случай я заложил за валик три экземпляра.
Тетрадь
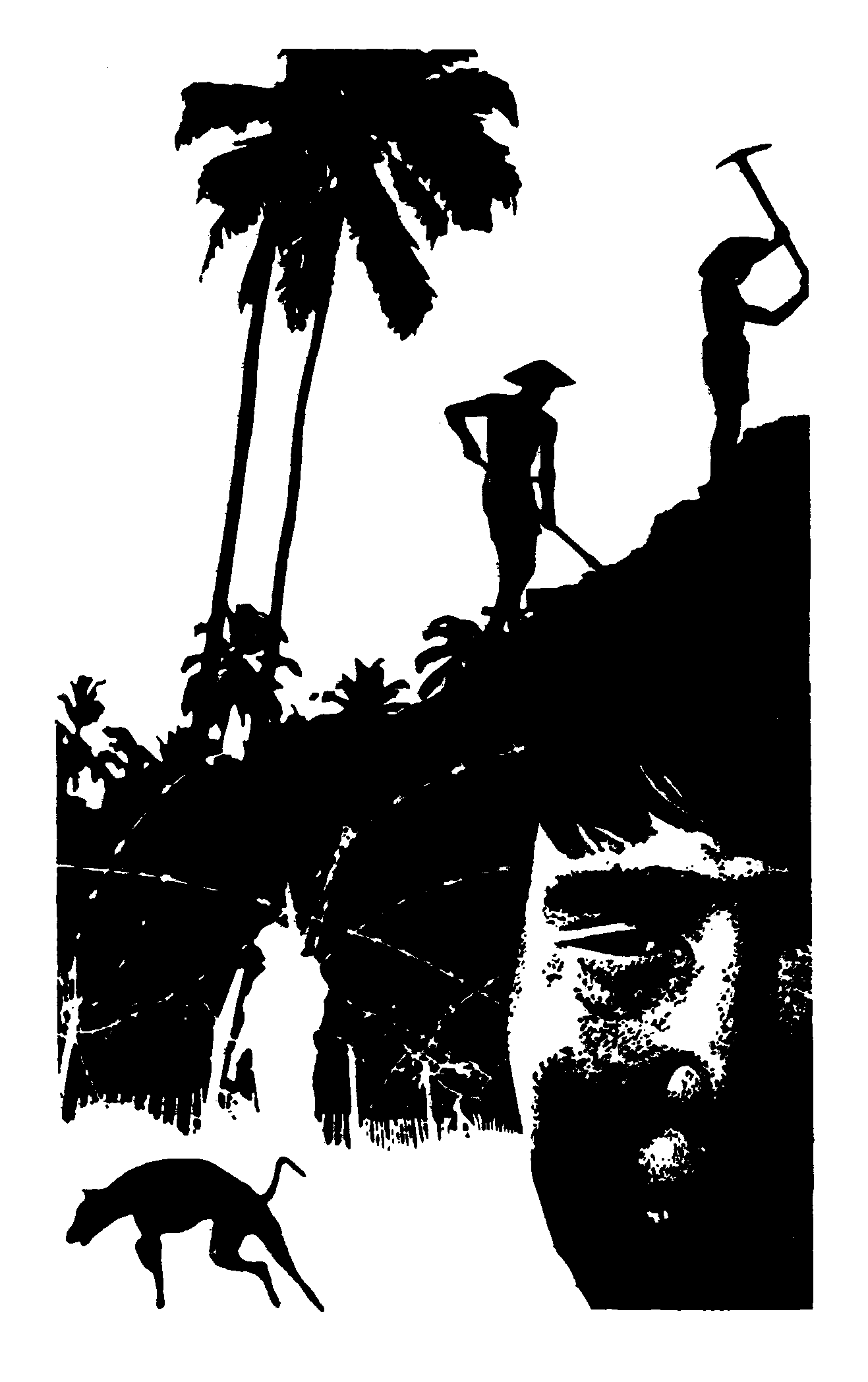 |
Тетрадь
Я стучал на машинке часа четыре. Без перерыва. Времени было в обрез. Могло случиться всякое, и я должен был быть готовым к неожиданностям. Каким? Этого я не мог предсказать, потому что не обладал даром предвидения.
Я попытался «собрать в кулак гены», которые достались в наследство от отца. Попытался спокойно, логично проанализировать события, отделить хлябь от тверди.
Как могут напасть на мой след? Дженни вызвала меня по настоянию отца, темного дельца, господина Фу. Но зачем? Зачем господину Фу было выводить на меня человека, у которого был опасный материал? Гангстеры могли пришить парня спокойно, без шума, в «семейной обстановке».
Второе. Им нужен был свидетель. Но почему именно я? Здесь не было логики. В подобном случае приглашают комиссара местной полиции, и если дело серьезное, то первого попавшегося сотрудника Интерпола, которых здесь хоть пруд пруди.
Третье. Мистификация — дело рук сумасбродной Дженни, дикая выходка после очередной попойки. От выпускницы Калифорнийского «инкубатора интеллекта» можно ожидать всякого. Я знал одного «модернизированного» юношу, который подделал подпись отца для того, чтобы ощутить остроту переживаний мошенника. Не находя применения своим «идеалам», подобные «образованные» молодые люди либо прячут страх в чудачествах, туманных рассуждениях о «справедливости» и «любви», «борьбе со всемирным злом», либо ищут забвения в алкоголе или в «путешествиях» по рецепту доктора Лири, новоявленного пророка секты «ЛСД-25».
Последнее время много пишут о проблемах молодежи, о хиппи. Но если копнуть лопатой раздумья породившую их почву, то с удивлением обнаружишь, что это дети обеспеченного и преуспевающего класса, ожиревшего от благополучия. По набережной Гамбурга, на пляжах Флориды и Сан-Франциско, на берегу Неаполитанского залива слоняются толпы нечесаных сынков и помятых от бесконечной любви дочерей благопристойных родителей. Чего только о них не писали! Что хиппи — своеобразный протест молодежи, вызов миру наживы, пассивное отрицание буржуазных идеалов, презрение к мещанскому благополучию... Чуть ли не прогрессивное движение, своего рода «маленькая неосознанная революция индивидуума».
Все это высосано из пальца, как и «свидетельства очевидцев приземления летающих тарелочек». Песчаные бури ветра сенсации.
Я знаю, как возникают подобные великие пустословия.
Шеф вызывает и говорит:
— Тираж падает. Нужно найти не «гвоздь», а «столб». Давай, давай, думай, может быть, какой-нибудь «заговор» придумаем. Номера на три... Потом опровержение дадим на последней странице.
— Шеф, — отвечаешь, — месяц назад мы уплатили штраф марокканскому шейху, еле откупились.
— Ты прав, — говорил задумчиво «благодетель», — надо бы какую-нибудь дискуссию организовать. Но чем их расшевелить? Космосом, глубинами океана, найденными сокровищами в джунглях Индии? Все это приелось. Нужно придумать... чтобы задеть каждого, напугать и обнадежить. Вчера была драка в Майами... Давай-ка набросимся на молодежь, на этих длинноволосых.
И ты набрасываешься.
Появляется статья социолога, полицейского инспектора, опечаленных родителей, номера пухнут от проклятий, заклинаний и призывов. И все эти статьи пишешь ты один, пока не придут первые письма читателей. Тогда ты засучиваешь рукава и потрошишь письма, как студент-медик трупы в прозекторской.
Но если бы спросили твое мнение... Я благодарен матери за то, что она познакомила меня с русской литературой. Она преклонялась перед русскими писателями и огромную долю своей любви и одержимости сумела передать мне. Любовь ее к России была всепоглощающей. Она неизменно соблюдала русские обычаи, отмечала русские праздники и настояла, чтобы меня крестили в русской церкви. В Шанхае был русский храм, но не столь богатый, как в «дальневосточном Париже» — Харбине. Я плохо знаю пышные православные богослужения, хотя в детских воспоминаниях что-то от увиденного осталось.
Мы приехали с матушкой в Харбин во время японской оккупации. Остановились у капитана 108-го пластунского полка Зарубина, в небольшом домике в Мяогоу[13]. Зарубин когда-то учился с моим дедом в Казанском юнкерском училище.
До этого я множество раз листал комплект «Нивы», оставшийся от покойного деда, — он умер от запоя в Тяньцзине — и Харбин до странности напомнил иллюстрации этого любопытного журнала. Бытует мнение, что в Маньчжурии обосновались лишь те, кого вышвырнула за свои пределы красная Россия. Это глубоко ошибочное мнение. Маньчжурия — край, освоенный русскими задолго до революции. До того здешняя тайга была во власти зверья, искателей женьшеня и банд хунхузов. Собственно Китай начинался лишь за Великой стеной, около Шанхая-гуаня, Порта на море. Харбин построили русские переселенцы; русские инженеры построили КВЖД, ЮКВЖД, лесопилки, кожевенные заводы и маслозаводы. Когда Советская власть вернула своим декретом бывшую китайскую дикую окраину Срединному государству, на северо-востоке осталось много простого люда — выходцев из глубины России, сочувствовавших преобразованиям в Совдепии, но поток разгромленных Красной Армией отступающих белогвардейцев воспрепятствовал их возвращению в Дальневосточную республику со столицей Владивосток. Но это история другая и непосредственного отношения к той, которую я рассказываю, не имеет.
Моления в харбинском храме на горе запали навечно в мою душу. Внутри много было золота: золотые врата, золотая риза у попов, иконы в золотых окладах. Как я уже говорил, приехали мы в гости на троицу. Малиновый звон колоколов, красивое гипнотическое звучание прекрасных голосов хора, потрескивание свечей, обилие народа.
Я впервые ходил по улицам, где звучала русская речь, где праздновали троицу, где в домах зеленели наломанные ветки березы, а за Сунгари у «Деда-винодела»[14] круглосуточно шел «толкай-толкай», то есть объедаловка. Цыгане пели «Очи черные», но не темпераментно, как негры, а вкрадчиво, так, что хотелось плакать и смеяться; высились горы блинов, проложенные, как любительский торт, малосольной семгой, черной икрой, бужениной и еще чем-то невероятно вкусным, сочным и редким для кухни моего отца, строгого пуританина; лилась рекой шанхайская водка «Жемчуг» и чуринский «Паровоз»... И вдруг застолица смолкла. В ресторанчик вошла группа русских офицеров-эмигрантов и среди них японский полковник. Ресторан моментально притих.
— Пошли! Пошли! — заторопилась матушка, быстро расплатилась, и мы поехали на джонке к Китайской набережной.
— Ты же обещала показать мне Россию, — запротестовал я.
— Я тебе покажу. Но это не Россия, это Маньчжоу-Го, — сказала матушка.
— А почему мы ушли?
— Пришли подлые люди, — объяснила она. — Они продали все, даже веру. Они хуже бездомных бешеных собак. Из-за них мы вынуждены скитаться на чужбине.
Обстановка в Харбине была весьма запутанная, и многие факты я осмыслил в зрелости. Самураи объявили китайцев людьми второго сорта. Ходили невероятные слухи о зверствах оккупантов: китайцев варили в котлах — это называлось «ездой на паровозе»; кололи штыками; как е угрей, сдирали с живых кожу... С русским населением японцы заигрывали, но безуспешно. В услужение к ним пошли лишь вконец опустившиеся отбросы эмиграции, пользовавшиеся всеобщим презрением.
Основная же масса русских бойкотировала «пассы» оккупантов. Рядом была Советская Россия, и ее сыновья — инженеры-путейцы с КВЖД, ЮКВЖД, рабочие дорог, кожевенных заводов, лесопилок, маслобоен, особенно молодежь, буквально ловили каждую весточку с Родины, радовались успехам социализма. О богатых скотоводах и кулаках-поселенцах я не говорю, это была маньчжурская вандея. Оккупанты мстили, провоцировали... Когда в Советской Армии ввели погоны, кемпейтай (японская контрразведка) пустила по городу слух, что приехала советская военная миссия. И действительно, в Новом городе появились «советские офицеры», но это, как выяснилось позднее, были переодетые провокаторы. Гимназисты специально убегали с уроков, чтоб увидеть «советских офицеров», пройти мимо них строевым шагом и отдать честь. Конечно, их взяли «на карандаш», и они исчезли в стенах японской разведки.
Когда в сорок первом году Германия напала на Советский Союз, Зарубин, по слухам, объявился в Шанхае. Он гостил несколько дней, ожидая приезда своих товарищей. Их набралось четыреста волонтеров, и они ушли через Сиань и Ланьчжоу на Сикан, Урумчи, в Синьцзян, к границе. Я когда-нибудь опишу этот марш четырехсот русских офицеров. Они шли сквозь голод, гибли от пуль и болезней в пути — до цели добрели единицы, — но шли: они шли просить советское командование дозволить им сражаться на фронте с немцами.
Мы, мальчишки международного сеттльмента, независимо от подданства играли в офицеров, идущих на смерть во имя искупления вины перед Родиной.
Русские... Во Франции, Италии, Голландии, Бельгии, по всей оккупированной фашистами Европе они первыми вступали в маки. Это история, от нее не отмахнешься.
И еще я вспоминаю. В 1942 году, когда фашистов окружили под Сталинградом, в харбинской церкви была устроена служба во славу русского оружия. Это факт. О нем, разумеется, узнали японские оккупационные власти, но служителей культа арестовать не посмели, ограничившись мелкой местью, какими-то административными мерами.
Еще помню, как в Шанхае матушка водила меня в советское учреждение на культурный вечер. Демонстрировался кинофильм «Чапаев». Когда каппелевцы шли в психическую атаку, зал рыдал. На экране была трагедия России. Анка расстреливала в упор многих из тех, кто сидел в зале. Что было самое страшное и безысходное — она стреляла по закону высшей справедливости: она, а не те, кто глотал слезы в зале, утверждала Россию!
Матушка! Она открыла для меня Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского. Имена писателей, знакомые с детства.
Хиппи... Первым хиппи, мне кажется, был Илюша Обломов. Он так же целыми днями лежал на кушетке, как лежали хиппи на мостовых, мечтал о добродетели и всеобщей любви, не способный к активному злу и тем не менее приносящий пассивное зло. Мимикрия паразитизма. Протест? Нет! Суперлень. Вырождение. А чудачества... Они никогда не были признаком силы ума.
Дженни могла выкинуть какой-нибудь дикий номер. Но тут было одно «но» — она была не настолько глупа, чтобы поставить под удар благополучие отца, а значит, и собственное.
Оставалось четвертое — тетради попали именно в те руки, в которые и должны были попасть, то есть в мои. Тогда... Тогда все менялось. Тогда по моему следу уже бежали гончие.
Я пытался проанализировать факты более тщательно, но... проснулась свойственная мне бесшабашность. Вулкан необузданных поступков, магическим заклинанием которого была всеобъемлющая фраза: «Наплевать!»
С момента моего появления у Клер прошли сутки. Я не скажу, что очень хорошо умею печатать на машинке. В норме колледжа. Мне далеко до профессиональной секретарши, печатающей вслепую.
Дальше я действовал по наитию, точнее, по заданной профессиональной программе, запрограммированной оператором моей работы. Я, как сытый пес, начал искать укромный уголок, куда бы закопать про черный день мозговую кость.
Я убрал машинку, расправил покрывало и расстелил его на тахте. Сжег копирки, быстро разложил листы по экземплярам. Первый я спрятал в кипу чистой бумаги, выровнял кипу. Второй экземпляр спрятал в стол, третий я буду носить с собой. Самое трудное было спрятать тетради. Нужно было найти нейтральное место, которое было бы на виду и в то же время не привлекало бы внимание человека. Кто-то обязательно придет и будет искать эти тетради.
Я снял пиджак, полежал на кушетке, потом встал и позвонил служанке. Когда она вошла, я зевнул вполне натурально.
— Хозяйка вернулась? — спросил я.
— Будет в семь вечера, — ответила служанка на довольно правильном английском языке. Она стояла, потупив глаза, — воплощение покорности. Пожалуй, воплощение даже слишком большой покорности.
— Приготовьте мне кусок хорошо прожаренного бекона, — попросил я.
— Да, сэр, — ответила она несколько старомодно. Видно, до Клер она уже служила в каком-нибудь респектабельном доме, где ее отлично вышколили.
— Так... А где у вас?.. Ага, нашел, — сказал я, встал и взял лист бумаги.
Я сел к столу и достал ручку. И тут я увидел, что пепельница заполнена до краев окурками. Пожалуй, слишком много для человека, спавшего всю ночь. Я поспешно прикрыл пепельницу бумагой. Зачем я это сделал? Сработал инстинкт. Это было так же естественно, как прятать полученный материал, деньги или интимные фотографии.
— Я попрошу тебя отнести на почту несколько телеграмм, — сказал я.
Я быстро составил несколько телеграмм Бобу. Трудно было предугадать, где его носило в данный момент. Внизу каждой телеграммы я поставил буквы «СВ», что на нашем шифре означало «срочно выручай».
— Вот. — Я протянул служанке телеграммы. — Манила, Бангкок и так далее. Возьми деньги.
— Слушаюсь, сэр, — сказала она, улыбаясь характерной улыбкой, за которой могло скрываться все, что угодно, — от ненависти до самоотречения. Мне не понравилась улыбка — нечего передо мной разыгрывать беззащитную лань. Жеманная беззащитность в женщине возбуждает у мужчины определенный интерес и еще более определенное желание. Мне было не до изощренного восточного кокетства.
— Иди! — приказал я.
Она ушла. Я видел сквозь жалюзи, как она вышла на улицу. Она успела переодеться. Изумительно! Как актер-трансформатор! На ней была короткая черная юбка и голубенький свитерок. Юбка плотно облегала ее бедра, и казалось, вот-вот лопнет. Конечно, специально так сшита.
Я взял тетради и спустился вниз. Тетради нужно было спрятать в нейтральном месте: так уж построена логика поиска. Тот, кто ищет, вначале обязательно осматривает те места, куда бы он спрятал сам. Женщины обыкновенно прячут в белье. Они почему-то думают, что это самое надежное место, потому что мужчине будет неловко ворошить интимные предметы женского туалета, но они забывают о том, что ищут ведь не доказательства их добропорядочности.
Мужчины ценные бумаги замыкают в сейф. А если бумаги секретные, то в секретный сейф, вмонтированный в стену за картинами, за книгами, в камине или за портьерой. Более изощренные имеют тайники в секретерах, стеллажах, в радиокомбайнах или лепных украшениях.
Прятать нужно алогично — туда, куда бы ты сам ни за что не спрятал.
Я прошелся по холлу. Здесь было голо — японский стиль. Здесь каждый предмет на виду, глаз не на чем остановить. Правда, стеллаж с книгами привлекал внимание — значит, обязательно будут рыться в книгах.
Я прошел в широкий коридор. У входа стояла вешалка, массивный стол, зеркало на стене, под ним тяжелый ящик для обуви. Лежали щетки, ложечки, стояли тщательно вычищенные «русские» сапожки Клер. Это место более удачное — здесь не задерживаются, даже если пришли в гости по приглашению хозяйки.
Я отодвинул ящик для обуви, разложил тетради на полу, потом поставил ящик на место. У самого порога.
«Нужно быть Шерлоком Холмсом или явным идиотом, чтобы искать здесь, — подумал я. — Будем надеяться, что сюда не придет ни тот, ни другой. А я всегда смогу взять тетради незаметно, даже в случае бегства».
Текст из тетради
Тетрадь
Служанка вернулась через полчаса. Двери ее комнаты на первом этаже, по всей вероятности, имели самостоятельный выход во двор, потому что она неожиданно появилась в холле. Опять в черном халате со стеклянной брошкой у воротничка. Раньше я не задумывался, сколько ходов и выходов в доме Клер. Напрасно! «Знал бы, где упасть, соломки подостлал» — так говорила моя матушка, а отец в подобных случаях произносил: «Знал бы, где будешь тонуть, глубину заранее измерил».
На улице зажглись огни. В комнате стоял полумрак, то есть наступило то время, когда углы становятся круглыми, а кошки серыми. Я развалился в низком кресле и курил. И все время чувствовал, что служанка где-то рядом. Она бесшумно возникала и уплывала в полумрак. Робкая, покорная... Нигде не бывают женщины такими вкрадчивыми, как на Востоке. Меня удивляло и другое: неужели я возбудил у нее интерес?
Я вспомнил почему-то, как когда-то оказался на Мартинике в Вест-Индии во время карнавала, этого трехдневного безумия. За окнами отеля бушевало веселье. О том, чтобы заняться каким-нибудь делом, не могло быть и речи. Не работали такси, телефон, аэропорт был закрыт. Там-то я и познакомился с Бобом. Он только начинал работать на радио и записывал первую передачу о карнавале. Еще до рассвета нас будили уличные оркестры, толпы чертей и ведьм, ряженых: выбеленных мелом негров и вымазанных сажей европейцев в самых диких костюмах. По площади Плас де ла Саван шли бесконечные пляшущие, орущие, смеющиеся толпы. Боб боялся выйти из отеля. Вначале я не понял причину его боязни. «Загнанный в пятый угол», он поведал мне историю женитьбы Наполеона Бонапарта. Оказывается, он взял себе в жены уроженку Мартиники, дочку плантатора Марию Жозеф Роз Таше де ля Пажери, которая во Франции догадалась упростить свое имя до Жозефины.
— Я всю жизнь мечтал попасть на остров любви, — философствовал Боб, — но, оказывается, морально я не подготовлен к вакханалиям. Обратите внимание, Артур, на манеру женщин завязывать яркий полосатый головной платок. А знаете, что означает, когда торчит над головой один хвостик, два хвостика или три?
Я, разумеется, не знал, и Боб разъяснил:
— Если один кончик этого «матраса» торчит, как ухо у кролика, значит, за девушкой ударяй напропалую, она ищет знакомства. Если два — отстань, у нее есть друг сердца, и она не заинтересована в мимолетных утехах. А если три — берегись! Она сгорает от жажды любви. И не советую играть с огнем на острове, где люди пылки, как вулканы. Это довольно рискованно.
Я рассмеялся, но через четверть часа был наказан за свое легкомыслие.
Подвыпившая компания в масках ворвалась в бар, и я оказался в плену у трех очаровательных смуглых женщин, две из них были еще совсем девчонками. Одна девчонка села мне на колени и сказала ласково: «Подари мне ребенка».
— И мне! И мне! — сказали еще две.
Вначале я подумал: в своем ли уме девицы? Потом решил, что это шутка. Но... все оказалось значительно серьезней. И я ретировался в номер.
Позднее Боб объяснил, что подобные предложения рождены тамошними социальными условиями — светлокожему ребенку будет легче подняться по социальной лестнице, получить хорошо оплачиваемую работу, и он сможет обеспечить старость матери. Так что девушка, выпрашивающая себе «белого бэби», довольно практична плюс поправка на темперамент и на то, что жажда материнства у негритянок невероятно велика. Они очень нежные и заботливые матери.
На Востоке все иначе. Здесь женщина, если сгорает от любви, никогда не посмотрит тебе в глаза. Она будет вроде бы таять и постепенно, как в костре с сырыми дровами, зажжет в твоем сердце щепочку, затем еще одну, а там уже запылают смолистые сучья и будет полыхать огонь, сжирая все, испепеляя даже, казалось бы, негорючие стволы лесных великанов.
Я знал игру, которую затеяла со мной служанка.
 |
В каждом мужчине, как мне думается, сидит вожак стаи. Каждый мужчина стремится стать вождем племени, но не всем удается, так как свободных вакансий нет. Побеждает лишь один, ну а остальные... Остальные должны прятать в себе собственное «я», подчинять собственного «вожака» более сильному, но чувство неудовлетворенности остается. И это вполне естественно. Древние греки называли это чувство честолюбием и признавали за каждым гражданином право на стремление стать первым. Они называли честолюбие «животворным соком государства». Золотое детство человечества! Теперь мужчину подмяли город, темп, миллионы сложных, запутанных отношений между себе подобными. Вот почему мужчины подсознательно сужают размеры ринга, на котором в честном бою, пусть примитивном и абстрактном, они смогут увидеть своего «противника», помериться с ним силой и победить.
Молодые ищут самоутверждения в выпивках, драках, браваде, более целеустремленные — в спорте или науке. Но наука не приносит полного удовлетворения. В науке всегда будет кто-то, кто знает больше тебя... А вожаку требуется конкретная, пусть даже игрушечная, стая. И плодятся, как капустные мушки, коллекционеры, любители цветов, зверей, покровители кошек, голубей, рукодельники, склеивающие скрипку размером в мизинец или паровоз с муху. И на это тратятся годы. Зачем? Чтобы заявить на весь мир: «Я сделал такое, что никто еще до меня не сделал. Я первый!» И катят перед собой бочки через континенты, танцуют без отдыха несколько суток, играют до полного изнеможения на пианино или пекут пирог размером с хижину. Зачем?
На Востоке женщины знают слабости мужчин... Восточная женщина лишь с виду кажется покорной. Это чтобы не спугнуть добычу, не дать повода для настороженности, чтобы мужчина расслабился, доверился...
Покорность восточной женщины... Это самые своенравные, самые коварные, умные и ленивые женщины на свете.
Самым отточенным оружием у них является то, что они возбуждают в мужчинах чувство самоутверждения. Это и есть тот нектар, на который летят даже владыки, потому что и владыкам требуется не абстрактное подтверждение их владычества, а конкретное, осязаемое, которое можно самому обнять или обидеть.
Служанка выплыла из полумрака.
Она с настойчивостью паука плела паутину. Зачем? Что-то ее привлекало во мне или заинтересовало — это факт.
Быстрее бы приходила Клер! Если говорить откровенно, я по ней действительно соскучился. Я давно мечтал о таком вечере, когда мы посидим вдвоем и поговорим обо всем, а значит, ни о чем.
Ожидая возвращения Клер, я не подозревал, в какую игру влез: у меня вообще не было ни одного шанса на выигрыш. Я, по сути дела, был уже трупом, правда, пока еще теплым.
Имя, которое я прочел в дневнике Пройдохи, на полуострове Аомынь, в Макао, звучало погребальным звоном.
Мадам Вонг... Сорокалетняя вдова бывшего чиновника чанкайшистского правительства Вонг Кунг-кита, некоронованного пирата на реке Янцзы. Высокая правительственная должность Кунг-кита не препятствовала его пиратской деятельности, скорее, наоборот, способствовала — Чан Кай-ши опирался на темные силы Шанхая, Гонконга, Тяньцзиня, и то, что в состав его правительства входил пират, было вполне закономерно, потому что компрадоры были, по сути дела, рыцарями с большой дороги, сколотившими состояния на весьма темных аферах — торговле детьми, женщинами, наркотиками и так далее... Любой мафиозо с Сицилии выглядел бы по сравнению с ними мелким воришкой.
Да и сам Чан Кай-ши был известен своими широкими связями с преступным миром, что долгое время пугало даже американцев, умеющих извлекать с помоек любой страны самые гнилые отбросы. Достопочтенный генерал Стилуэлл, во вторую мировую войну занимавший пост главнокомандующего союзными войсками на китайско-бирманско-индийском театре военных действий, занимавший одновременно и пост начальника штаба Чана, без конца утверждал, что его подопечный пришел к власти именно благодаря содействию тайной полиции гангстеров. Чунцинский диктатор действовал по принципу «государство служит интересам того, кто им управляет». Парадоксально, но в 71-м году, после падения Линь Бяо, те же американцы дали подобную характеристику и Мао Цзэ-дуну: «Сегодня он (Мао) может пытаться привлечь на свою сторону одну группировку, чтобы расправиться с другой, а завтра он может натравить вторую группировку на первую. Сегодня он может произносить сладкие речи, а завтра — отправить вас на смерть по сфабрикованным обвинениям».
Но вернемся к нашим баранам, к семейству Кунг-кита и его друзьям.
Помню, когда я учился в колледже, построенном американцами в Шанхае отнюдь не в благотворительных целях для детей «большеносых», ужасом наяву было одно лишь упоминание о «Братстве нищих» — тайной гангстерской организации, с которой имел тесную связь господин Кунг-кит. То, что господин Кунг-кит (так его имя звучало на гонконгском диалекте, на севере его фамильные иероглифы, безусловно, читались иначе) был связан с «Братством нищих», не вызывало сомнения, иначе его люди не смогли бы не то что ограбить какую-либо джонку на Великой реке, они бы носа не сунули дальше чайной в порту и вместо риса ели бы гнилой гаолян. «Братство нищих» было всесильным и всевидящим. Оно могло похитить любого человека на побережье и даже в глубине континента. На моей памяти было похищение дочки бельгийского консула, жены голландского банкира. «Нищие» похитили даже жену самого Чан Кай-ши во время ее увеселительной прогулки по Янцзы. Это был скандальный случай... Престарелому генералиссимусу пришлось раскошелиться, чтобы выкупить свою любимую женушку. К многочисленным анекдотам о мадам Чан прибавился еще один — дескать, бандиты, напуганные ее неукротимым сексом, сами приплатили изрядную сумму, чтобы старик забрал жену, своего рода переосмысленный рассказ О'Генри «Вождь краснокожих». Хотя никто бы не удивился, если бы вымысел оказался былью.
Итак, что я знал о мадам Вонг?
До замужества она называлась красавицей Шан, танцевала в каком-то третьеразрядном кабачке Гонконга. Китаю везет на бездарных артисток. Итак... Ее муж имел связь с «Братством нищих»... «Братья» скупали, а то и просто похищали детей со всего Китая, уродовали им ручки и ножки, растравляли незаживающие язвы, учили «искусству» выпрашивать подаяние.
«Нищие» владели самыми мрачными и грязными притонами Шанхая и других городов.
Господин Кунг-кит был тесно связан с японской, потом американской разведками... Помимо контрабанды занимался шантажом, за ним числилось несколько политических убийств. Из правительства Чан Кай-ши ему все же пришлось уйти. Но к этому времени он уже имел капитал и открыл «дело» в Южно-Китайском море. Его банда наводила ужас на побережье.
Погиб Вонг в 1946 году при весьма странных обстоятельствах. Пиратам было сообщено, что в Гонконг идут под парусами три джонки, нагруженные контрабандой — опиумом, часами, текстилем, золотом и швейными машинками. Когда корабли пиратов напали на джонки, их встретил кинжальный огонь пулеметов: на борту джонок оказались солдаты, а сами джонки — приманкой. Кто-то навел Кунг-кита на приманку. В течение двадцати минут с рыцарями удачи было покончено. Сам Кунг-кит спасся чудом — успел нырнуть в ночь на маленькой моторке. Он бросил своих ребят на произвол судьбы, предоставив им безграничную свободу умирать за его кошелек.
И вновь не повезло бывшему чанкайшистскому чиновнику — на берегу его схватили и передали португальским властям Макао, которые давно хотели более близко познакомиться с господином Вонгом.
Будущее вырисовывалось для господина Вонга тюремной камерой. И тут кто-то с воли предложил ему побег. Звериная осторожность пирата, притупленная отсутствием солнца и плохим питанием в португальской уголовной тюрьме, подвела хозяина — он согласился на побег. Для аналитических раздумий, видно, требуется более комфортабельная обстановка... Побег состоялся. Со стрельбой, с погоней и прочими атрибутами, столь необходимыми для подобного рода спектаклей, с той лишь разницей, что часть пуль, выпущенных в воздух тюремщиками, застряла в теле господина Вонг Кунг-кита и причинила последнему много неприятностей. Господин пират от огорчения забился в сточную канаву, полную до краев отбросами, экскрементами, и умер там, разуверившись в честности и гуманности человечества.
После печального факта — не каждый день замужней женщине приходится становиться вдовой — бывшая танцовщица красавица Шан растерялась, у нее, как говорится, опустились руки. И в силу этих объективных причин, когда к ней в дом ворвались двое наглых пьяных мужчин — компаньоны покойного мужа — и начали стряхивать пепел сигарет в курильницы, где еще тлели благовонные палочки, ее нервы окончательно сдали, и она пристрелила наглых господ в упор, чтобы они никогда не смели врываться в дома, где еще ходят в трауре.
Правда, позднее тоже встречались нахалы, готовые воспользоваться беззащитностью вдовы. Поэтому ей приходилось не расставаться с двумя пистолетами ни днем, ни тем более ночью. Постепенно все образовалось. Грубияны, которые не хотели подружиться с ней, куда-то исчезли... И мадам Вонг зажила спокойной жизнью. Если ей некого было грабить, она выходила в море, с джонок опускали «кошки», вылавливая телеграфный кабель, который некоторые государства зачем-то протянули по морскому дну между портами и континентами. Люди вдовы скручивали кабель и затем продавали как лом. Она не чуралась торговли, памятуя, что торговля сближает людей с различными убеждениями. Ее флот составлял около ста пятидесяти джонок, новейших торпедных катеров и канонерок. Через знакомого она даже хотела купить в Европе подводную лодку, чтобы «изучить» красочный подводный мир Южно-Китайского моря. Но то ли знакомый запросил слишком много комиссионных, то ли правительства некоторых стран, как говорится, вставили палки в колеса бедной вдове, но покупку временно пришлось отложить...
Торговала мадам Вонг несколько экстравагантно, но действенно. Ее доверенное лицо письменно или по телефону связывалось с капитаном какого-нибудь английского сухогруза. Вначале капитана спрашивали о погоде, о семье, о здоровье... И когда капитан, взволнованный заботой о своем здоровье, бледнел и начинал заикаться, его успокаивали и говорили, что с ним ничего не случится, с его экипажем и с судном тоже, если он подарит вдове некоторую сумму... Например, в 51-м году британскому пароходству было предложено уплатить вдове 20 тысяч гонконгских долларов. Пароходство «с радостью» отдало эти деньги. Мадам Вонг стала для пароходства своего рода покровительницей моря, вроде вдовы бога глубин Посейдона, которому, как известно, издревле приносили в дар жертву. Его любили мореходы, и он любил их. Ну а если гневался... морякам приходилось плохо.
Мадам вела себя как богиня, она требовала знаков внимания, и, если к ее ногам не клали даров, она сердилась.
Пароходная компания «Куангси» отказалась дарить вдове каждый год по 150 тысяч долларов. И это имело для компании печальные последствия — на ее кораблях начали взрываться мины замедленного действия, а те корабли, которые находили опасную начинку еще в порту и все же осмеливались выходить в море, бесследно исчезали вместе с экипажем и грузом.
Тайна исчезновения кораблей приоткрылась в марте 1951 года, когда в море выловили полумертвого человека, вцепившегося в доску от ящика. Спасенным оказался матрос — на этот раз с португальского фрахта «Опорто». Моряк рассказал, что в море их атаковали торпедные катера. «Опорто» взяли на абордаж. Пираты согнали команду из двадцати двух человек на полубак и расстреляли из автоматов. Матросу повезло — его лишь ранило, и он упал за борт и только чудом не стал добычей акул, которые, как пираты, кружили вокруг несчастного судна.
Конечно, я мог иронизировать по адресу мадам Вонг сколько заблагорассудится, но ирония не всегда является признаком силы духа, куда труднее было найти правильный выход из безвыходного положения.
Конечно, мне немыслимо трудно было соперничать с преступной организацией, имеющей оборотный капитал в несколько десятков миллионов долларов. Мой капитал составлял пятьсот гонконгских долларов, из которых добрая половина была чужой. Из всех технических средств, которые я имел, — пишущая портативная машинка.
Правда, у меня была и перспектива — португальская полиция обещала десять тысяч фунтов за фотографию мадам.
В мае 1963 года один из членов банды мадам Вонг предложил японской полиции информацию о своей госпоже. Переговоры велись тайно, без свидетелей, и, казалось, японцам удалось выйти на прямой след. Отступник прибыл в пункт, где была назначена встреча. К сожалению, дать какую-либо информацию о своей госпоже раскаявшийся пират не мог — у него были отрублены руки и вырезан язык.
О чем говорил этот факт?
Первое — кто-то оберегал мадам.
Второе — тайная полиция вдовы работала оперативнее японской полиции.
Третье — мадам не доверяла никому, даже самым приближенным. Мадам руководствовалась старым правилом пиратов: «Мертвые не кусаются».
Так что молодого вьетнамца убили не зря. В момент нашей встречи агенты мадам Вонг не знали моего имени, теперь мое имя, конечно, им известно. Им достаточно было сфотографировать меня, что они, безусловно, и сделали, а потом проверили по картотеке, что за гусь встретился с Пройдохой Ке...
Я закурил... И машинально начал раскладывать пасьянс «Мария-Антуанетта». Этот пасьянс сходился очень редко, но иногда все-таки сходился.
Итак, что могло значиться в моем досье? Какими фактами обладали агенты вдовы?
Пройдоха Ке был на острове где-то в районе моря Банда или Молуккского моря... Что-то мне подсказывало, что это был тот остров, на котором когда-то побывал я, тогда остров нужно искать несколько северо-восточнее острова Апи, ближе к Парасельским островам. В случае необходимости я смог бы найти его на подробной морской карте. И если догадка правильна, то я вышел на пиратскую базу.
Подобные базы у пиратов были во время корейской войны. Молодчики мадам совсем обнаглели и беззастенчиво грабили корабли, зафрахтованные даже вооруженными силами США. В ее руки попали огромные партии новейшего вооружения, обмундирования, бесчисленное количество ящиков с галетами, мясными консервами и медикаментами, тысячи мешков муки и риса... Против флотилии мадам были брошены корабли 7-го американского флота, которым, как щитом, Штаты прикрывали Тайвань от коммунистов с континента. Не бездействовала и английская эскадра. Я уже не говорю о военных кораблях Голландии и Португалии. Но пираты были неуловимы. И дело не в том, что у них было отлично налажено оповещение; мадам Вонг имела хорошо продуманную сеть тайных убежищ, хорошо замаскированных не только с воды, но и с воздуха. Ни один разведывательный самолет не смог обнаружить пристанище пиратов.
Теперь я знал, как строились эти базы. Пираты вербовали в странах Юго-Восточной Азии людей с темным прошлым, привозили на объект и, когда строительство заканчивалось, рабочих уничтожали. Работами руководил немец. По всей видимости, бывший эсэсовец, поднаторевший на строительстве лагерей смерти и подземных заводов.
Конечно, наш разговор они подслушали. Тут ничего не было сверхъестественного — электронная аппаратура у гангстеров была новее, чем у полицейских. Последним требовалось время, чтобы спланировать заявки, выбить у правительства средства. Гангстерам же для приобретения подобной аппаратуры не требовалось запросов в палате общин, они платили звонкую монету без бюрократических проволочек. И хотя ничего крамольного они в нашем разговоре не услышали, агенты мадам были не настолько наивны, чтобы предположить, что Пройдоха Ке, рискуя жизнью, пошел на встречу со мной лишь ради того, чтобы спросить, какого числа начнется новолуние. Ке шел ва-банк, и, значит, у него были для этого основания.
Если они припомнят, как я нагнулся за зажигалкой, им станет ясно, что, кроме зажигалки, я сделал еще что-то...
Значит...
Вывод, к которому я пришел, был весьма неутешительным.
Как говорят психологи, существует несколько видов страха, если страх, конечно, брать в чистом виде, без всяких психологических примесей; даже примитивный алкоголизм вносит в общую картину инстинкта самосохранения очень густую сетку помех, так фольга забивает всплесками экран локатора.
Стеническая форма страха... Существует такая. Я бы хотел, чтобы моя психика была настроена на ее волну, тогда бы в минуту опасности мозг работал ясно, а я бы испытывал боевое возбуждение, как петух перед поединком с соперником по курятнику. Но, увы, хотя некоторая доля авантюризма во мне и была, я не испытывал радостного вдохновения в минуты опасности. При ощущении опасности я вел себя как шестьдесят процентов нормальных людей, то есть просто боялся. И требовалось невероятное усилие, чтобы держать себя в руках. Подобное состояние называется нормостенической формой страха в отличие от астенической, при которой человек вообще впадает в панику, ничего не соображает.
По описанию Пройдохи я четко представлял, как разворачивались события на далеком острове, точно сам принимал в них участие...
Уменье ожидать — наука трудная и сложная, и не каждому она дается. Русский полководец Суворов в основу своих побед положил стремительность и натиск, древние китайские полководцы побеждали терпением — победу одерживал тот, кто лучше умел выжидать. Для экспансивных европейцев подобная выдержка непонятна. Восток есть Восток. Я знал случай, который произошел в двадцатых годах. В суматошном Шанхае была красильная мастерская, где красились ткани по особому рецепту. Краски получались сочными, они не боялись солнца и времени. Секретом окраски владели хозяева мастерской, секрет передавался из поколения в поколение и никому постороннему не доверялся. В мастерскую приняли на работу глухонемого мальчика. Он был послушным и безропотным. Несколько лет он работал подручным, и хозяева доверяли ему, — глухонемой не мог никому рассказать секрета красителей. И каково было удивление мастера, когда мальчик заговорил и открыл свою мастерскую. Восемь лет притворялся глухонемым, чтобы выведать тайну... В Европе подобное немыслимо.
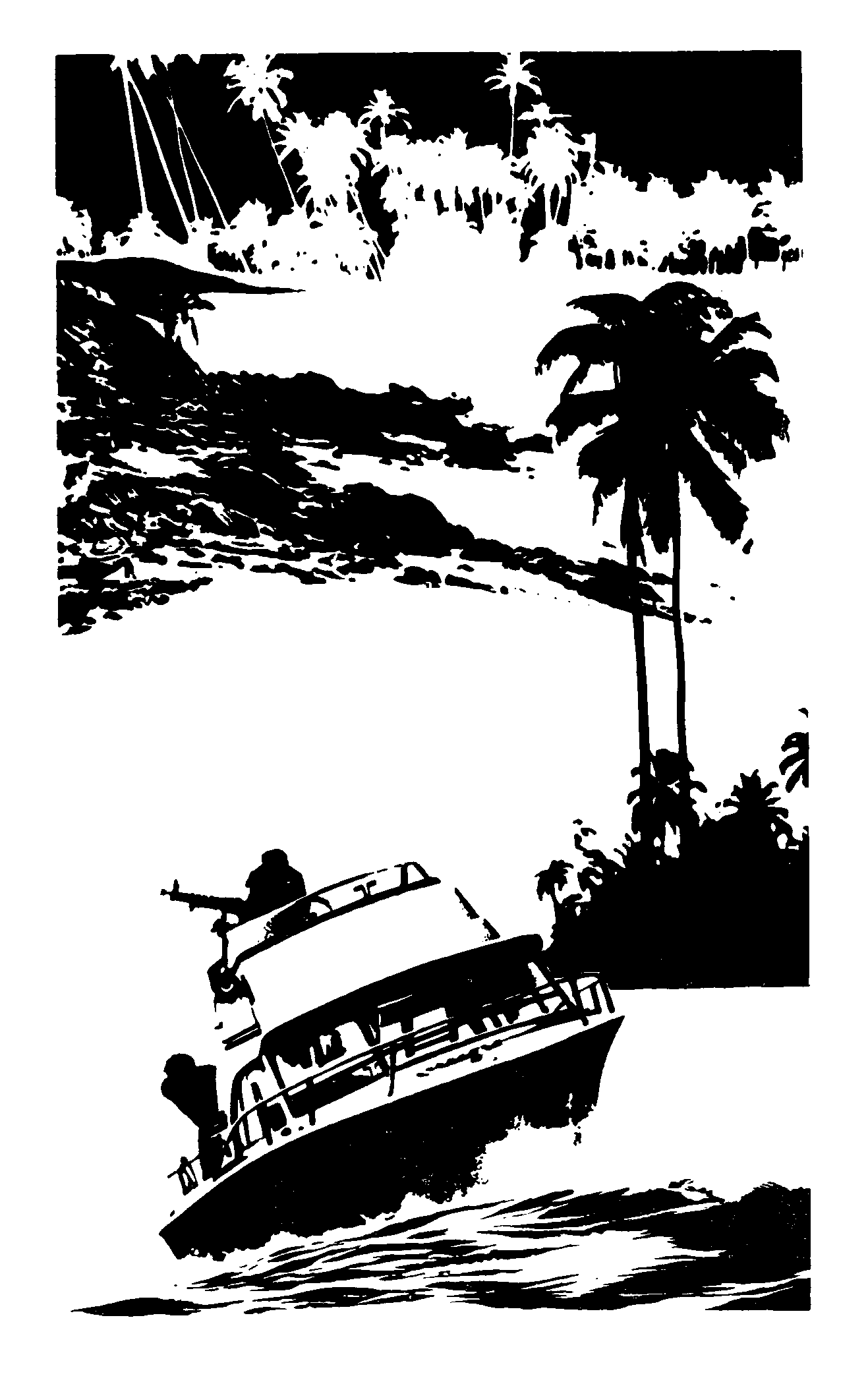 |
Отрывки из дневника Пройдохи Ке
Я отлично понимал, что, выражаясь на портовом сленге, нужно немедленно рубить канаты и бежать куда глаза глядят без остановки, если хочу оказаться в безопасности.
Требовалось что-то предпринять. Что именно?
Если б я попытался сесть на морской трамвай, снующий между португальской и английской колониями, я бы немедленно угодил на мушку гангстерам — в море могло случиться все, что угодно, и, как говорится, концы в воду. Нет, я был не настолько наивным, чтобы с самодовольным видом невозмутимо проследовать через турникет мимо таможенного чиновника, и дело не в том, что таможенный досмотр здесь пустая формальность, — британский паспорт перестал быть надежным щитом, и Корабль Мести ее Величества не примчался бы на всех парусах воздать должное неблагородным туземцам за рагу из подданного королевы Великобритании. Времена были не те, и туземцы стали иными. Хорошо это или плохо? Великобритания, тем более фашистская Португалия, заискивают перед Китаем, судорожно цепляются, как утопающие, за последние колонии, которые, кстати, нужны маоистам не менее, если не более, чем «проклятым империалистам».
Тот же Гонконг — неиссякаемый источник иностранной валюты для «Бэнк оф Чайна».
Я отлично помнил обстановку на острове Виктория во время первой «культурной революции», когда мои соотечественники всерьез готовились к поспешной эвакуации, стоило только появиться на улицах «красным охранникам» и «смутьянам». Хунвэйбины и цзяофани поначалу всерьез приняли лозунги, выкрикиваемые озверевшей толпой на Центральном стадионе северной столицы во время расправы над «сторонниками» ревизионистского и капиталистического пути развития. Из Гугуна, дворца императоров на площади Тяньаньмынь, последовал окрик: «Не шалить!» — и колониальная полиция, оправившаяся от шока, моментально начала хватать хунвэйбинов и цзяофаней, сажать их в каталажки, высылать на материк.
То было в колонии... В Пекине произошло иное. Подстрекаемые Кан Шэном, Цзян Цинь, Яо Вэнь-юанем, толпы разъяренных юношей и девушек блокировали посольства иностранных государств. Когда-то, в старые времена, под страхом смерти китайцам запрещалось входить на посольскую улицу. Теперь таковой не было... Опьяненные кровью забитых насмерть собственных учителей и своих товарищей, уверенные в безнаказанности, юнцы сожгли британскую миссию[17]. Хунвэйбины сорвали одежды с жен британских дипломатов, надругались над женщинами, и все это фотографировали, снимали на кинопленку с инквизиторским сладострастием. Женщин гнали голыми под улюлюканье толпы вдоль улицы. Они метнулись к албанскому посольству, но их не пустили в двери, спаслись несчастные в посольстве Болгарии.
И Лондон сделал вид, что ничего не произошло. К пожарищу по утрам по-прежнему приезжал на велосипеде почтальон и клал газеты и письма туда, где должен был быть почтовый ящик... Так что я не питал иллюзий.
Жизнь рядового журналиста не та монета, которой расплачиваются за большую политику. Если бы из Пекина на мое имя пришла «охранная грамота»... тогда бы... А пока я вынужден был сам искать пути отступления. Боб где-то запропастился. Я второй вечер коротал с Клер.
Мы в темноте сидели рядом на низком диванчике, курили и как поэты любовались лунной дорожкой. Я чувствовал ее локоть. Теплый и... По правде говоря, я был совсем не равнодушен к ней. Это я понял. Просто время и разлука притупили чувства. Я сказал полушутя, полусерьезно:
— А что, если нам плюнуть на все и окрутиться, как говорила моя матушка? Ты бы согласилась стать моей женой?
Локоть дрогнул...
— Мы с тобой разного вероисповедания, — отозвалась Клер, огонек на кончике сигареты вспыхнул, осветил ее губы.
— Обвенчаемся в православной церкви, — продолжил я, не придавая значения сказанному. — Русские попы более терпимы к подобным тонкостям, чем ваши, католические.
— А ваша церковь разрешает разводы?
Мы опять замолчали. Мои мысли снова и снова невольно возвращались к тетради.
Я как наяву видел то, что происходило.
Мой пересказ последующих злоключений Пройдохи
Стоп! Вот та точка, в которой перекрестились две параллельные. Вообще-то у меня существует теория, что если встретятся два совершенно незнакомых человека и разговорятся, то обязательно найдут третьего — общего знакомого. К сожалению, господин Фу был далеко не той личностью, знакомством с которой я мог бы гордиться.
Мои размышления прервало неожиданное появление служанки. Она выплыла из сумерек бесшумно и плавно и замерла на пороге.
— Что тебе? — приподнялась Клер. — Я не звала.
— Госпожа, — сказала служанка, — к вашему гостю пожаловал человек. Вот его визитная карточка.
— К кому пришел человек? — не поняла Клер.
— К сэру Артуру Кингу.
— Давай сюда карточку, — сказал я.
Служанка подошла и протянула на маленьком подносике карточку, сделанную из рисовой соломки, — это более оригинальные карточки, чем из плотной бумаги.
Я прочел фамилию неожиданного визитера и почувствовал, как у меня вспотели ладони.
— Кто пожаловал? — спросила Клер.
Я помолчал, потом сказал:
— Пришел хозяин лавки господин Фу. Легок на помине! Какая-то мистика! Прямо по шекспировскому «Генриху IV»: «Я духов вызывать из тьмы умею». — «И я, как, впрочем, всякий человек. Все дело в том лишь, явятся ли духи». Духи явились!
— Это твой приятель? — Клер встала.
— Как сказать... — Я тоже поднялся с диванчика и притушил в пепельнице сигарету. — Скорее наоборот. Сложность заключается в том, каким образом он узнал, что я нахожусь у тебя? Остальное мелочи.
— Это ты выясняй сам, — сказала Клер. Она включила свет и вышла.
Господина Фу можно было назвать образцовым европейцем: на нем был черный строгий двубортный костюм из английской шерсти, белоснежная рубашка, черные башмаки с тупыми носками. Единственно, в чем чувствовался перебор, так сказать, признак дурного тона, — обилие золота: золотые швейцарские часы «Лонжин» на массивном золотом браслете, золотые запонки, золотое кольцо с опалом и золотые зубы. Здесь, в Макао, признаки богатства, выставленные напоказ, свидетельствовали не столько о том, что хозяин имеет достаток, сколько о том, что он имеет силу: подобные знаки силы, как яркий цвет у божьей коровки, предупреждали — трогать нельзя, я несъедобен, мною можно смертельно отравиться.
Мы сидели в мягких креслах и откровенно изучали друг друга, конечно, не молча, а в соответствии с церемониями, выработанными великим Конфуцием и модернизированными в духе нашего времени.
Мы сидели за чайным столиком, и никто и ничто не мешало нам наслаждаться взаимным лицезрением и приятной беседой.
Господин Фу улыбался. Казалось, внутри его работала портативная атомная станция, которая выделяла тепловую энергию, достаточную для освещения городка с двадцатитысячным населением, и вот эта дешевая энергия выплескивалась на лицо моего гостя, и он буквально сжигал меня улыбкой.
«При сиянии его глаз можно загорать», — подумал я.
И я тоже раскочегарил внутри себя паровую машину и заулыбался. Мы знали друг друга заочно. Правда, о господине Фу я знал больше, чем он обо мне. Мы оба это понимали.
 |
— Как ваше здоровье? — сделал первый ход господин Фу. Говорил он по-английски. Про себя я отметил, что он говорит без акцента, и это заставило меня внутренне подобраться. Ответил я по-китайски, на шанхайском диалекте, несколько старомодно, высокопарно, в духе Сенковского:
— Спасибо, отлично! А как поживает ваше дражайшее тело?
— О, спасибо, спасибо! — закивал господин Фу, чуть не растаяв от радости. — Вы хорошо говорите по-китайски. Лучше, чем я.
— Помилуйте! — взмолился, в свою очередь, я. — Разве я могу сравниться с таким блестящим знатоком языка, как мой гость. Я знаю только пекинский и шанхайский диалекты, а вы знаете все, даже самый трудный — кантонский. Ваш антикварный магазин известен далеко за пределами Гонконга. Я встречал людей, которые показали мне нефритовые рыбы эпохи Суй[18], которые они имели счастье купить в вашей лавке. Правда, господа, которые показывали мне этих рыб, мало знают прославленную историю Срединного государства, и мне показалось, что они спутали эпохи, что часто бывает с иностранцами. Рыбы, по-моему, более поздней эпохи, даже совсем поздней...
Тут я замолчал и улыбнулся. На лице господина Фу отразилась гамма улыбок — вначале мягких тонов, они источали, как сказали бы на Ближнем Востоке, имбирь, — ему нравились мои похвалы, и в этом он был искренен, но последние слова заставили сменить имбирь на подслащенную воду, потому что намек на эпохи имел смысл, и то, что мы поняли друг друга, нам обоим очень понравилось.
Подтекст был такой: господин Фу, я знаю, что вы на самом деле большой знаток древностей, но тем не менее всучили доверчивым покупателям подделку, которую сработали в вашей же мастерской. Но подделка хорошая, и это делает вам честь, а что касается иностранцев, то для них подобная покупка вполне оправдывает те доллары, которые они заплатили.
— О господин Кинг, — сказал Фу, — конечно, иностранцы покупают все, что им ни покажешь. В этом и заключается смысл торговли.
— Я вполне с вами согласен.
— Сами посудите... В настоящее время истинно древних вещей осталось мало. И еще меньше осталось ценителей. Я искренне привязан к старине. Наша история, история Срединного государства, очень древняя, древнее таких государств, как Египет, Индия, тем более Греция... Как истинному патриоту мне стыдно торговать подлинными ценностями, да я бы и не стал отдавать в руки невежд бесценные реликвии. У меня есть коллекция древних монет. Это моя гордость и мое состояние. Ракушки побережья, глиняные монеты, шаньдунские мечи эпохи Чжоу, связки чох странствующих монахов, которые в пути заменяли календарь, ибо их было ровно двенадцать и на каждой был символ созвездия, монеты Тайпинов... Даже монеты Тайпинов представляют сокровище только для знатоков, к которым принадлежите и вы. И для меня было бы счастьем, если бы вы посетили мой дом и могли бы посмотреть и оценить мой труд. Мы ведь с вами люди цивилизованные в отличие от посетителей моей антикварной лавки. Для невежд рисунок тушью на новом шелке равноценен подлинной керамической плите из Сычуаня с божественным изображением Фу-си и Нюй-ва. Как вам известно, на этой керамической плите изображены Фу-си, держащий солнечный диск, и Нюй-ва с диском луны, что связано с представлением о мужском и женском началах в природе. Силах ян и инь.
Он замолчал и с грустной улыбкой поглядел на меня. Это был экзамен. И грустная улыбка господина Фу означала, что очень мало кто знает истинное толкование символов, но в то же время его рассуждения о древних богах таили в себе и ловушку. Он осторожно подвел меня к ее краю и ожидал, когда я оступлюсь и рухну в нее. И он заранее торжествовал, хотя, если бы я свалился в нее, он бы и виду не подал, а просто отметил бы про себя границу моих познаний и сделал бы соответствующие выводы. И если бы когда-нибудь мне пришлось обратиться к нему как к купцу, он бы знал, до каких пределов можно играть со мной как кошке с мышью, на каком уровне можно подсунуть подделку, содрав за нее три шкуры. Если бы я упал в эту яму невежества, он бы презирал меня как варвара, но внешне стал бы еще более любезным.
Я улыбнулся, в свою очередь, но с оттенком задумчивости. Для меня было не так опасно сорваться в яму, как насторожить господина Фу, дать понять, что мне ясна его игра... Я должен был быть с ним большим азиатом, чем он сам. Если он поймет, что я раскусил его, то это даст основание прийти к выводу, что его хитрости я разгадываю за три хода и, значит, сумею раскрыть то, за чем пришел он. Он утвердится в своих подозрениях, а я разоблачу себя, и это будет означать, что моя ловушка захлопнулась окончательно. С другой стороны, мне нельзя было выдавать себя за тупицу, так как это вызовет у господина Фу определенную реакцию — он перестанет меня уважать, я потеряю в какой-то степени «лицо», последнее даст ему основание быть нахальным, даже бесцеремонным. Кто знает, куда привели бы наши разговоры... Мне пришлось «искренне» удивиться, и с нотками недоумения я сказал:
— Простите, господин Фу, вы неверно трактуете символы ян и инь. Как известно, великий Конфуций переосмыслил истинное значение мифа о Фу-си и Нюй-ва. На плитах в Улянцзы, которые значительно древнее керамических плит Сычуаня, изображение иное. В Улянцзы Фу-си держит в руке угольник, а Нюй-ва — циркуль. Всем известно, что эти два инструмента символизируют порядок на земле, установленный мифическими супругами, или, по другой трактовке, братом и сестрой. Слово «порядок» в современном языке — «гуй-цзюй», и состоит оно из двух иероглифов: «гуй» — циркуль и «цзюй» — угольник.
Я начертил пальцем на столе два иероглифа. Разговор шел какой-то глупый, в духе нынешней борьбы маоистов против конфуцианства, но тем не менее его нужно было продолжать.
— Поэтому, — продолжил я, — трактование сычуаньских символов, на которые вы ссылаетесь, неверно. Эмблемой Фу-си должен быть не угольник, а циркуль, угольнику же место в руке Нюй-ва. Извините меня, но ваше освещение порядка на земле соответствует лишь более поздней философской концепции Конфуция и его последователей, чем истинному положению вещей.
— Простите, — сказал он, — я действительно запамятовал первородное толкование символов Фу-си и Нюй-ва. В наше время забыли, что дракон — эмблема Востока, а тигр — эмблема Запада.
— Красная птица — эмблема юга, а черный воин (черепаха и змея) — эмблема севера! — добавил я.
— Да, да... Все рушится в Поднебесной. Забыты обряды и обычаи предков.
И он машинально начертил на столе иероглиф.
Я знал изречение Конфуция. Как я был благодарен своему старому учителю, почтенному сяньшену[19] Цзяо, старику, который с невероятным терпением учил меня когда-то премудростям вэньяня. Старик был влюблен в старинные тексты. Ему принадлежали довольно оригинальные исследования древних текстов, он был известным ученым, и если тратил время на обучение сына «большеносого», так только потому, что отец не скупился на затраты, — он считал как само собой разумеющееся, что его отпрыск должен знать все тонкости страны, где он родился, в то же время оставаясь стопроцентным англичанином. Старик был одержим... Мы допоздна сидели на задней веранде нашего коттеджа, слушали звон цикад, посаженных в специально сплетенные корзиночки, пили охлажденный лимонад, обмахивались черными бумажными мужскими веерами, я с благоговением слушал своего учителя, с любопытством глядел на иероглифы, из которых на моих глазах слагались старинные выражения древних мудрецов. К сожалению, ученик из меня получился плохой, меня куда больше интересовала лапта или теннис. Сяньшен Цзяо тихим голосом, как волшебник, открывал мне секреты иероглифов. К тому же он был непревзойденным каллиграфом. В Китае искусство писать иероглифы так же почитаемо, как и живопись. Это особый вид искусства, прелесть которого недоступна европейцам. Иероглиф имеет строгий порядок написания. Он состоит из элементов, символов, которые в определенных сочетаниях имеют скрытый смысл. Чтобы запомнить иероглиф, я придумывал собственное толкование, примитивное, но так было легче их запомнить. Так, например, иероглиф «дерево» означает лишь одно дерево. Два таких знака вместе — уже другой иероглиф, означающий лес, а три дерева — уже чаща... Иероглиф «любовь». Он состоит из элементов — когти, крыша, сердце и элемент «волочить ноги», я лично так запомнил смысл этого знака: «когтями под крышей рвется сердце на части так страстно, что подкашиваются ноги».
Пусть учитель простит мне подобное осмысливание иероглифа «ай». Я с большой теплотой и безмерным чувством благодарности вспоминаю моего учителя. Это был добрейший старик, сам превратившийся в символ древнего Китая, спокойный, утонченный, восторженный и чудовищно честный. Он мог отдать последнюю чашку риса нищему, последний юань плачущему ребенку, поднять с земли жемчужное ожерелье и повесить его на сук дерева, чтобы хозяин, вернувшись, нашел свою потерю. Он нетерпим был только к невежеству и алчности, считая, что эти два порока — прародители всех несчастий на земле. И в шутку говорил, что если Фу-си и Нюй-ва являются прародителями порядка, то невежество и алчность — их антиподы — породили все мерзкое и страшное в мире.
Единственной слабостью, которой обладал мой учитель, была любовь к маотаю[20]. Он стыдился ее и ничего с собой не мог поделать. Моя матушка знала об этом. И не осуждала старого, почтенного учителя. Ей ли, дочке русского офицера, не знать фатальность этой страсти! Но пил учитель не по-русски, а по-своему. Матушка выносила маленький фарфоровый графинчик с подогретой водкой. Она очень пахучая и крепкая, ее пьют только теплой, иначе ничего не почувствуешь, как не почувствуешь букета хорошего коньяка, не согрев бокала в руке. Почтенный учитель смущался, долго отказывался, потом с достоинством благодарил, наливал маленькую чашечку напитка. Отпивал... Я любил, когда он бывал в таком состоянии. Глаза у него молодели, румянец загорался на впалых щеках, и речь становилась энергичнее, он превращался в поэта. Он вспоминал Цюй Юаня, Ли Бо, древних поэтов, божественных и грешных, и сам он был богом и грешником, учителем и другом, стариком и юношей.
Я принес ему много огорчений — у меня не было таланта к каллиграфии. Мои иероглифы походили на знаки, которые оставляют чайки на морском песке.
Господин Фу написал довольно известное изречение древнего мудреца. В переводе оно означало, как бы точнее передать идиоматический смысл, — богу богово, кесарю кесарево, то есть властитель должен быть властителем, господин господином, отец отцом, а сын сыном, и если ты родился богатым, то и должен оставаться таковым, а родился бедняком, то твое предначертание оставаться бедным, ибо такой порядок в Поднебесной, и он вечен, и долг каждого быть тем, кто он есть.
Я понял, зачем написал эти иероглифы господин Фу, — он выбирался из ямы, которую выкопал для меня, ссылаясь при этом на приверженность Конфуцию, точнее, порядку, который должен быть незыблем, и не его, дескать, дело истолковывать символы ян и инь в их первородном значении, ибо он, скромный человек, лишь жалкое отражение великого ума, который лучше его знал, как трактовать истины, а он лишь приверженец порядка, и если не привел мне более верное объяснение, то не потому, что не знал, а потому, что не смел вступать в пререкания с древнейшим авторитетом. Он не считал себя легистом, поклонником Шан Яна[21].
Выслушав несколько его фраз о погоде и ближайшие прогнозы на будущее, я прервал его.
— Как вы узнали мой адрес? Кто вам его дал? — спросил я напрямик. Мне надоела отвлеченная беседа, великое пустословие, не хватало, чтобы он начал еще читать стихи Мао Цзэ-дуна.
— Я узнал ваш адрес, — отвечал господин Фу, — в полиции...
— А откуда полиция узнала мой адрес?
— Вы имели неосторожность звонить в газету. Установив вначале, кто вы, они просмотрели телефонные вызовы и узнали номер телефона и адрес госпожи, у которой вы пожелали остановиться...
Его слова меня насторожили. Полиция. Португальская... Молодого вьетнамца убили гангстеры, и они, только они ищут меня. Я нужен им... Так почему же обращаются за справками в полицию и почему полиция разыскивает адрес нужного пиратам человека? У них существует связь? А почему бы и нет? Ничего удивительного. Наверняка в полиции есть люди мадам Вонг, она предусмотрительна. У нее деньги, власть, связи... Может быть, поэтому до сих пор и не «попала» в руки полиции ни одна фотография предводительницы пиратов? Тогда понятно, почему на свидание с японской уголовной полицией явился человек с вырванным языком и отрубленными руками. Клубок... запутанный клубок, в котором невозможно проследить, где начинается и кончается нить.
Я молчал, и это было ошибкой. Я еще раз вспоминал строки из дневника убитого вьетнамца.
Я хорошо представлял
 |
Гонконг — неповторимый город. Он вздыбился по обе стороны проливчика Коулун на острове Гонконг, где центр города называется Викторией. Небоскребы окружены лачугами, берега утыканы сампанами. Здесь можно было встретить кварталы Нью-Йорка, увидеть чопорные линии Лондона, погулять на местных Елисейских полях — Нонтан-роуд, откуда ночью полиция безжалостно выгоняла бездомных бродяг, у которых матрацем и одеялом служит номер тайваньской «Мин-бао» или пекинской «Жэньминь жибао», хотя самой «богатой» считается моя газета, в ней много листов. Здесь ежедневно выходит пять газет на английском и свыше тридцати на других языках. Здесь живут и работают постоянные корреспонденты агентств Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, Юнайтед Пресс Интернэшнл, Синьхуа (КНР), Синьхуа (Тайвань), индонезийские агентства, японские, филиппинские и многие, многие другие... Всех не перечесть. Гонконг служит дымоходом, через который западный мир подслушивает безумный континент. Здесь самая большая плотность населения на земном шаре, город занимает также и первое место по количеству самоубийств... Он давно затмил Шанхай, город моей юности, по темпам роста небоскребов, количеству ткацких фабрик, роскоши отелей и ресторанов, обороту банковского капитала и проституции. Город растет как на дрожжах, прекрасный и отвратительный, неповторимый и больной всеми пороками.
Аэропорт Кай-Так являлся также своего рода уникальным. Для аэродрома требовался простор, чтобы самолеты, разбежавшись, имели возможность взмыть вверх, набрать высоту. В английской колонии Гонконг не нашлось подходящего земельного участка. Поэтому намыли песчаную косу, выходящую далеко в море. Она как кинжал воткнулась в горло континента. Самолеты заходили с моря, при взлете стартовали от берега, от крутой скалы, вырываясь на морской простор. У основания косы стояли здания — штаб ВВС, казармы солдат охраны, всевозможные службы. Аэродром принадлежал военным, тем не менее авиакомпании всего мира по договоренности пользовались взлетно-посадочной полосой. Рядом с казармами разместились таможня, диспетчерский пункт, здание вокзала. На фасаде здания улыбался всеми тридцатью двумя зубами негр — реклама зубной пасты.
Я видел не раз подобные «калоши», даже делал материалы о бывших летчиках ВВС, которые во время службы в армии копили деньги, потом увольнялись, покупали где-нибудь самолет по дешевке и бродяжничали по всему миру, зарабатывая на жизнь перевозками. «Воздушные кули», их особенно много в Бразилии, Перу, на Филиппинах, где они нанимаются со «своим мотором» в какую-нибудь авиакомпанию или образуют свою, где пилот самолета одновременно и директор компании. У этих парней сложная, запутанная и полуголодная жизнь.
Я предложил господину Фу сигарету. Он поблагодарил, закурил... Мое молчание затянулось. В конце концов имел я право задуматься, испугаться, раскаяться или приготовиться к очередному туру схватки — своеобразной китайской борьбе, где не хватают друг друга за пояс, как это делают араты во внутренней Монголии, а где схватка гораздо изощренней и безжалостней? Призом могла оказаться моя жизнь или жизнь господина Фу.
Я чувствовал, что господин Фу не питает лично ко мне ненависти. Ему даже приятна была наша беседа. Человеческая психика находится под семью печатями для психологов, не говоря уже о простых смертных, нахватавшихся верхов из научно-популярных статей, наподобие меня. Для меня сила человеческой мысли граничит с фантастикой, и, если бы кто-то вдруг передвинул силой мышления предмет, я бы не удивился, возможно, и потому, что некогда было бы удивляться — я бы готовил «гвоздь» для своей любимой и распроклятой газеты. Господин Фу испытывал ко мне даже расположение... В чем и заключалась вся пикантность моего положения. Так любуются пирожным на конкурсе кондитеров: «Жалко есть!» — и тем не менее едят, и с аппетитом едят, самые лучшие шедевры кондитеров.
— Зачем вы пришли ко мне?
— Видите ли, господин Кинг, — ответил он задумчиво, — у вас королевская фамилия.
— А у вас счастливая[24].
— Я вынужден побеспокоить вас, хотя официально нас никто и не представлял, но в наше стремительное время я решился на этот шаг, рискуя прослыть невежливым...
«Понесло, — подумал я. — Давай, давай». Я пропускал мимо ушей его извинения. «Тепло... тепло... горячо, — отмечал я про себя. — Доехали!»
— Убили моего слугу, — сказал Фу. — Как мне удалось узнать, вы были в зале ресторана, и может быть...
Он замолчал и растаял в вопросительной улыбке. Я с трудом сдерживался, чтобы не подать вида. Мне необходимо было «раскачаться» и за выдуманными фактами забыть о подлинных, превратиться в ученика, которого учитель вызвал к доске и ласково спросил: «Это ты уронил скелет человека со шкафа, негодник?» Мне нужно было удивиться и ответить: «Что вы, господин учитель, я в это время был в туалете...»
— Убили вашего слугу?
— Да, это был мой слуга... Его застрелили...
Он не сказал кто.
— Вы думаете, что его убил я?
Более идиотский вопрос трудно было придумать. Я и сам смутился.
— Да, в какой-то степени вы замешаны в убийстве, — растягивая каждое слово, произнес господин Фу.
— Ну знаете... — начал я, распаляясь с каждой фразой. — Господин Фу, мы с вами заочно знакомы не первый год. Вы знаете мой бизнес. Я знаю ваш... Мне нет никакого интереса вмешиваться в грязные истории.
— Знаю, — неопределенно ответил гость.
— Неужели вы могли подумать, что я застрелил человека? С какой стати? Я никогда не ношу с собой оружия. Меня интересует только информация, информация, информация и еще раз информация.
— Да будет вам известно, — он опять прищурил глазки, — полиция подозревает вас...
— Меня?
Теперь мое возмущение было заварено, как манная каша горячим молоком, — осложнения с полицией не входили в расчеты честного журналиста. Конечно, он лгал. Я вдруг понял, что это не что иное, как ловушка.
— Лжете! — рявкнул я как потомственный колонизатор.
— Вы не имеете права, — растерялся Фу, — так разговаривать со мной.
— Ерунда!
Я заметался по комнате. Потом остановился, пристально поглядел на гостя.
— Господин Фу, — сказал я, — вы пришли меня шантажировать?
— Вы не поняли...
— Понял!
— Не желаю вести беседу в подобном тоне, — сказал Фу по-английски, встал и застегнул пиджак.
— Сядьте, пожалуйста, господин Фу! — попросил я. — Не понимаю, что вас заставило прийти ко мне? Полиция вам не могла сказать ничего подобного. Если бы у нее было подозрение, она сама бы нашла возможность встретиться со мной. Извините, если я поступил грубо. Значит, вы заинтересованы в том, чтобы найти того человека? — Я сделал вид, что задумался. — ...Вам нужен человек-громоотвод... В данном случае этим человеком оказался я. Полиция... Вы разузнали, где меня искать. Но для этого нужно было узнать, кто я есть... Я не спрашиваю, как вы установили мою личность... Я знаю...
— Знаете? — ответил настороженно Фу. — Что знаете?
— Я догадываюсь. Вы опасаетесь, что ваш слуга... продал вас. Так? Логично? Угадал?
Я вплотную «прижался» к его подозрениям, как положено в атомной войне, — самое безопасное место в непосредственной близости от противника.
— Возможно, — сказал он.
— Все-таки я раскусил вас! — сказал я со злорадством, думая о следующем ходе. Моя солдатская непосредственность была подкупающей. — И ценные сведения он мог продать мне?
— Вам лучше знать, — кисло улыбнулся Фу.
— О если б он!.. — Я потянулся. — Я бы с вами разговаривал по-иному, если б он мне дал материал о вас, а ведь, наверное, у него было кое-что, за что вы заплатили бы солидную сумму?
— Сколько вы хотите за его сведения? — спросил напрямик Фу.
Это была непростительная неосторожность моего оппонента.
— Сколько?
Господин Фу запнулся.
— Вы в самом деле ничего не знаете? — выдавил он из себя.
— Я?.. Вы от кого пришли? Не от мадам ли Вонг?
— Не шутите, — ощетинился гость. И глазки его спрятались за приспущенными ресницами.
— Я не собирался шутить, — ответил я. — Жаль, что нет ничего против вас. Если бы... ваш слуга. Он показался мне неглупым парнем. Только издерганным. У него почему-то белели уши. Ваши дела... Искренне жаль, что разговор с вашим слугой не состоялся. Мне, откровенно говоря, он вначале показался вымогателем... И только когда я услышал выстрел...
— Зачем вы с ним встретились?
— Зачем? Позвонил в редакцию. Потом второй звонок, вот я и приехал.
— А почему вы убежали из гостиницы?
— Во-первых, ушел. Во-вторых, как бы вы поступили на моем месте? Встретились с человеком, не успели спросить его имени, как раздался выстрел... Я не хочу ввязываться в грязное дело. А материал мне, конечно, нужен. Так кто же его убил? Ваши люди?
— Не мои, — сказал Фу.
— А чьи?
— Наверное, общей знакомой, про которую вы упоминали... — ответил Фу, вытирая носовым платком лоб. Ему в черной тройке было душно. — Кто вам звонил?
— Вы не знаете, кто звонил в редакцию? — наступила очередь «удивляться» мне. — Разве вызов делался без вашего согласия?
— Моего?
— Вы не знаете, кто свел меня с вашим покойным слугой?
— Нет...
— Дженни, ваша дочка!
Господин Фу медленно приподнялся с кресла.
— По вашей вине я ввязался в историю, и что вы от меня хотите? — спросил я.
Удар пришелся ниже пояса, но что оставалось делать? Я никогда не выдавал источников информации, на этот раз пришлось нарушить правило: действительно, я приехал сюда по вызову Дженни, так что господину Фу не было смысла «выносить сор из избы», его голова держалась на такой же шее, как и у меня.
— Продайте то, что вам отдал слуга, — сказал без экивоков Фу. — Я заплачу больше, чем вы получите в газете. Намного больше!
— Не сомневаюсь. Деньги мне нужны не меньше, чем вам, даже больше, — я собираюсь жениться, а это расходы... Женщины любят подарки, да кто их не любит. Но не торопитесь выписывать чек: у меня нет товара. Нет! Я не успел его приобрести, и в этом виноваты те, кто прислал вас.
— Я пришел сам...
— Понимаю, для страховки. Ваш слуга, ваша дочь... Спросят с вас. По всей строгости. Идите домой и будьте спокойны, у меня нет ничего компрометирующего. Я пуст! И не особенно журите дочку, хотя всыпать ей следует — слишком самостоятельная.
— Я вам не помешала?
Вошла Клер. В руках у нее был телефон. Шнур тянулся по полу из соседней комнаты.
— Знакомьтесь, господин Фу, — сказал я. — Это моя невеста.
Фу заученно улыбнулся. Клер сдержанно кивнула головой, бросив на меня уничтожающий взгляд.
— Арт, тебе звонят.
— Кому я понадобился?
— Твой приятель.
— О, Боб! Давай, давай трубку! Старый бродяга, клошар! Нашелся наконец!
Я поспешил к Клер, взял трубку, с радостью услышал голос Боба:
— Что там у тебя стряслось?
— Прежде всего здравствуй и скажи, где ты находишься?
— В «Марко Поло»[25]. Рядом стоит Ги[26]. Мне сказали, что ты организуешь какой-то сенсационный материал. Что ты раскопал? Хочешь меня взять в пай?
— Не болтай ерунды! Болтаешь как мальчишка. Передай привет Ги! Я женюсь! Да, не ослышался. Немедленно приезжай сюда! Расходы беру на себя. Мне нужен свидетель на свадьбе. Объясню потом.
Я зачем-то подмигнул гостю.
— Не спрашивай ни о чем. Жду! До встречи!
Я повесил трубку. Поцеловал Клер в щеку. Она усмехнулась.
— Извините, господин Фу, но если у вас больше нет ко мне никаких вопросов...
Мы распрощались. Поверил ли он, что у меня нет никаких материалов, полученных от Ке? Так или иначе я получил передышку, которую нужно было использовать. Я совсем забыл о моем друге Клер. Занятый мыслями, делами, беседой с гостем... Кажется, я поступил с нею несколько бесцеремонно.
— Извини, пожалуйста, — попросил я виновато. — Пришлось сказать, что ты моя невеста.
— И не только ему.
— Кому еще?
— Ты и по телефону другу то же сказал
— Правда! Совсем забыл. А ты что, обиделась?
— Вот что, Артур. — Голос ее стал холодным. — Ты можешь заниматься чем угодно, но не забывай о моей чести. Я женщина одинокая. И моя репутация... Возможно, для тебя не столь важно, но прийти в дом к незамужней женщине и трезвонить на полмира, что она твоя невеста, не спросив даже ее согласия на это, по-моему, не только нетактично, но даже непорядочно. Так с друзьями не поступают.
— Прости! Я действительно очень виноват перед тобой. Получилось помимо моей воли.
— Даже так!
Она прикусила нижнюю губу, глаза у нее стали влажными.
— Ты негодяй!
— Ого! Дожил!
— Если еще раз услышу!..
— Может, я серьезно...
— Замолчи! Я влеплю тебе пощечину. Ты совершенно не думаешь обо мне. Тебе наплевать на меня. Эгоист!
— Кажется, ты права.
— Что ты хочешь?
— Первый раз я вижу тебя в таком состоянии.
— Что тебе нужно?
— Все... и ничего.
— Ты, оказывается, еще и трус.
— Клер, не уничтожай меня до конца. Успокойся. Если я так тебя обидел, то я уйду. Я не хотел тебя обидеть, поверь. Ты мне очень дорога, пожалуй, ни одной женщине я не обязан стольким, не считая, конечно, матери. Что-то не то говорю...
— «Не думал», «извини». Эх, мужчины. Какие вы бесхарактерные! Завилял... Что ты хочешь? Я же вижу, что тебе что-то нужно. Говори уж, жених!
— Мне нужно такси.
— Зачем?
— Нужно. И вызвать не по телефону, а поймать на улице.
— Куда ты так поздно поедешь?
— Еще только десять часов вечера. Поздновато, но не совсем.
— Хорошо, я пойду поймаю тебе «бензиновую телегу». Куда тебе ехать? Оставайся, жених, твоя комната для тебя всегда свободна.
— Мне действительно нужно ехать.
— Куда?
— Не знаю, как и объяснить. К попу.
Она с удивлением поглядела на меня.
— Тут была русская церквушка... Не знаю, осталась ли она. Русские почти все вернулись в Россию. Не спрашивай, зачем я еду, ты можешь неправильно понять меня, и я опять невольно сделаю тебе больно. Мне нужен русский поп по делу.
— Интересно, по какому?
Она еще раз внимательно оглядела меня с ног до головы, точно увидела впервые, и вышла. Я достал из кармана расческу, хотел причесаться, зачем-то сломал расческу. Одно я понимал очень ясно: отношения с Клер теперь никогда уже не смогут быть прежними. Настало время ставить точки над «и».
Макао — дальневосточное Монте-Карло, здесь круглые сутки открыты двери казино, работают кинотеатры и увеселительные заведения... Здесь заведения «Глэмор Интернэшнл» работали при блеске неоновых реклам в открытую: прелести живого товара рекламировались так же, как плавки, бикини или новые бритвенные лезвия «жолет». Спекулянты, нажившие бешеные состояния на крови вьетнамцев, кутили напропалую. Анри Барбюс описывал, как возмущались в первую мировую войну французские солдаты, когда на несколько часов попадали в тыловой Париж... Теперь многое изменилось. Янки, офицеры и солдаты, приехавшие на отдых с «фронта», брали напрокат у китайцев гражданские костюмы и «шелушились» в компании с «грифами» — поставщиками, чиновниками, интендантами. Выиграв жизнь в рулетку «города лавок» (прозвище Сайгона), они искали счастья у крупье Макао — им требовалась своеобразная разрядка. А нервы у них были ни к черту! С такими нервишками их бы не взяли в «Школу казино», где у абитуриента требуется прежде всего выдержка и еще раз выдержка. В 1900 году, например, в Монако один игрок в «интимной комнате» за двадцать минут проиграл два миллиона долларов; крупье, дежуривший у рулетки, даже бровью не повел. Джи-ай в ученики к этому игроку не годились. Они быстро пьянели, распускали нюни, устраивали дикие драки между родами войск, особенно между белыми и неграми, с поножовщиной и стрельбой. Португальским «бульдогам» и «прокторам» работенки было хоть отбавляй.
Я откинулся на спинку заднего сиденья, из приемника бился приглушенный «твердый рокк». Шофер-китаец виртуозно вел машину по оживленной авениде, затем свернул в боковую улочку.
Интересно, он включил приемник для пассажира или сам любит этот ритм? Там, за «границей» Макао, подобное увлечение ему могло стоить многого.
Я воздержался от вопроса. Задвинул шторку на боковом стекле. Вспомнил, как Пройдоха описывал свои увеселительные прогулки по ночному Гонконгу на пару с Сомом.
В узкой улочке, где по обе стороны тротуара вытянулись ювелирные лавки, мастерские и магазины, я попросил шофера остановиться, расплатился и вышел. Когда машина скрылась за поворотом, я постоял некоторое время, подождал — «хвоста» не было, значит, визит господина Фу был лишь «личным» зондажем, — банда еще не включилась в игру и меня не обложили как волка сплошным кольцом «стрелков».
В одной лавке сквозь опущенные шторы из гофрированного оцинкованного железа пробивались полоски света. Не задумываясь, я дернул дверь. К счастью, она оказалась незапертой. Я вошел. Раздался переливчатый звонок, как в музыкальной шкатулке, — сигнал для хозяина, что кто-то пришел. Быть ювелиром — дело хлопотное, того и гляди нагрянут налетчики, но здесь, на полуострове-колонии, как ни странно, ограбления банков и подобных магазинов происходили весьма редко, пожалуй, реже, чем в метрополии. Макао — пятачок, его можно пройти вдоль и поперек пешком, охранялся же он с материка китайскими воинскими частями, а с моря подступы просматривались в любую погоду радарами португальской полиции, в распоряжении которой были быстроходные военные катера. Только дилетанты могли позволить себе свободу действий, но их быстро успокоили бы те же молодчики мадам Вонг — полуостров был «тихой обителью», своеобразной Швейцарией, где военные действия предпочитались легальному бизнесу.
И все же ювелиры оборудовали свои магазины всевозможными сигнальными устройствами, вплоть до ревунов и телекамер, в зависимости от достатка, в чем их нельзя было упрекать, — береженого бог бережет.
Из задних комнат, как чертик, выскользнул приказчик и встал за прилавком по команде «смирно!». На его рубашке, выпущенной поверх брюк, был приколот значок с портретом Мао Цзэ-дуна — дань времени и месту. Только тут я заметил второго человека. Он сидел в затемненном углу направо от входа. Это был охранник, или, как принято говорить на Западе, частный детектив. Грудь на его чесучовом пиджачке многозначительно оттопыривалась: там в кобуре-подтяжках спал тупорылый «хаскель» 32-го калибра. Поражали ступни его ног: они были громадны — признак слоновой болезни, столь распространенной в этих широтах.
Внутри лавки ничего примечательного не было. Прилавки... Под стеклами в коробках с темным ворсистым бархатом блестели каменья перстней; старинный японский фарфор, ручной работы пагоды из серебра, чеканные браслеты...
Приказчик-европеец был бесцветный, как засвеченный негатив, мужчина наполеоновского роста, с узко посаженными глазами — они немного косили, как у сиамских кошек.
Приказчик молчал. Я понял, почему: он ожидал, на каком языке я заговорю. Я сказал по-английски:
— Добрый вечер! Сегодня очень душно.
— О, добрый вечер! — вяло оживился приказчик.
— Покажите, пожалуйста! — Я указал на обручальное кольцо.
Он вынул несколько коробок.
На первый взгляд кольца казались одинаковыми, но это только на первый взгляд — на самом же деле все они были разные: одни массивные, сытые; другие кокетливо тонкие как манекенщицы.
— Пожалуйста! Господин женится?
— Это зависит от ряда обстоятельств, — не торопясь ответил я: мне требовалось выиграть время, довести приказчика до белого каления, узнать то, что требовалось, и не выкинуть на ветер «елизаветки» (гонконгские доллары), которых у меня было не так уж много. Правда, золото здесь стоило намного дешевле, чем на парижской бирже, здесь изделия оценивались лишь по весу, работа мастера почти не принималась в расчет... Причиной были международный «черный рынок», контрабанда, континентальный Китай, которому для своих целей требовалась иностранная валюта, и множество других обстоятельств.
— Выбирайте.
Я начал рыться в коробках, примеряя то одно, то другое кольцо. Я отставлял руку, долго рассматривал каждое кольцо. Лицу требовалось придать неуверенное, растерянное выражение. Не знаю, удалось ли мне сыграть роль рассеянного покупателя. Приказчик на несколько минут выскочил в заднюю комнату, видно, он уже собирался домой и только запоздалый покупатель задерживал его на рабочем месте.
— Ну что, выбрали? — Он появился вновь, вытирая тыльной стороной ладони рот, — ужинал. Что ж... с ужином ему придется повременить.
— Не знаю, что и делать, — сказал я, вынимая пачку сигарет и закуривая.
— А что такое? — нетерпеливо спросил он, не уговаривая меня, как сделал бы это утром или днем, в часы «пик». — Нет подходящих? Вам одно или два?
— Два... Неплохо бы невесту пригласить (приказчик зевнул), да подобные покупки делаются без невесты (приказчик не реагировал)... Невеста требует, чтобы мы венчались.
— Так венчайтесь!
— Легко сказать. А где?
Я подошел к вопросу, ради которого так поспешно и в неурочный час приехал в ювелирный магазин.
— Как где? В церкви.
— В какой церкви?
— В своей, — заволновался приказчик.
Охранник глядел на меня свирепо и откровенно:
«Чего приперся на ночь глядя? Либо бери кольца и уматывай, либо не бери и тоже уматывай». Я покосился на его могучую фигуру.
— А какие у вас здесь есть храмы?
— Всякие... Католические, протестантские, лютеранские, буддийские...
— Я православный...
Белесые брови приказчика взлетели к верхней кромке лба и, как мне показалось, запутались в прическе. Он уставился на меня, как священный бык на фотографа: его бы меньше удивило, если бы я назвал себя огнепоклонником или членом какой-нибудь изуверской мусульманской секты.
— О-ля-ля! — Он присвистнул. — Действительно!
— Вот видите, а она католичка. Очень строго соблюдает веру.
— Если вы будете венчаться в католическом соборе, — подал голос от двери охранник, видно, даже его заинтересовало это дело, — там с вас сдерут три шкуры. Знаю я этих отцов церкви. В принципе-то они против подобных браков, но за денежки хоть с чертом окрутят. — Он улыбнулся. Зубы у него были тоже крупные, желтоватые от никотина.
— Чем же вам помочь? — задумчиво спросил приказчик.
— Я думаю венчаться в православной церкви, — пошел я в атаку. — Здесь раньше была русская церковь.
— Так вы русский?
— Да, русский. Но я не знаю, осталась ли она и как ее найти. Если бы вы помогли... Я бы съездил к батюшке, договорился, а завтра заскочил бы к вам. Мне хотелось бы сделать еще кое-какие подарки невесте. На ваш выбор. Что бы вы посоветовали?
— Один момент! — Приказчик опять скрылся. Охранник подошел ко мне, с любопытством и с сочувствием молча разглядывал русского.
— Все сделано! — вынырнул из двери приказчик. — Я позвонил своему хозяину, навел справки. Он назвал мне адрес вашего священника. Я позвонил ему, он, оказывается, живет здесь неподалеку. Он вас ждет.
— А не поздно?
— Что вы... Для дел нет понятия «поздно». Идите по этому адресу, а завтра приходите к нам. Рад буду вас обслужить. Луис, проводи гостя и запирай. И так засиделись...
— Благодарю! — искренне сказал я.
Но им пришлось еще задержаться. Опять мелодично запел звонок — пришла семья филиппинцев. Девушка, по всей видимости, была невестой на выданье, ей нужно было выбрать ожерелье из жемчуга. Европейцы никогда так не боготворили дары моря, как жители островов. В Европе время от времени возникал ажиотаж, затем нитки с матовыми зернами прятались в сейфы или спускались перекупщикам. На островах же жемчуг всегда в цене.
Женщины любят подарки... Да кто их не любит. В каждой подаренной безделушке застывает мгновение; проходят годы, безделушка хранит память о забытом. У меня остался от отца нефритовый китайский божок Плодородия — пузан с отвислыми мочками ушей (они означают у китайцев признак душевного равновесия), и цена сувениру — несколько юаней, но отец считал талисман наделенным чудодейственной силой, приносящей удачу. Я всегда брал талисман, когда отправлялся в рискованный вояж, а в этот раз забыл. Может быть, поэтому я и влип в историю, как муха в липучку.
Девушка терпеливо ожидала, какую нитку жемчуга выберет для нее мать, но каждый раз, когда очередная нитка откладывалась, в глазах ее вспыхивал испуг: а вдруг совсем ничего не купят?
Наконец была выбрана нитка, которая получила всеобщее одобрение. Девушка будто не дышала, гладила «зерна», любовалась ими, позабыв на радостях поблагодарить за покупку.
Глядя на эту сцену, мне тоже захотелось купить что-нибудь для Клер, чтобы она сохранила память обо мне на всю жизнь. Черт с ними, с деньгами, как-нибудь выкручусь, не впервой!
— Подберите и мне что-либо на свой вкус, — сказал я приказчику. — Но имейте в виду, у меня нет собственных нефтяных вышек.
— Понятно! — Приказчик дружески улыбнулся. — Вот рекомендую. Раз вы православный, греческой церкви... Вот! Византия!
И он положил на прилавок два витых платиновых кольца с бирюзой. Настоящих, не подделанных под старину. Они были прекрасны!
— Я берег на всякий случай, — сказал доверительно приказчик. — Не сомневайтесь. Я бы вам их не отдал, если бы... У вас особый случай. Луис, по-моему, у нас такой первый случай?
— Истинная правда! — поклялся охранник. — Бери, хозяин, не прогадаешь.
Кольца были мужским и женским. Но какая цена? И, точно угадывая мою мысль, приказчик, улыбнувшись, сказал:
— Я возьму по-божески. Чтоб не торговаться. Времени ни у вас, ни у нас нет.
И он назвал сумму.
Возможно, по его мнению, это была божеская цифра, но для меня она показалась ценой сатаны. Но что оставалось делать?
Я расплатился за старинные витые кольца. Хотел было поторговаться, но по выражению лица приказчика догадался, что уступки не будет, я только зря «рассыплю бисер слов своих».
Я спешил «на рысях» к батюшке по раздобытому несколько утомительным способом адресу. И вдруг я опять вспомнил прочитанное в тетрадях молодого вьетнамца.
Седая бороденка когда-то была окладистой бородой, теперь белесые глаза-буравчики были темными, широко раскрытыми, они глядели на мир весело и с любопытством, точно вопрошая: «А дальше что? Преудивительно!»
— Время не жалеет даже бога, — сказал батюшка, звали его Тихоном. — Представьте, вот таким был я в молодости. О время, съеденное саранчой! — Он кивнул на портрет маслом.
Поверить было нетрудно. Семьдесят лет не двадцать. Роста отец Тихон был среднего, сухощавый, цвет кожи с лимонным оттенком, что свойственно европейцам, долгие годы прожившим в тропиках.
Мое внимание привлек портрет...
Портрет был написан уверенной кистью большого мастера, манера письма мне показалась знакомой: тон, тени, общая гамма красок...
— А это я баловался, — скромно сказал отец Тихон, показывая на бесчисленные рисунки яков тушью и маслом.
«Кто написал портрет? Чертовски талантливо. А что, если попытаться купить его у Тихона? В любом салоне эта картина займет достойное место».
Домик отца Тихона был разделен на две части легкой стеной, как это принято у японцев. «Гостиная», в которой мы находились, напоминала музей и одновременно лавку старьевщика, куда приносят самые неожиданные вещи — акульи плавники, морские звезды, кораллы, шкуру снежного барса, тронутую молью, сушеного крокодила, он лежал на пузатом стеклянном шкафчике, набитом фигурками яков из нефрита, кости, обожженной глины — целая коллекция.
— Приход нищенский, — жаловался Тихон. — Ютилось здесь около ста русских семей. Куда нас только не разбросало! Грозы отгремели, хватит под чужими навесами прятаться, пора домой возвращаться: старикам замаливать грехи, молодым жить. Прихожане остались из местных, крещеных — беднота, полуязычники, но кроткие, и не так в вере стойки, как церкви верны, — все-таки защита какая ни есть, взаимопомощь, словно утешения услышат в горе. Приходская школа есть. Власти разрешили. Обедом кормим и учим слову божьему. Бесплатно. — Он выжидательно посмотрел на меня.
«Сдерет прилично, — подумал я, — раз заговорил о благотворительности, обдерет как липку».
— Кстати, где вы крестились? — спросил отец Тихон.
— В Шанхае. Матушка крестила. Она русская.
— А кто крестил, полюбопытствую?
— Преподобный отец Кирилл.
— Слышал, слышал, но незнаком. Говорят, он умер.
— Да, во время нашествия японцев. Он остался в городе, помогал раненым, говорят, заразился брюшным тифом... Пил сырую воду. Кипятить и отстаивать воду было некогда, а водопровод не работал.
— Слышал, слышал, — успокоился Тихон, откашливаясь. Он говорил и говорил без конца... И его состояние мне было понятно: пользовался случаем поболтать на родном языке. Меня тоже иногда подмывало, и я говорил сам с собой по-русски, чтобы не забыть родной язык юности. Мама всегда обращалась ко мне только по-русски, чем неизменно вызывала гнев отца, но даже он сдался, придумав для нее оправдание: «Китайца нельзя отучить от чинопочитания, японцев от агрессивности, русского от родного языка».
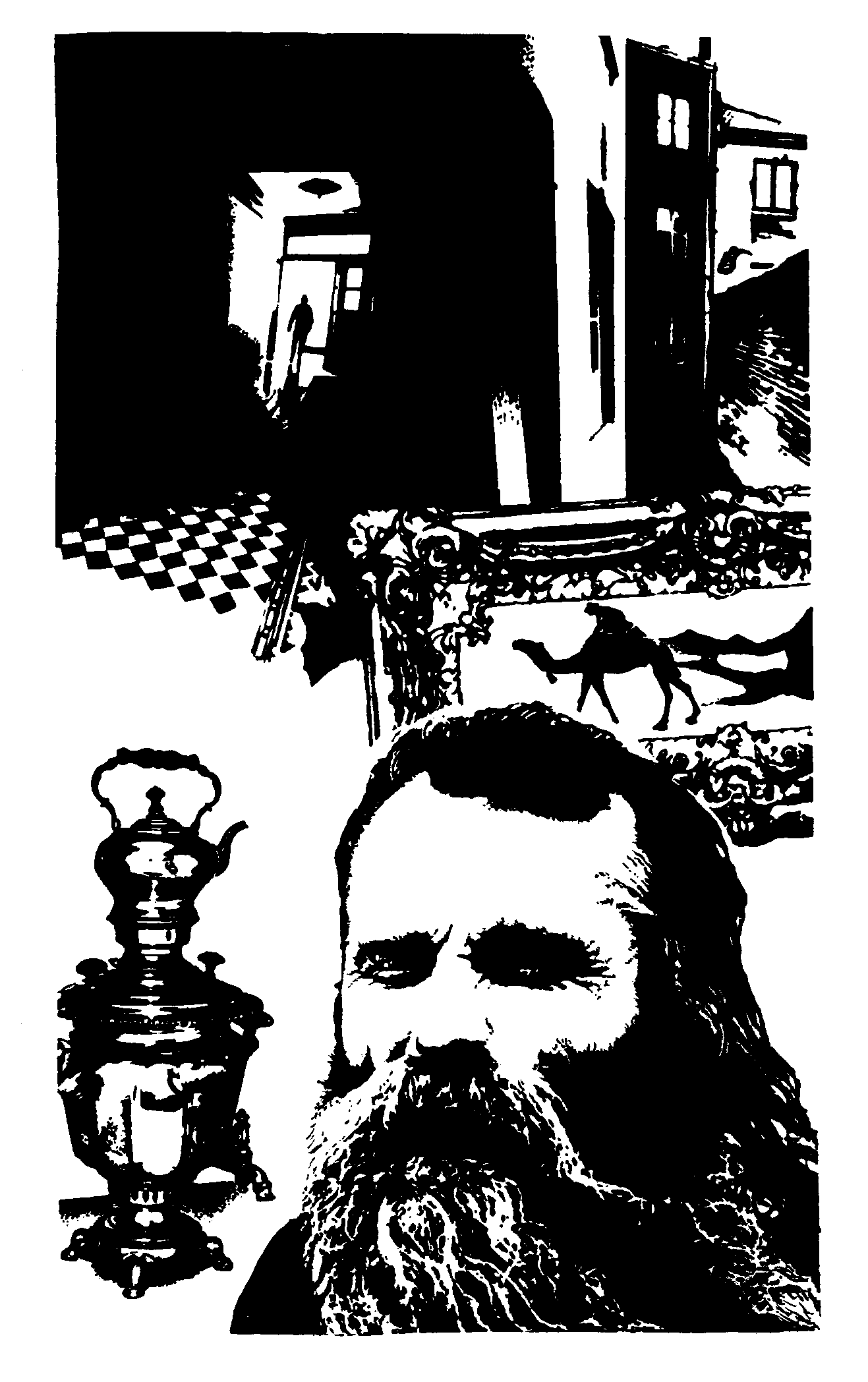 |
— Отдал богу душу за мирян преподобный Кирилл, — говорил отец Тихон. — Сколько православных на чужбине захоронено... Слышал ты о князе Григории, что в тринадцатом веке охранял с десятью тысячами ратников ханский город Канбалут? Невдомек тебе... Канбалут, он же Ханбалык, по-китайски Тайду, Бейпин, Бейцзин, сейчас Пекин... Еще раньше был на этом месте город Цзи, его еще называли Чжунду, да сожгли его монголы. Затем отстроил его вновь Хубилай, внук Чингисхана, покоритель Срединного государства, сам на престол сел, объявил себя императором. Обосновал Хубилай новую династию Юань. Раньше-то, до монголов, династии назывались по имени тех земель, откуда происходил родом их основатель, а Хубилай взял древнюю книгу «И-Цзинь», «Книгу перемен», открыл первую страницу, ткнул пальцем в первое слово «Юань», на том и порешил: «Пусть моя династия так называется». Опосля все китайцы так же мудрствовали — Мин, Цин...
И была та столица Срединного государства, — продолжал Тихон певуче, точно пел былину об Илье Муромце, сыне крестьянском, — квадратная, по двадцать четыре мили каждое ребро, считай по-русски сорок восемь верст. Стена была земляная шириною двадцать шагов, толщиною десять. С каждой стороны по трое верст, на каждом углу дворец-казарма для войск, и посередь города другая, самая главная, с запасом оружия, а на башне колокол. Как вдарят в тот колокол медный, так чтоб ни одна жива душа по улицам не шмыгала, а если врач к роженице вышел, так фонарь красный должен держать в вытянутой руке, чтоб стражники его личину видели, — улицы-то прямые, с конца в конец все видно, хоть в лапту играй от ворот до ворот. Ну а ежели кто шалтай-болтай вздумал, того велено было хватать, допросить утром и бамбуковой планкой отдубасить. Всего в Ханбалыке наказывали за две тысячи семьсот пятьдесят девять преступлений, самыми страшными считались непрочное строение судов для государства и ошибка при вложении доклада в конверт, составление ядов и чародейство, неуважение к родителям, убийство рабочими мастера, отцеубийство. Так ты, Артур, сын мой, правильно ли «вложил документ», не перепутал ли конверты?
Он испытующе посмотрел на меня. Его настороженность была вполне оправданна — ночное появление единоверца и «земляка» было более чем неожиданное, тем более кончилось то время, когда русские, всполошенные великим преобразованием, распушились, как семена одуванчика, по всей Земле. Выкристаллизация давно закончилась, ибо русские страдают одной из самых мучительных психических болезней — ностальгией, и болезнь у них запрограммирована в генах. Если же кто бродит шатуном по сей день по забытым богом уголкам, как Макао, то это или как Тихон, или лютый враг России, которому на страшном суде не будет прощения.
— Вы про князя Григория упоминали, — сказал я, потом пояснил: — Я журналист. Приехал сюда жениться. Невеста моя здесь живет.
И протянул попу пресс-карточку «Гонконг стандард».
— Ах ты господи! — засуетился Тихон. — Я тебя-то за другого принял... Ах старый греховодник! Шелкопер, значит? Греховная профессия, но я тебе не судья. Про князя интересуешься? Какая у него судьба сложилась? Татары разбили китайскими стенобитными машинами стены стольного града Киева... Китайцы при машинах были, помогали татарам. А через поколение внук Чингисхана Хубулай держал русскими воинами числом десять тысяч в узде Ханбалык. У каждого входа-выхода, у ворот, дежурило по тысячи всадников... Так получается: что посеешь, то пожнешь.
— Вы, наверное, историей увлекаетесь? — задал я вопрос, чувствуя, что Тихон хочет выяснить еще некоторые неясные вопросы, связанные с моим визитом в Макао.
— Грешу, грешу... Интересуюсь. Я сам-то осколок истории. История — зеркало на перекрестке дорог, а люди иногда как дадут кувалдой по этому зеркалу, и летят во все стороны осколки. Судьба-то у меня незавидная, но поучительная. Застрял я тута до концов жизни. Но с Россией переписку держу, родню разыскал. В Сибири есть мой род, город Кузбасс слышал? Казаки шахтерами стали, с коня под землю пересели. Я тебе письма покажу...
Он помолчал немного.
— Когда поэт Гейне умирал, то потребовал: «Бумагу и карандаш!» Мой хозяин, художник Рерих, попросил открыть шторы. Преудивительной душевной доброты был человек! Царство ему небесное! Всю жизнь посвятил солнцу, и сам был солнечным, вечная ему память людская, певцу синих гор. Тебе еще рано, а я уже задумываюсь, что сказать, перед тем как закрыть глаза. Однако скажешь-то непременно не то, что приготовил. Вот ведь какая штука. Ляпнешь что-нибудь сдуру, а то и матюгнешься, и в великие люди не попадешь.
В комнату на коляске неожиданно въехала женщина с укутанными в плед ногами. Отец Тихон расцвел:
— А это моя Дуня! Знакомьтесь. Господин Кинг. Он наш, православный!
— Добро пожаловать! — довольно правильно по-русски сказала женщина. Она была редкой красоты и намного, лет на тридцать, моложе мужа.
Казалось, в ее обличье слились самые привлекательные черты всех рас — иссиня-черные волосы с чуть заметным серебром седин, собранные на затылке в тугой узел; огромные, как у боддисатвы, глаза; брови-крылья, нос с горбинкой, что свойственно многим горным племенам; скулы широкие, но общие линии лица удлиненные, смуглая кожа, как у алжирцев...
— А вот и Михаил пожаловал, — неожиданно сказал отец Тихон. — Вы с ним покалякайте, он по-русски понимает, а мы с Дуняшей пойдем на стол накроем.
В комнату вошел индиец в косоворотке, с царственной осанкой, не иначе как из касты браминов, — дьякон Михаил.
Мы кивнули друг другу, не зная, с чего начать разговор. Дурацкое положение... Выручили фотографии священников, фотографии явно были вырезаны из «Календаря православной церкви». Они были приколоты к стене канцелярскими кнопками между рисунками тибетских яков.
— Епископат, — прочел я вслух. — Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский. А где же ваш шеф? Кому вы подчиняетесь?
— У нас междуцарствие, — ответил басом индиец. — На перепутье мы... Вообще-то вот Иоанн, митрополит Нью-Йоркский и Алеутский, патриарший Экзарх в Северной и Южной Америке, за ними идет Никодим, еписком Аргентинский и Южноамериканский. Мы приписаны к Южной Америке.
— Откуда вы так хорошо русский знаете?
— Учился в Париже в духовной семинарии.
В моей голове закопошились сотни вопросов, язык буквально зачесался, но я усмирил приступ любознательности, которая иногда граничит с бесцеремонностью: кто его знает, вдруг дьякон окончил попутно и Кэмбридж, где за повторный вопрос платят штраф. Я не хотел показаться в его глазах «трогом» (троглодитом). Чтобы не стоять истуканом посреди комнаты, я уставился на рисунки тибетских домашних «ковров».
— Тихон боготворит яков, — сказал Михаил. — Тибетцы обязаны яку цивилизацией. Эта самка называется «драй», что по-немецки звучит как «три». Ее молоко жирнее и питательнее коровьего. Раз в год якам пускают кровь, потом эту кровь сушат и едят. На яках пашут, ездят верхом, возят вьюки. В Индии хвосты яков в цене — очень удобные мухобойки. Зато нрав у них зело несносный и невероятно медлительный.
Мне, откровенно говоря, было не до лекции по зоологии, меня снедали собственные заботы. Я рассеянно выслушал Михаила, крякнул, попытался направить разговор в нужное для меня русло:
— Вам отец Тихон ничего не говорил по поводу моего визита? Я нашел отца Тихона через приказчика ювелирной лавки. Не поздно ли я пожаловал в гости?
— Ничего, мы ложимся спать с полуночными петухами. Между прочим, петухи здесь поют ровно в полночь, как и во Франции.
Молчание воцарилось вновь: дьякон Михаил почему-то не хотел вести деловые разговоры. Мое внимание привлекла небольшая миниатюра в простенькой рамке из бука. Голубое бездонное тибетское небо, красные горы в лучах заходящего солнца, черные тяжелые идолы... Лаконично и в то же время неотразимо прекрасно. Казалось, что это окошечко и за ним разреженный от высоты воздух...
— Так это же Рерих! — вырвался у меня невольно возглас изумления. Так вот чьей работы был портрет юного отца Тихона!
— Тихон был дружен с ним, — сказал индиец. — С матушкой там и познакомился. Тихон у художника одно время вроде бы за повара ходил.
— Понравился? — отозвался из кухни Тихон. — Я от него научился красками баловаться. Хватит соловья баснями кормить, стол накрыт.
— А кто у отца Тихона жена?
— Шерпка, — как о само собой разумеющемся ответил дьякон.
— Шерпка? Это что, с Филиппин? Шерпы... Соседи тасадаев?
— Нет, с Гималаев, я же сказал, — пробасил Михаил. — Из княжества Сикким. Очень любопытное племя... Предел человеческой приспособляемости к суровой природе. Шерпы...
— Ах, вы о Дуняше?.. — В комнату, задев плечом за косяк, с грохотом влетел отец Тихон. — Сейчас...
Он отодвинул перегородку, и нашим взорам представился роскошный стол, заставленный всевозможными закусками и бутылками. Посредине стоял старый, зачищенный до того, что стерлись медали и имя фабриканта, блестящий русский самовар.
— Прошу откушать чая, — пригласил по-старомодному хозяин. — А насчет родичей Дуняши... Преудивительный народ! Бывало, в палатке под одеялом от холода зуб на зуб не попадает, а они спят себе в снегу, и хоть бы хны! Босиком по снегу... Ей-богу, не вру! Спросите у Михаила, он слышал. Зато выносливы необычайно. Лучших носильщиков и проводников не сыскать. И встретил я в долине Дуняшу... а вот от жары у нее здесь ноги отнялись. Ее бы снегом лечить... Ну да не будем об этом... Проходите, дорогие гости, чем богаты, тем и рады.
— Мне бы хотелось вначале обсудить мои дела... — робко сказал я.
— А что такая... как это называется по-русски? Ах да, вспомнил — нетерпимость? — сказал Тихон. — Что у тебя такая нетерпимость?
— Видите ли, — начал я неуверенно, — мое дело несколько необычно.
— Так уж и необычно, — усмехнулся отец Тихон. — Думаете, не знаю, зачем вы пришли? — Он хитро прищурился, глаза-буравчики вонзились в меня.
— Думаю, что нет, — сказал я.
— Неужто? Сколько мы с него возьмем за венчание?
— Пятьсот долларов.
— Пятьсот с него многовато, — щелкнул языком отец Тихон, — сто пятьдесят, но не американских, а гонконгских, они не прыгают, как блохи, в цене. Самая устойчивая валюта, надежнее английских фунтов. Где невеста?
— Здесь, недалеко...
— Везите невесту, и дело с концом. Что нахмурились?.. Значит, не угадал? Дуня, Дуняша, ты извини, мы задержимся, выведем молодого человека на чистую воду.
— Итак, — сказал Тихон. — Значит, жениться собрались, молодой человек, а она другой церкви, католичка... Что ж!.. Жениться так жениться, умирать хуже. А где у нас магнитофонные записи?
— Какие? — встрепенулся дьякон.
— Какие, какие... Для свадьбы.
— Не знаю, у меня только псалмы хора из Бруклинского храма. Ты, Тихон, на мою пленку непотребное записал — ансамбль донских казаков. Хорошо, что никто из присутствовавших верующих русского языка не понимал, казаки пели «Не морозь, мороз, моего коня...» и еще «Летят утки и два гуся». Мне отпевать пришлось, а тут про коня и гусей.
— Почему это по-русски никто не понимал! Для нас это тоже божественные песни, — безапелляционно заявил отец Тихон. — Я тебе еще «Вдоль по Питерской» вклею. Никогда со мной не спорь! Ты принял нашу веру, но никогда не поймешь русской души. ...Значит, жениться, молодой человек, задумал? Ну хватит шутковать. Так вот... Артур, сын мой, давай-ка выкладывай, зачем мы тебе понадобились? Байки о венчании оставьте невесте, а нам говорите без... ну, без... забыл. Что надо, чем можем помочь? Тебе ночевать есть где? А то можешь у меня или у Михаила. У нас спокойно. Спокойно, спокойно, не надо смущаться. Не ты первый, не ты последний, все под богом ходим. Так чем выручать тебя? Что ты хочешь? Что за несчастье стряслось с тобой?
Я почувствовал, как безбожно краснею.
Я рассказал им почти всю правду. Она заключалась в том, что я как на духу признался в том, что мне надо уехать из Макао незаметно. Тихо. И как можно быстрее.
Да, мне бы, конечно, разумнее было остаться у отца Тихона или у дьякона Михаила... Я решил позвонить Клер — предупредить, что не вернусь. К телефону подошел неожиданно мой друг Боб Стивене: он все же примчался на выручку в полном неведении о подоплеке моего вызова. В подобной ситуации я не мог не вернуться к Клер хотя бы для того, чтобы объяснить Бобу, зачем он потребовался.
Я поблагодарил Тихона и Михаила. Свой отказ от ночлега я объяснил кое-какими обстоятельствами.
— Невеста действительно есть, — сказал я. — Я должен перед отъездом увидеть ее.
Про Боба я промолчал. Тихон и Михаил удовлетворились моими объяснениями.
— И все же, — сказал на прощание священник, — мое сердце чует, у меня нюх собачий, что тебе, сын мой, не стоит выходить из моей обители. Я бы сходил утром к ней, объяснил бы... Смотри, смотри сам. Если что, так двери моего дома для тебя открыты круглые сутки. До встречи!
Мы распрощались. Когда я добрался до Клер, в доме никто не спал. Боб ходил по гостиной и разглагольствовал перед очаровательной хозяйкой об эпохе Великих географических открытий.
Его голос доносился до прихожей. Я проверил тетради: они лежали на месте. Единственно, кто на них мог наткнуться, — это служанка, но уборку она делала по утрам, а не в полночь.
— «Хай-хо, хай-хо! ...Шагаем мы легко», — запел я песенку гномов из «Белоснежки» и вошел. Обстановка была, прямо сказать, интимная: горели свечи, Клер лежала на диванчике, Боб с бокалом мартини расхаживал по комнате без пиджака. Его спину перекрещивали подтяжки.
— Я не помешал? Я тот самый человек, который сопровождает Жаклин в Европу, чем очень доволен, — процитировал я слова покойного Джона Кеннеди, произнесенные им по прилете в Париж.
— Бюдль-удль, наконец-то! Ты несчастье для своих друзей. Привет, Арт! Я развлекаю твою невесту как могу.
Боб поднял бокал и выпил за мое здоровье. Он изменился за два месяца, что мы не виделись. Похудел, отпустил роскошные усы. Усы ему шли.
— Дорогой! — Клер поднялась с диванчика, подошла ко мне, приподнялась на цыпочки и поцеловала в щеку. — Я очень волновалась... Ты всегда исчезаешь так неожиданно, тем более в такой момент.
— Прости, в какой момент?
— Ну в такой... Вот ты вызвал друга, и я вынуждена была развлекать его.
— Я рад тебя видеть, Боб, ты мне очень нужен.
— Разумеется, если позвал меня в бухту Чжуц-зян-коу. Я уже осмотрел свадебное платье твоей невесты. Тебе тоже придется взять напрокат фрачную пару.
— Перестань, не до шуток. Платье... Дурацкие шутки.
— А что случилось, милый? — спросила Клер.
Тон ее вопроса чуть не сбил меня с ног. Сюрприз за сюрпризом! Черт разберется в этих женщинах. А что, если она действительно ждала моего предложения? Кажется, я влип в пренеприятнейшую историю!
— Дайте-ка чем-нибудь промочить горло, — ответил я, чтобы выиграть время.
— Все-таки где ты был? — опять спросила она, наливая мне бокал путаоцзю, виноградного вина.
— Клер, раньше я тебе никогда не давал подобных отчетов.
— Раньше — да, но теперь придется, — сказала она мягко, но твердо, поставила бокал и вышла.
— Арт, зачем ты ее обидел? — нахохлился Боб. — Она так ждала тебя, так волновалась. Столько о тебе хорошего наговорила, что я стал сомневаться — не ошибся ли адресом, и ты ли пригласил меня на свадьбу.
— Хватит тебе молоть чепуху! — фыркнул я, чуть не захлебнувшись вином. — Черт, не в то горло попало. Стал бы я тебя тревожить из-за такой мелочи, как свадьба.
— Мелочи? А что может быть более серьезного в жизни перезревшего холостяка?
— Может быть кое-что другое. Она действительно показывала тебе свадебное платье?
— Да... Довольно милое. Тут, значит, испанские кружева, белое...
— Где джин? Содовой не надо! Помолчи! Я влип... Нет, причина не Клер. У меня есть шанс расстаться с жизнью, и довольно верный шанс. Сядь! Наберись терпения. Я тебе вкратце обрисую...
И я ему поведал то, что прочел в тетрадях.
Боб моментально стал трезвым как стеклышко, это он умел. Точно у него был клапан, и, когда дело доходило до серьезного, он нажимал на клапан, пары алкоголя улетучивались, и его сознание становилось ясным.
— У тебя есть фотоаппарат? — спросил я.
— Как всегда... Я прилетел со всеми доспехами.
— Пошли. Займемся работой!
Прежде чем подняться, я зашел в прихожую, отодвинул ящик для обуви, вынул дневник Пройдохи, затем мы забаррикадировались на втором этаже, завесили окна и начали работать.
Миниатюрный фотоаппарат Боба щелкал беспрерывно. Мы его закрепили на перевернутой скамейке. Я листал страницы... Получилось двадцать кассет.
— Куда ты их спрячешь? — спросил я.
— Положу среди неиспользованных.
— А как потом найдешь?
— Найду, если довезем до редакции.
— Нужно довезти. — Я не договорил. За дверью послышался чуть слышный шорох.
Я бросился к двери, повернул ключ... В конце коридора мелькнула тень.
— Кто там?
Я бросился следом, перепрыгивая через ступеньки, скатился вниз. В холле служанка обтирала пыль с полок щеткой из перьев птиц.
— Кто здесь прошел? — набросился я на нее.
Служанка улыбнулась и пожала плечами:
— Никого не видела...
— Ты здесь давно? Что ты тут делаешь так поздно?
— Вы накурили. Убирала окурки и бутылки.
Я вернулся к себе.
— Что случилось? — спросил Боб, рассовывая кассеты.
— Мне показалось, что кто-то нас подслушивал.
— Ну, это уж мания преследования, — ответил Боб. — Какие будут приказания?
— Слушай, Боб, — вместо этого сказал я, — тебе нравится служанка?
— Ничего, — ответил он и покрутил ус. Почему-то те, у кого есть усы, при подобном вопросе обязательно крутят их.
— Я не рассчитал размеры опасности, — объяснил я ситуацию. — Займись-ка служанкой, проконтролируй ее с час, если она не уйдет спать.
— Зачем?
— Требуется сжечь переводы, что я отстучал на машинке. Я без тебя не сориентировался. Сутки стучал на машинке, настучал три экземпляра. С ними как с горбом.
— Ладно, — рассмеялся Боб.
Кухня характеризует женщину и эпоху. Недаром археологи ищут «кухни» первобытных людей. Радиоактивный анализ золы костра указывает время, а битые горшки и остатки еды свидетельствуют об уровне развития цивилизации.
Про нашу цивилизацию я бы сказал, что она «пенальная». Мы с нарастающим упорством создаем «пеналы» — дома, квартиры, машины, каюты на кораблях, салоны в самолетах. Житель современного города с завидной точностью расскажет, сколько дверей в квартире у соседа, но не вспомнит, какого цвета утром было небо.
Возможно, я ошибаюсь, но доля истины в моих рассуждениях есть.
Подобная кухня могла быть только у Клер, дочки покойного портового врача-эпидемиолога. Он когда-то вводил карантины в порту. И может быть, на его совести числится не один «Летучий голландец», на котором от чумы вымер экипаж, но не жители континента. На кухне был коктейль из современных и старинных вещей. Плита на сжиженном газе — он стоит здесь очень дорого, но тем не менее Клер обзавелась подобной плитой, хотя, как я понял, пища готовилась на обыкновенном бензине или электричестве. Всевозможные кофеварки, старинные весы-коромысла, массивные ступки, поварешки с инкрустированными ручками. Полочки, коробочки. И камин. Почему именно на кухне у нее был камин, загадка. Хотя он-то мне и требовался. Широкий старинный камин, в который можно было сунуть мачту клипера.
Я бросил рукописи на пол, прислушался — тихо. Боб, видимо, выполнял возложенную на него миссию с энтузиазмом.
Я проверил, есть ли тяга. Тяги не было. Пришлось лезть за чугунную решетку, просунуть руку в дымоход. Дымоход был заткнут пробкой из рисовой соломы.
Я разжег огонь. Листки бумаги горели быстро, часть золы вылетела в трубу, что меня радовало, — меньше придется пепла убирать.
Жалко было сжигать текст. Вначале я рассчитывал, что есть шанс предложить его португальской полиции. Она обещала тысячу долларов за одну лишь фотографию знаменитой пиратки. Но визит господина Фу, второразрядного гангстера по сравнению с мадам Вонг, заставил меня изменить решение. Если плебс гангстерского мира свободно получает справки в местной полиции, как в личном оффисе, то у мадам связи, безусловно, более прочные и надежные. Неудивительно, что ни фотографии, ни даже точного словесного описания портрета преступницы нет ни у одной полиции мира. Решение однозначно — либо полиции этого не требуется, либо у мадам Вонг сильные покровители. Глупо лететь на огонь как бабочка. Я не имел гарантии, что обещанная сумма не являлась тем огоньком, на который летят легковерные.
Подозрение возникло еще при переводе тетрадей Пройдохи. Теперь я был уверен, что не ошибся. Нечего было думать, что мой шеф в «Гонконг стандард» Павиан рискнет опубликовать что-либо подобное. «Гвоздь» возьмет газета, которая стоит на грани банкротства, — ей терять нечего, а сенсация — шанс на выживание.
В начале шестидесятых годов ходили слухи, что при таинственных обстоятельствах было открыто лицо «королевы пиратов». И сделал это некий Корнхайт, так он себя назвал, якобы австрийский турист. Его следы затерялись где-то на Филиппинах, на вилле какого-то полковника ВВС США. Был еще слух, что некий филиппинец выдал ее резиденцию здесь, в Макао, недалеко от дома Клер. Но арест подозрительной «одинокой» женщины не состоялся. В печать просочились подробности загадочного происшествия. Я слишком хорошо помню участь незадачливых журналистов. Один исчез, двое улетели в метрополию и прозябают по сей день в провинциальных газетенках. «Спящую собаку лучше не будить» — так гласит пословица. В общем, сплошные «пчелки в чепчике». С другой стороны, без «паблисити нет просперити» (без рекламы нет процветания). Раз я влез в историю и втянул в нее друзей, я должен довести ее до конца. Боб поможет пристроить дневники Пройдохи. У него нюх как у сеттера. Иначе бы не пошел за мной в страну Шан-Гри-Ла, сам не зная зачем: он слишком практичный малый. И что самое главное, не трус. Правда, Боб склонен к компромиссам. Взять хотя бы песню «йети», одичавшего солдата микадо, которую он записал на пленку и выгодно продал японским военным, чтобы звуки голоса японского «героя» не распугали на островах Восходящего солнца новобранцев. После подобной песни трудно вбивать в молодые головы идею невиновности в агрессии. За эту песню моментально бы ухватились пацифисты и активные противники возрождения армии, а их в Японии, с точки зрения поклонников Бусидоо (правила поведения самураев), больше чем достаточно.
Грустно сжигать рукописи. Листочки как живые сжимались, расцветали язычками пламени, а я глядел на огонь, и мысли мои витали в заоблачной дали, где никогда не заходит солнце и в то же время не бывает испепеляющей жары...
Это горела не бумага, а жизнь миллионов пройдох, дин, мын, толстых хуанов... Хороших и плохих, добрых и злых... За каждой исчезающей строчкой стояли страдания и надежды людей из плоти, которых ударь по щеке, и им станет больно, оскорбительно, и слезы потекут из глаз, и они испытают обиду, незаслуженную и незабываемую. И никто из них не захочет подставить вторую щеку.
«И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник перед господом от истечения нечистоты ее...»
В Библии проще. В жизни куда сложнее!
Остался последний тусклый экземпляр, я свернул его трубкой. В дальнем конце дома что-то загремело со звоном, как будто опрокинули старинные часы с маятником или щит воина. Я не стал затыкать трубу пучком рисовой соломы — она слишком нагрелась от сгоревшей бумаги, бросил рукопись в камин и вошел в холл. Там стоял Боб. Он, кисло улыбаясь, тер щеку, горевшую, как красный сигнал светофора.
— Что стряслось?
— Отбрила,— сказал уныло Боб, точно нашкодивший школяр.
— Ты, наверное, слишком увлекся, — сказал я.
— Что такое увлекся? — обиделся Боб, приводя в порядок усы. — Разве при такой миссии, которую ты возложил на меня, можно не увлечься?
— Донжуан, — рассмеялся я. — Больно?
— Попробовал бы сам. Повилял бы хвостом.
— Во всяком случае, ты не в родном Техасе, — сказал я.
— Я из Флориды, — возразил Боб.
Он поднял с пола опрокинутый стул.
— Не нужно было увлекаться, — повторил я. — Неприлично в чужом доме затевать шашни с прислугой.
— Демагог! — взорвался Боб. — А как там твои дела? Справился?
— Сжег.
— Прекрасно. Чем меньше несешь, тем легче идти. Что будем делать дальше?
— Убираться отсюда, и как можно быстрее.
— Как ты это себе представляешь?
— Отсюда один выход, — сказал я, — морем. Тебе купим билеты на «трамвай», ты вечером будешь в Гонконге. Я выберусь самостоятельно. А там решим, что делать с материалом. Я надеюсь на тебя. Ты более расторопен, чем я.
— Это ты подметил верно, — согласился Боб. — Но в порту нас перехватят. И в море могут перехватить. У тебя есть второй паспорт?
— Никогда не было.
— Да! Вместе нам, конечно, не стоит ехать, — размышлял Боб. — С пленкой поеду я. Первым же рейсом. На меня не объявлена свободная охота, я в стороне — проскочу. Потом поедешь ты. Но я бы посоветовал тебе... Я бы сжег и дневник.
— Фотокопиям без оригинала два пиастра цена. Я его привезу с собой, — возразил я. — А то еще скажут, что это фальшивка.
— Подобное может тебе стоить очень дорого.
— Знаю.
— Ну а как ты думаешь обойти офицера по фильтрации? — спросил Боб.
— Кого? — не понял я сначала.
— Дуппель М.
— А какое он имеет отношение к тетрадям? Я раздобыл их, считай, в Португалии, а не во Вьетнаме или в Корее.
— Но там есть факты, компрометирующие военных, этих всесильных ящеров. Молчаливый Макс...
— Он же Милитери Макс, или Дуппель М. Огромный, как шериф в Калифорнии, мрачный, как гриф в Скалистых горах.
Вопрос Боба был не так прост. Дуппель М — офицер армии США по фильтрации информации. Эта должность была введена Макартуром во время корейской войны, когда он приказал выгнать из Кореи всех журналистов, многие не смогли зацепиться даже за Японию. Объяснялось это «особыми интересами национальной безопасности». В Штатах по этому поводу в конгрессе был поднят шум. Макартуру пришлось пойти на кое-какие уступки, и как компромисс ввели должность цензора. Эта должность сохранилась по сей день. Теперь в зоне действия вооруженных сил США от него зависело, кого пускать в Сайгон, на передовую и т. д.
— Он, кажется, из ЦРУ, — сказал Боб, — черт его разберет, откуда. С подобными организациями шутки плохи.
— А, — махнул я рукой. — Помнишь историю про Тайвань, ее изучают во всех университетах как классику.
— Ты что имеешь в виду?
— Имя журналиста, к сожалению, забыл, — сказал я. — Ну, купил у какого-то чанкайшистского генерала план вторжения на континент. Да знаешь ты эту историю. Вот это работа! И ведь был корреспондентом калифорнийской газетенки. Газету скупили... Весь тираж. Повезло газете! Бояться Дуппель М, лучше в газете не работать. Информацию я получил вне его владений и не из его источников. Это мой бизнес. Плевать я на них хотел!
— И все-таки надо как-то подстраховать материал, — сказал Боб. — Как ты рассказал, разговор идет о торговле наркотиками, а этим и занималась, как тебе известно, даже мадам Ню, жена брата бывшего «президента» Южного Вьетнама Нго Динь Дьема, и еще раньше Бао Дай, а потом Ки и теперешний «правитель», контрабандистов опиума прикрывают даже в конгрессе Штатов «китайские лобби», как Анна Шенно. С тобой может случиться то, что случилось с беспокойным идеалистом Хоукриджем[30].
— Перспектива не радужная, — согласился я и попытался «передвинуть фишку на цвет, после того как его назвал крупье». — Но существует же наконец свобода слова. Или первая поправка к конституции Штатов уже отменена?
— Перестань паясничать, — сказал Боб. — Я говорю с тобой серьезно. По-моему, ты сам не понимаешь, какая мина замедленного действия оказалась у тебя в руках. Никто не знает, когда сработает взрыватель, дай бог, чтобы ты в этот момент был от нее подальше.
Мы замолчали. Я еще не представлял подлинной цены дневников. Цена взвинчивалась как на аукционе. Третий удар молотка я услышал буквально через несколько секунд.
— Руки вверх! — раздался сзади голос с хрипотцой. И по тому, как это было произнесено, я понял, что тот, кто стоит за моей спиной, не шутит.
— К стене! — следовали четкие команды. — Опереться руками о стену, ноги шире! Шире, тебе говорят! Не оборачиваться. Стреляю без предупреждения. Сделаю дырочку в твоем дурацком черепке.
— Длинный, пошарь за пазухой, — раздался тихий, спокойный голос.
Потные шкодливые руки профессионально заскользили вдоль моего тела.
— Нет у него ничего, шеф — сказал Длинный. — Абсолютно ничего.
Мозг лихорадочно работал. Кто это свалился как кошка на голову? Конечно, люди господина Фу. У него был телохранитель по имени Длинный. Господин Фу взъярился, услышав, что Пройдоху Ке вывела на меня его собственная дочь. Он потерял голову. И вот пришли его люди. Неужели он знает, что у меня дневники? Может, ему поступил новый сигнал? От кого?..
— Повернитесь! — последовала команда. — Можете опустить руки.
В комнате оказалось трое «гостей». Первым стоял Длинный, разжалованный телохранитель господина Фу. Это он шарил у нас по карманам, выискивая оружие. Напрасно старался. Я неукоснительно придерживался правила Миклухо-Маклая — не брать на встречу с коренным населением страны, где аккредитован, оружия.
— Присаживайтесь, господа! — последовало предложение на английском языке с легким японским прононсом. Но и без этого достаточно было взглянуть на человека, уютно усевшегося на циновке, чтобы по тому, как он сложил ноги, и по лицу, глазам, несколько навыкате, по очертанию рта безошибочно узнать японца. Лишь для новичков, приехавших в беспокойную Юго-Восточную Азию, все национальности на одно лицо.
Я сел. Боб, расправив усы, ни на кого не глядя, тоже сел, закинул ногу на ногу, вид его был воинственным и нагловатым. Конечно, Сом тоже явился сюда во всем блеске — соломенной шляпе, рубашке цвета хаки навыпуск, с узкими погончиками, в тщательно отутюженных шерстяных брюках и с неизменными темными очками на носу. Я его сразу узнал по описаниям Ке. Сом был пижон, телохранитель господина Фу, антиквара, преподавателя каллиграфии в Гонконгском китайском университете, торговца наркотиками, контрабандиста, в общем, дельца, которых тысячи от Цейлона до Филиппин и даже до Сан-Франциско и Гаити. Сила подобных пиявок, как господин Фу, в широкой, разветвленной сети деловых отношений. Конечно, миллионы китайцев, хотя бы в том же Сингапуре или Гонконге, влачат жалкое существование, немногим из эмигрантов удалось «выбиться в люди», и именно поэтому выбившиеся «в люди» необычайно живучи, цепки, изворотливы и безжалостны, хотя подобные понятия в их лексиконе отсутствуют. Кули, китаец с набережной чужого порта, двенадцать часов таскавший на спине корзины с рисом, вечером съедал в лучшем случае миску жидкой каши, приправленной вялыми овощами. Кули работал на земляка, главу клана, которого считал благодетелем, — господин предоставлял работу, пустил в ночлежку, дал ссуду, когда заболел ребенок (пусть под дикие проценты, но все же дал). К своему господину китаец обращается и в моменты взрыва национальной резни, часто возникающей то в одном, то в другом уголке Тихоокеанского бассейна, куда континент выплеснул миллионы ли, ванов, чжанов, фу.
Я знал, что главы кланов исподволь разжигали подобные расовые страсти. Это была своеобразная китайская круговая порука, имеющая многовековую традицию, возникшая в глубокой древности среди обездоленных крестьян Срединного государства, объединившихся когда-то против беспредельной власти помещиков и государственных чиновников. Китайские миллионеры наподобие сорняков душили местную национальную буржуазию, за что расплачиваться приходилось ежедневно миллионам простых ли, ванов, чжанов... За ними, как за Великой стеной, прятались ростовщики, перекупщики, банкиры, контрабандисты, чьи фамилии были тоже ли, ван, чжан.
Последнее время, после резни в Индонезии, «люди» начали перестраивать структуру кланов и, главное, менять методы «работы», американизировать тактику и организацию кланов. Тому примером было хотя бы то, что телохранителями господина Фу командовал Комацу-сан, или, как его называл Ке, Комацу-бака.
Комацу сидел на циновке, сняв, по древнему обычаю, обувь у порога, подложив под себя аккуратно ноги, большие пальцы на ногах были далеко отставлены, почти как на руке. Комацу точно собирался молиться духам предков или продиктовать лучшему другу «хоосе»[31].
— Здравствуйте, господин Кинг! — улыбнулся Комацу-бака. — Очень рад с вами познакомиться. Я, надеюсь, не ошибся, вы господин Кинг? — Он сделал легкий поклон в мою сторону.
Я не ответил.
— А вы кто такой? Тоже журналист?
— Что вам нужно? — зло спросил Боб. — Если пришли грабить, то ошиблись адресом. Как бы я сам тебя не ограбил...
— О, значит, вы тоже журналист, — сделал поклон в сторону Боба якудза[32] Комацу. — Очень хорошо! Будем проводить пресс-конференцию. Только прошу вас не делать резких движений. Мои мальчики плохо обращаются с оружием и могут нажать с перепугу не на тот рычажок. И будет большая неприятность. И для вас, уважаемые господа, и для меня. Я отнюдь не хочу портить отношения с заморскими... друзьями.
— Кончай дергать за ногу, — не выдержал Боб. — Зря тратишь время. Если вы снимете с меня часы, вам на троих мало достанется. Смывайтесь, я сделаю вид, что вас не заметил. Убери!.. — Он привстал и оттолкнул ствол пистолета, который направил на него Длинный. — И будем считать, что мы незнакомы. Обещаю не сообщать о вашем визите в полицию. Горе-грабители! И это потомок богини Амотэрасу Омиками! Связались с подобной шушерой.
— Заткнись! — привстал Сом. Он не любил неуважительного к себе отношения.
Боб не обратил на его реплику внимания. Мой друг не терялся ни при каких обстоятельствах, моментально нащупывал главную нить. Подонки, разумеется, не тронут нас пальцем, пока им не даст команду главный. Ну а если он даст команду?.. Не имеет никакого значения, в какой момент гангстеры придут в ярость. На несколько минут раньше или позже... Если начнут бить, то ошалеют от запаха крови и возможности мучить безнаказанно.
— Мои мальчики не умеют подобающе вести себя в приличном обществе, — сказал Комацу. — Я приношу извинения.
Комацу закрыл глаза: лицо его было печальным. Ох эти самураи! Обожают мистику. Все у них идет по ритуалу. Даже когда варили китайцев живьем в котлах, они делали это с серьезным видом.
— Кио ку мицу! — произнес как молитву Комацу.
У меня по спине побежали мурашки... «Кио ку мицу» — гриф, его ставили во время прошлой войны на документах. «Совершенно секретно, при опасности сжечь»!
Комацу не забыл старого и ничему не научился новому. Он действовал по раз и навсегда заложенной в нем программе. Комацу... Бывший офицер божественного микадо. Возможно, военный преступник, сумевший избежать возмездия. Так или иначе, он не вернулся на родину, затерялся среди чужих островов, став слугой мадам Вонг.
А может, и не только мадам?
Может, он связной кемпейтай?[33] Был же случай, когда на японскую уголовную полицию вышел бывший «сотрудник» мадам, но не дошел до явки — кто-то предупредил гангстеров о предателе. Возможен и такой вариант. Вполне возможен. Густой замес... И мне почему-то уже не хотелось разбираться, что на чем заварено.
Тетрадь
Нет смысла приводить на память все выдержки из дневника Пройдохи. Они сумбурны, отрывисты, порой противоречивы — видно, парень последние дни жил напряженно, нервно, тыкался по углам, как загнанная мышь. Проанализировав записи, кое-что дорисовав, я так представил себе порядок происходивших событий.
Я могу более или менее представить, как происходила та теплая встреча рыцарей удачи Южно-Китайского моря, — церемонии, безусловно, были, ведь респектабельность ценится выскочками намного выше, чем истинными аристократами.
Существует три типа приемов — на английский манер, на русский и на китайский. Остальное — вариации трех основных видов. При рандеву в английском духе у входа стоят хозяин с хозяйкой, они пожимают руки входящим. Приглашенные скапливаются в просторном зале, уставленном столиками, на которых разложены сандвичи, маринады, прочая закуска. Лакеи обносят гостей подносами, на которых выстроены бокалы со спиртным. Начинаются индивидуальные тосты, толпа перемешивается, все говорят одновременно, большинство нажимает на напитки, потому что плотно пообедали предварительно дома. Бывает, где-то в середине раута выступает знаменитость, раньше, в доброе старое время, у пианино появлялась хозяйка дома или ее дочь, которая исполняла модную сентиментальную песенку о барашках. Гости слушали внимательно и восхищенно.
По-русски прием происходит совершенно иначе. Здесь главное — застолица. Гости садятся за столы, которые ломятся от яств. Выставляется все сразу и в неограниченном количестве. Очень много значит, кто с кем сядет. Затем провозглашаются тосты за присутствующих. Недопитая рюмка считается явным знаком оскорбления того, за кого в данный момент пьют.
И третье — китайские чифаны — вещь совсем своеобразная. Гостей долго томят в холле, где их насыщают зеленым чаем, легкими сладостями и обворожительными улыбками. Затем мужчины проходят в зал, где стоят столы, женщины остаются в холле, продолжая наслаждаться приятным обществом. Во время банкета тоже произносятся тосты, но с той лишь разницей, что, наполнив свой бокал гремучей смесью, каждый норовит передать его соседу, себе взяв рюмку с лимонадом. Закуски меняются беспрестанно, понемногу, но в бесконечном разнообразии. И чем бесконечнее смена блюд, тем прием считается лучше.
В заключение мужчины возвращаются к женщинам. Появляются сласти, фрукты и музыканты. Разъезд гостей происходит, как везде, в зависимости от личных физических качеств каждого и общественного положения.
Тетрадь
О чем совещались рыцари удачи Южно-Китайского моря, осталось для Пройдохи, а значит, и для меня тайной. В данном случае можно строить всевозможные предположения. Конечно, они собрались не для того, чтобы обсудить вопрос о выведении нового сорта хризантем, и не пришли любоваться, как распускается цветок «Единственной зари». Он распускается на несколько минут прямо на глазах у зрителей и тут же отцветает. Для любителей природы чудо наяву.
На первый взгляд может показаться, что состав сборища был слишком пестрым, что эмиссары с континента не могли встретиться за банкетным столом с пиратами, банкирами, подозрительными американцами, не то хозяевами, не то агентами китайских националистов с Формозы, но это лишь на первый взгляд. Пекинские газеты искренне проповедуют догмы лишь когда это касается взаимоотношений с великим северным соседом. Здесь, в Макао, они вели диаметрально противоположную политику, прикрытую с континента завесой цитат «великого кормчего». Хотя бы тот факт, что самый богатый человек Макао, «проклятый империалист», господин Лобо был одновременно и товарищем Хо Ином, членом Пекинского правительства, был тем ключом, который легко открывал замок этой тайной вечери.
Фабрика господина Фу по производству героина, замаскированная под вывеской автомастерской, работала на сырье, доставляемом с континента, известном на весь мир сырье — опиуме марки «999», добываемом на плантациях мака в коммунах и концлагерях Китая, именуемых «Школами 7 мая». «Интерпол» в этом случае был бессилен. Португальские власти и англичане в Гонконге молчаливо оберегали статус-кво, делали вид, что не имеют понятия о происходящем на территориях, отторгнутых ими у Китая, больше того, их тайные полиции блокировали любого журналиста, пытавшегося расследовать эту щекотливую сторону «содружества наций», более представительную, чем «Британское содружество», и если при этом подданный ее величества исчезал, официальные власти набирали в рот воды.
Гангстеры сами имели сильный флот, вертолеты и личную охрану. Если бы чин португальской полиции или агент «Интерпола» все же рискнул появиться поблизости от виллы, это был бы его последний визит вежливости.
Когда-то, во время Столетней войны, французский офицер д'Отерош предложил противнику: «Господа англичане, стреляйте первыми». Времена галантных офицеров канули в Лету. Охрану в Макао несли мастера стрельбы по «сидячим птицам».
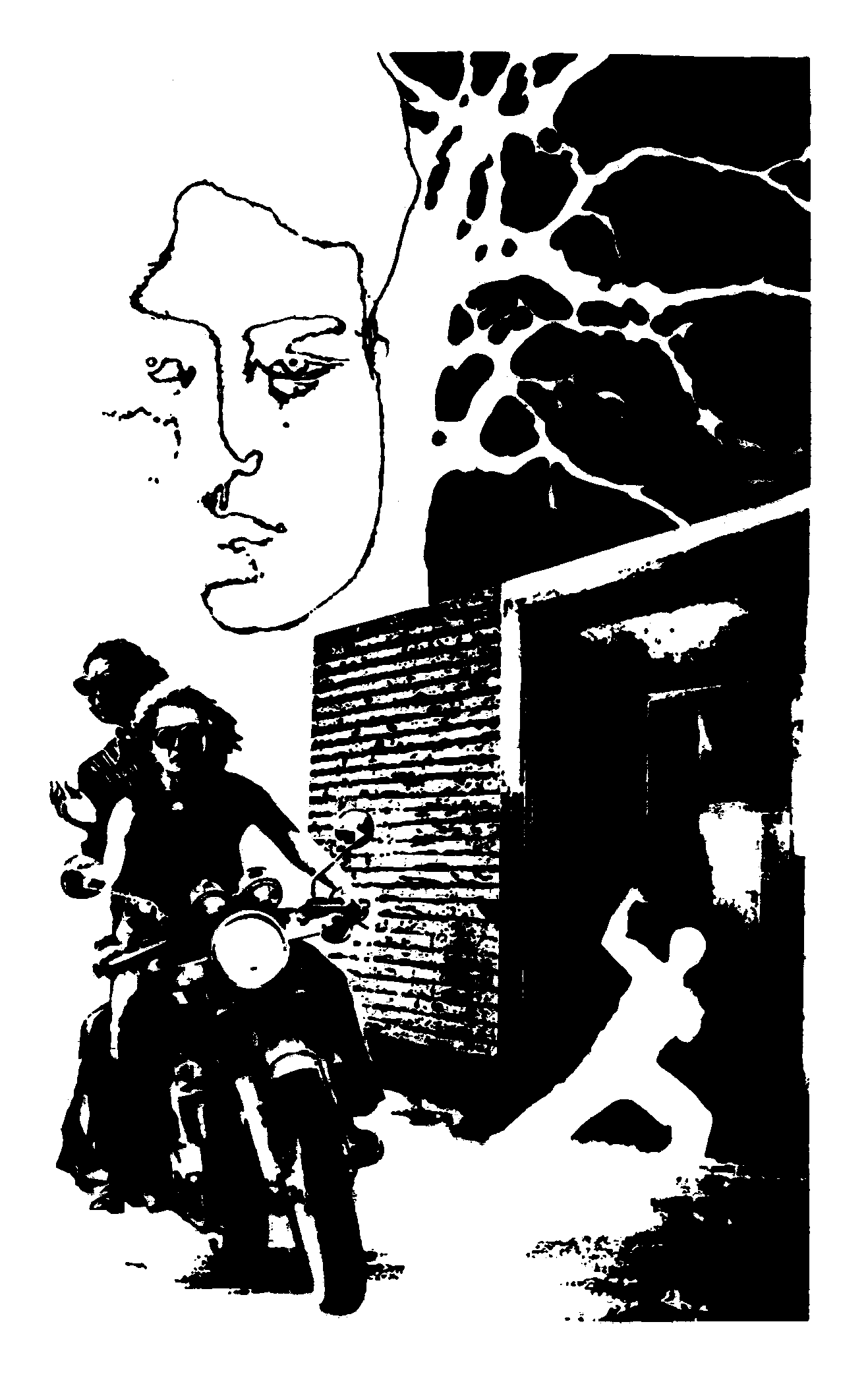 |
Читая дневники Пройдохи, я удивлялся его последовательности и терпению вести записи систематически и подробно.
Удивительным, пожалуй, я повторяю, были последовательность и терпение молодого вьетнамца. Вести дневник — большой труд. Но, поразмыслив, я понял, что двигало пером Пройдохи. Во-первых, страх: дневники давали ему какой-то шанс на шантаж. Во-вторых, дневник — исповедь, самоанализ и утешение. Это твой мир, который ты кроишь на собственный манер, ты как бы самоутверждаешься, и когда как безжалостный и объективный, как тебе кажется, судья описываешь события, в которых ты оказался пешкой, то даешь направо и налево безапелляционные приговоры могущественным врагам. При этом тобой движет мысль, что ты творишь нечто для вечности, что ты бессмертный летописец... Если хотите, ведя дневник, ты получаешь и эстетическое удовольствие. Некоторым, чтобы выплеснуть из себя эмоции, необходимо играть на трубе, другие поют во всю глотку, хотя у них нет и на унцию слуха, или сочиняют стихи, или, как Толстый Хуан, пишут плохие полотна, подражая хорошим художникам.
Так или иначе, записи Пройдоха вел, как говорится, до последней минуты.
Комацу-сан пришел с «визитом вежливости» ко мне выяснить, что известно «большеносому», о прошлом бывшего строительного рабочего. Они слишком поспешили, заставив Ке замолчать. Но откуда они узнали о дневниках? Вероятнее всего, выдала Дженни. Когда ее отец примчался домой, разъяренный и перепуганный возможными разоблачениями и вытекающими отсюда ответными мерами «коллег», она рассказала обо всем.
Самое важное было сделать вид, что я не знаю, кто пришел в «гости». Ведь не случайно, что пришли именно те, кого знал Пройдоха. Если я выдам себя, опознаю хотя бы одного из них... Меня ждет участь Пройдохи Ке. И Боба и Клер тоже... Гнездо, где может храниться утечка информации, будет разрушено, как гнездо ядовитого паука.
Я сидел напротив Комацу-отравителя и так же лихорадочно искал выхода из создавшегося положения, как и Пройдоха в последние минуты своей запутанной жизни.
Комацу-сан кончил молиться предкам и, открыв глаза, уставился на нас с Бобом, точно только что проснулся. Я догадался, почему он тянул: по всей вероятности, главное в его визите заключалось в том, чтоб выяснить, во-первых, успел ли Ке передать мне координаты базы пиратов, во-вторых, насколько я и Боб осведомлены о прошедшем совещании в Макао и какой информацией мы вообще можем обладать. Отсюда и вытекали дальнейшие действия группы налета. Отправлять двух «большеносых» с бухты-барахты в страну призраков — накладное дело. Журналисты — люди заметные. Ликвидировать их непросто — поднимется шум, как поднялся шум в Сицилии, когда мафия похитила журналиста, слишком рьяно расследовавшего деятельность организации. Кроме того, мы могли уже переправить добытые сведения в газеты, к тому же неизвестно, кто стоит за нами и на кого мы работаем. Комацу требовалась зацепка для разговора, поэтому он играл комедию, несколько обескураженный нашей беспечностью.
— Надоело это великое сидение! — не выдержал Боб.
Какое счастье, что я не рассказал ему подробно о том, что прочел в дневнике: Боб поистине не ведал, кто пожаловал.
— Что вам надо, выкладывайте и уматывайте! Деньги? У нас их нет. Занимаетесь рэкетом?.. Так мы не дети миллионеров. Мартышкин бизнес.
— Как вы сюда попали? — перебил я Боба.
— Какая-то женщина выскочила из дома и не закрыла дверь, — с улыбкой ответил Комацу. — Мы эту женщину заперли на всякий случай на кухне. Зачем вы встречались с нашим человеком?
— Спросите у него, — ответил я, пожимая плечами.
— Я пришел не за советами...
— А-а-а! — прозрел Боб. — Вы люди... этого, как его? Убери «гаубицу»! — Боб взял со стола визитную карточку. — Господина Фу. Он уже был тут. О чем, Артур, у вас была беседа?
Я должен был спасать друзей, в конце концов, я первый влип в это дело.
— Не может быть, что это люди профессора Фу, — сказал я. — Тут, видимо, какое-то недоразумение. Что вам надо?
— Кто вас свел с убитым парнем? — задал вопрос Комацу, точно разрубил до крестца и начал поедать мою печень[36].
Я пожал плечами.
— Чего они хотят? — обратился ко мне Боб, точно мы были вдвоем.
— Видимо, убитый знал что-то. Всполошил столько почтенных людей. Только зря комедия! Вы отлично должны знать, что мы с ним не успели перекинуться и парой слов. Он встал и пошел к выходу... А я пошел звонить по телефону, когда услышал выстрел. Я не стал ждать, чтобы выстрелили в меня. Я не люблю, когда в меня стреляют.
— Но он успел вам передать... — Комацу замолчал. И я понял, что он не уверен, что Пройдоха что-то успел передать.
— ...слиток золота? — спросил с невинным видом Боб.
— У нас есть доказательства, — сказал стальным голосом японец.
— Доказательства? — Я искренне рассмеялся.
— Вот фотография, он вам передал пакет. — Комацу показал издали фотографию: наверное, они все же успели щелкнуть, когда я нагнулся, но вряд ли они зафиксировали, как я сунул тетради под себя.
— Не понимаю, — ответил я.
— Вы что-то подняли с пола, — бесстрастным голосом, как динамик на токийском вокзале, продолжал японец.
— Сознавайся! — рявкнул Сом и неожиданно ребром ладони ударил меня сзади по шее. Перед глазами возникли круги, голова точно отделилась от туловища, и все вокруг заволокло дымкой.
Когда я пришел в себя, Длинный держал пистолет между лопаток Боба. Тот сидел с налитым кровью лицом и ругался, как портовый пропойца. Комацу по-прежнему сидел с невозмутимым лицом, поджав под себя ноги без обуви, точно пришел к брату в день поминания родителей.
— Черт бы вас побрал! — выдавил я из себя. — Прикажите негодяю не распускать руки. Сумасшедшие... Тьфу! Герои Хичкока.
— Зачем вы нагибались под стол? — последовал вопрос.
— Я уронил зажигалку...
— Где она?
— Потерял... При бегстве.
Я оставил ее наверху. Если я скажу, они пойдут туда. Пойдут? Вряд ли. Хотя какое это имеет значение? Наверху Клер. Она ничего не знает. Наглоталась снотворного и спит. Лишь бы не схватили ее. А сколько их сюда пришло? Вдруг они сейчас там, наверху, пытают Клер?
От этой мысли я опять чуть не потерял сознание. Что делать? Сознаться? Нет! Это не спасение. Надо как-то убедить, что их опасения необоснованны. Если они начнут пытать, они не остановятся, они уберут нас, потому что сам по себе факт насилия — криминал, повод для шумихи во всех газетах мира. Их нужно во что бы то ни стало остановить. Но как?
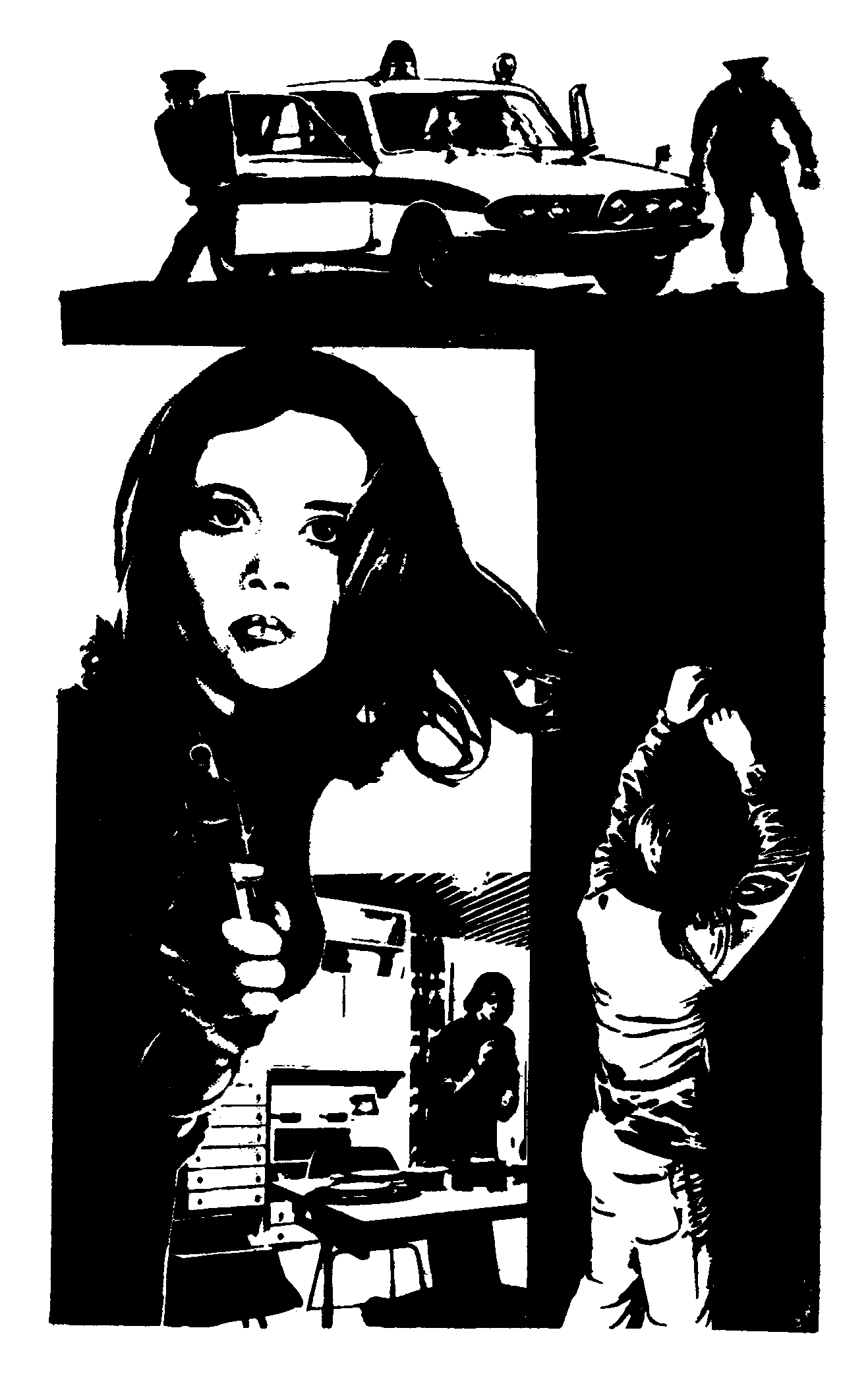 |
Ответ пришел неожиданно и совсем иной, чем я предполагал.
— Не трогайте его! — раздалось от двери. — Руки вверх! Стреляю!
В дверях стояла Клер. Она держала в руках зажигалку-пистолет. Неужели Клер не знала, что это зажигалка? Зачем она пришла? Уж лучше бы спала под действием патентованных снотворных таблеток.
Ее крик спустил пружину... Боб взметнулся на Длинного, и точным ударом в челюсть отбросил его к стене. Прежде чем я сообразил, что происходит, я бросился на Сома. Сработал рефлекс — журналист в наше время должен быть натренированным, как сержант из отряда «зеленых беретов». Но я запоздал... Меня опередил выстрел, потом я налетел на что-то в воздухе, как на выставленное вперед колено.
И опять потерял сознание.
Я умел драться. Но я опоздал на долю секунды. Сом был не паинькой, драки в притонах закалили его, господин Фу не зря кормил телохранителя. Он сбил меня на лету как муху.
В ситуации, в которую я угодил, самое блаженное состояние — беспамятство.
Но я не имел права блаженствовать. Я должен был «взять огонь на себя», и где-то в укромных уголках мозга, безусловно, работал часовой механизм пробуждения. Я быстро пришел в себя...
Около стены в позе, в которой совсем недавно стояли мы с Бобом, замерли налетчики — Длинный и Сом. В комнате было полным-полно португальских полицейских, господ Пу, как их зовут китайцы. Клер совала мне под нос пузырек с нашатырным спиртом, от которого у меня немедленно наступала аллергия, я замотал головой, отстраняясь от нашатыря, как рыба от бензола. Около Боба суетился врач. Сом прострелил ему руку. Пол был забрызган кровью. Боб стонал...
— Немедленно в госпиталь «Святой Анны», — сказал врач.
— У меня дела... Потом, — тихо сказал Боб, точно ребенок. Так все разговаривают с врачами, когда требуется их помощь.
— В госпиталь, — категорически заявил врач. — Немедленно на рентген. Вполне возможно, пуля задела кость... Вам повезло... Правее, и попала бы в легкое.
— Он стрелял в руку.
— Отличный стрелок. На рентген, на рентген! Что требуется подписать? Вы подпишете протокол в госпитале. И переливание крови. У вас есть деньги?
— Я даю гарантию, — отозвалась Клер.
— Хорошо, — деловито закончил врач. — Проводите в машину. Счет пришлем вам.
— У меня есть доллары, — подал голос Боб.
— Все в порядке, — сухо ответил врач. — Пошли! Можете двигаться самостоятельно? Или вызвать «скорую помощь»?
— Будьте вы прокляты! — заворчал Боб. — Готовы обобрать до нитки. Сам дойду до полицейской машины. Я не настолько богат, чтобы швырять деньги на ветер. Полиция довезет... Это ее обязанность. Только, комиссар, за японца вы отвечаете головой. С ним будет особый разговор...
Комацу-сан сидел по-прежнему, поджав под себя ноги, лицо его было бесстрастным, как у буддиста, впавшего в нирвану, происходящее, казалось, его не волновало. На нем была маска, как на актере театра Кабуки — маска безразличия.
— ...У него не нашли оружия, — возразил старший полицейский.
— Он ни при чем, — послышался голос Сома. Он стоял, широко расставив ноги и подпирая, как Атлант землю, стену.
— Тебя не спрашивают! — рявкнул полицейский.
— Не ори! — огрызнулся Сом. — Мы его прихватили по дороге. Он посторонний.
— Тем более не выпускать, — отдал приказание Боб. Меня удивили нотки в его голосе. Я впервые слышал, чтобы так говорил приятель, точно кто-то другой говорил за него.
— Хорошо, — согласился послушно старший. — Проводите господина.
— Очнулся? — Боб остановился около меня. — У тебя, Арт, запоздалая реакция. Бросай курить. Реакция будет быстрее.
— А ты пить, — поднялся я с пола и поцеловал Клер в щеку. — Спасибо, родная! А здорово тебя... дружище, царапнуло. Успели все-таки подстрелить.
Боб вышел в сопровождении полицейского. За окном заурчал мотор. Боб отбыл в госпиталь «Святой Анны» — дорогой, как самый фешенебельный номер в гостинице Майами, рассчитанный на миллионеров. Но, как говорил один знакомый розовощекий сержант тыловой службы в Сайгоне: «Здоровье, сэр, единственное капиталовложение, которое дает тысячу процентов. Смерть слишком большая роскошь для человека — ее можно позволить себе всего лишь один раз в жизни». Кстати, этого розовощекого сержанта вьетнамские партизаны подняли в воздух вместе со складом.
— Рад с вами познакомиться! — шаркая подошвами по ковру, подплыл ко мне старший полицейский. — Много раз читал ваши статейки. Очень лихо... Особенно когда пишете из зала суда. А интересно, сколько вам платят? Я тоже пописываю... Жене нравится. Может, посмотрите? Есть кое-что, пальчики оближете. Я люблю интеллигентных людей. Конечно, они любят рассуждать, и разное... Но поговорить с ними занимательно. Дам вам материал. Глядишь, и тиснете. Денежки, конечно, пополам, мне сейчас деньги нужны...
— Кому не нужны, — отозвался от стены Сом.
— Заткнись, падаль! — рявкнул старший. — Пардон, мадемуазель, сорвалось. Знаете ли, у нас работа грубая, мужская... Мы, так сказать, всегда на передовой... Оберегаем покой... У нас...
— Во дворе никто не обнаружен, — доложил детектив в штатском. Он вошел в комнату, щурясь от электрического света. Удивительно, что детективы в штатском во всем мире на одно лицо независимо от национальности. Специфика работы, как асфальтовый каток, сглаживает черты индивидуальности. А может, дождик и ветер выветривают их лица, как известняк.
— Кто же нас тогда вызвал по телефону? — удивился старший.
— Теперь это не столь важно, — ответила Клер. Она взяла сигарету из сигаретницы, подняла зажигалку, не обращая внимания на реплику, нажала на спусковой крючок, взметнулось пламя, Клер прикурила.
— Хорошая подделка! — одобрительно отозвался словоохотливый полицейский. И опять начал бубнить мне под ухо «о гастрономических» сторонах материала, который у него есть.
Нижние чины, не обращая внимания на воркование начальника, работали в поте лица.
— Двигай! — последовал наконец приказ.
Сом и Длинный профессионально отлипли от стены, закинули руки за голову, обхватили затылок и, ссутулившись, направились к двери. Не было ни нагловатого Сома, ни развязного Длинного, были лишь арестованные. И только. На одно лицо. Как во всем мире.
— А вас, господин... Как вас?.. Фамилия?.. — обратился старший к Комацу.
— Мияги, — неожиданно ответил Комацу и встал.
— Значит, Мияги, — сказал старший.
Он знал Комацу! Это было понятно по взгляду, который он бросил на японца.
— Вы утверждаете, что Мияги? — удивился я.
— Я тоже жертва, — сказал Комацу. — Я проходил мимо дома, они напали, силой оружия заставили войти в дом. Приношу извинение хозяйке дома!
— Зачем же они вас сюда привели? — не поняла Клер.
— Наверное, чтобы не было свидетелей, — сказал Комацу.
— Врет он, — сказал я. И почувствовал, как Комацу напрягся. Сейчас для него произойдет главное... Если я назову правильно, кто он есть, его визит окончится успехом. Собственно, ради этого момента он сюда и пожаловал.
Звонок в полицию... Клер не могла вызвать полицию — телефон был внизу. Позвонить от соседей или из автомата? Для этого следовало спуститься и пройти через холл, где были мы, или через кухню, которую гангстеры закрыли, — там сидела «под домашним арестом» служанка. Полиция непонятным образом нагрянула именно в тот момент, когда японец собрался отдать приказ о насилии над нами. Синхронное совпадение и весьма странное...
— Он... — я выдержал паузу, — старший у них... Вы хорошенько проверьте его. Возможно, его разыскивает «Интерпол».
— Мы проверим, — заверил старший без энтузиазма. — Ты арестован!
— Когда недоразумение выяснится, — сказал Комацу, сощурив глаза, точно склеил их пластырем, — я найду вашу газету... И подам на вас в суд.
— Все претензии к полиции, — ответил я. — Как вас там?.. Мияги. Вы не гангстер, а банкрот. Ворваться в дом, где самая дорогая вещь — телевизор и мой золотой зуб. Хотя... Ладно, это касается только нас, если я вас правильно понял. Если увидите общего знакомого... профессора... — я умышленно не назвал господина Фу, — скажите, что он поступил не как джентльмен.
Требовалась еще какая-нибудь глупая фраза, чтобы Комацу бросился на нее и проскочил мимо меня, не задев остро отточенными рогами...
— Передайте ему, что я никогда не приду к нему в лавку, — сказал я. — И друзьям буду говорить, чтобы они к нему не ходили. И еще, — я размахивал красным плащом, как моряк флажками, — я отказываюсь ознакомиться с его коллекцией монет. Боюсь, что они у него фальшивые.
Я понял — Комацу смеется, хотя лицо его оставалось неподвижным. Он, конечно, передаст последнюю фразу господину Фу, и тот, пожалуй, оскорбится от моего навета больше, чем если бы я обозвал его тухлым яйцом.
Когда мы остались с Клер одни, я спросил:
— Как полиция оказалась здесь? Ты ее не вызывала?
— Нет. Как же я могла?
— Тогда дело серьезнее, чем я думал, — вздохнул я. — Клер, родная, я немедленно скрываюсь. Немедленно! Это единственная гарантия безопасности для тебя и Боба. Где у него... фотоаппарат, его вещи?
Ничто не вечно под луной, даже сама луна: мое повествование приближается к окончанию.
Кстати, кольца! Я же купил два старинных платиновых перстня с бирюзой византийской работы! И забыл преподнести подарок. Они лежали в кармане. Визит ночных гостей перепутал карты. Спать не хотелось: слишком сильной оказалась встряска. Ныла шея. Сом знал работу, бил профессионально. Конечно, его отпустят — он не просто гангстер, он на службе доверенного лица, некой таинственной особы, мадам Вонг, с которой имеют деловые контакты маоисты, английская и американская военные разведки. Сам черт не разберет! Сплошной комок нечистот, которые продают на удобрения крестьянам в китайских кварталах.
Отношения с Клер напоминали мне угасающий костер, когда сучья прогорают, но под слоем пепла теплится жар, и достаточно одной ветки, как огонь запылает во всю силу.
Вела она себя во время кутерьмы, в которую угодила лишь благодаря мне, блестяще. Откуда у нее столько храбрости? Или она действовала безрассудно лишь потому, что защищала свое счастье — жениха? И этот жених — я! Не уверен, что принесу ей счастье, о котором она мечтает.
А вообще о чем она мечтает?
Она показывала Бобу подвенечное платье! Неужели всерьез приняла мой треп? Сколько времени знает меня, должна была бы привыкнуть. А может, у нее на происходящее своя точка зрения? Женщины ведь воспринимают мир несколько отлично от мужчин, не рассудком, а сердцем.
Клер отрешенно наблюдала за моими поспешными сборами, благо собирать было почти нечего.
— Машинку оставлю у тебя, — сказал я, укладывая в футляр из-под «портативки», тетради, вынутые из тайника в прихожей.
— Угу! — отозвалась невнятно Клер, вертя в руках мою «достопримечательную» зажигалку. Она курила, привалившись спиной к стене.
— Вот и все! — сказал я, беря в руки портфель-чемодан, где лежали пара сорочек, пижама, тапочки, бритва и несколько блокнотов с десятком авторучек, шариковых ручек и карандашей.
Я чувствовал, что должен сказать что-то теплое, что-то нежное, чтобы снять напряженность и отчуждение Клер.
На момент вдруг захотелось послать все к чертям собачьим, утопить ее лицо в поцелуях, взять на руки и отнести в «свою комнату». Хватит куролесить по белу свету, пора швартоваться в тихой гавани, изведать счастье семейной идиллии, в конце концов, должен же и я стать когда-нибудь отцом, возить на шее крошек, утирать их кнопки-носы, целовать по утрам широко открывающиеся на мир любопытные глазенки. Чего бежать неизвестно куда, а в итоге по замкнутому кругу? Что я приобрел? Ничего! И возможно, именно сейчас теряю последнее.
— Сядем, дорогая, — сказал я. — У русских есть обычай посидеть молча перед дорогой.
Через минуту я поднялся — слабодушие прошло. В путь! Остановка — это застой, смерть. Ведь должен кто-то довести дело до конца, дать возможность заговорить тетрадям — мы все в ответе за то, что происходит кругом. Капли сливаются в ручейки, ручейки в могучие реки, реки рвутся в океаны, где бурлят огромные волны и разбрасывают как щепки военные корабли. У каждого свой долг! Я раб пера, преданный слуга информации.
— Я тебе посоветую, — сказал я, виновато улыбаясь, — смени служанку.
— Зачем?
— Какая-то она странная.
— Не нахожу. Она очень честная, приятная.
— А где она, ты ее отпустила?
— Ушла. А куда, не знаю. Я не шпионю за прислугой. Если не доверяешь прислуге, то зачем ее держать?
— Да... Я пошел?
— Иди!
— Клер... Я напишу. А сейчас мне надо уехать. Сама видишь. Извини за происшедшее.
— И это все?
— А что еще?
— Ты меня не поцелуешь?
— Я просто не решался.
Я обнял ее, она прильнула. От поцелуя у меня закружилась голова. И опять возникла мысль: «Брось все! Оставайся! Здесь твое счастье».
— Я приеду к тебе, где бы ты ни был, дорогой! — сказала она.
— Хорошо! Созвонимся. Буду звонить не я, а, скажем, тетя Мэри.
— Я люблю тебя!
— Клер... Не надо сейчас. Нельзя так шутить:
— Я не шучу!
Она оттолкнула меня. Глаза у нее были злыми.
— Ты все взял?
— Кажется, все... Отснятые кассеты Боба я тоже прихватил. Скажи ему, что ухожу через надежное «окно». Пусть он ходит по земле без опаски. Он и так слишком рисковал... Его даже ранили.
— А это?
Она держала у пояса зажигалку, так похожую на браунинг.
— Ни к чему она. Сожалею, что не стреляет. Сегодня бы я изменил правилу.
Клер ничего не ответила. Из дула зажигалки вдруг выпрыгнуло пламя, раздался звук выстрела и маленькая фарфоровая статуэтка японского геркулеса-асахима разлетелась вдребезги.
— Ты отлично стреляешь! — вырвалось у меня.
— Отлично!
— А где же зажигалка?
— Нет... Ее украл кто-то из полицейских.
— Так ты вошла с ним? — Я показал на браунинг. — И могла бы выстрелить?
— Возьми, — она улыбнулась грустно, — пригодится.
— Спасибо за подарок! Очень кстати.
И я попытался ее вновь поцеловать.
— Не надо! — отстранилась она. — Запомни, если понадобится, я приеду, где бы ты ни был.
На рассвете я пришел к отцу Тихону, не мог же я слоняться по притихшим улицам Макао, ждать, когда потухнут звезды, рассчитывая при этом скрыться незамеченным. Я долго колебался, прежде чем войти во двор. Окно одной из комнат коттеджа светилось, и это придало мне решимости. Я даже подумал, что хозяин дома ожидает меня, но оказалось, что у матушки Евдокии был острый приступ полиартрита. Терпению ее мог позавидовать любой мужчина — она приветливо улыбалась, разве только улыбка была какой-то вымученной. Не помогали ни грелки, ни массаж, от малейшего прикосновения возникала острая боль. Отец Тихон лечил ее пчелами. Брал осторожно медоносицу за крылья, подносил к оголенным лодыжкам, рассерженное насекомое жалило. И пчелиный яд, как ни странно, снимал боль. До двадцати укусов и более за сеанс.
Когда я пришел, мертвые насекомые лежали грудкой в красивой редкой раковине, достойной украшать любую коллекцию панцирей моллюсков. Отец Тихон читал жене невероятно потрепанную книжку на русском языке, больше половины текста переводя на «пиджин-руссиш», не менее запутанную тарабарщину, чем «пиджин-инглиш». Удивительно было не го, что он говорил «моя твоя не ходи», а то, что жена отлично его понимала, возможно, оттого, что «язык» мужа состоял в основном из ужимок, вздохов, закатывания глаз и звукоподражаний. В этом Тихон был великий мастер.
— А, беглец пожаловал! — отложил он в сторону книгу без обложки, отчего книга походила на стопку листов, распущенную веером. — Я знал, что непременно вернешься к утру. Деваться некуда?
— Вроде бы да, — сказал я.
Украдкой я посмотрел на титульный лист книги. «Идиот» Достоевского, прочитал я.
Кто бы, кроме русского, читал жене в пять утра эту книгу! Еще я подумал, что, если бы вдруг на Землю опустился межпланетный корабль с марсианами, следовало бы послать на установление контактов с инопланетянами Тихона — он бы, безусловно, нашел способ с ними объясниться. Вот только я не был уверен, смог ли бы он перевести им Достоевского, певца чисто земных страстей, понятных лишь жителям земли от Гималаев до Санкт-Петербурга.
— За тобой нет «хвоста»? — деловито осведомился хозяин дома. Преудивительный человек! Он даже не спрашивал, что происходит со мной, ведь его участие в моих мытарствах могло обернуться для него большими неприятностями.
— Нет, не «наследил», — ответил я.
— И то хлеб! Если найдешь нужным исповедоваться, — предложил отец Тихон, — то я приму исповедь. Она облегчит душу.
— Не нахожу нужным, — ответил я, рискуя оказаться за порогом.
— Занятно, занятно! — нисколько не обескураженный, пробасил он и уронил скамеечку. — У меня нюх хорошей ищейки. Что ж, идем, положу спать.
— Я не хочу спать.
— Хочешь не хочешь, ты поступаешь в мою семью. И пока я тебя не отпущу с богом, мои приказы выполнять без рассуждений. Попал бы ко мне служить в казачью сотню, когда я был молодым, а не старым попом, быстро бы к порядку приучил. Спать! Утро вечера мудренее. Ты еще молод, бессонница для тебя изнурительна. Суши портянки.
И он увел меня в заднюю комнату, выходящую окнами в проулок. Как ни странно, я сразу же заснул, крепко, без сновидений.
Разбудили меня часа через четыре. За окном припекало солнце.
Разбудил меня дьякон Михаил. Спросонья я его и не признал: в коротких штанишках, в рубашонке нараспашку и босиком.
— Вы похожи на кули в порту, — сказал я, надевая туфли.
— Ничего зазорного в этом нет, — ответил он слишком уже серьезно. С лица его почти не исчезало кислое выражение. — Вам тоже придется отказаться от европейского пиджака, он слишком заметен.
— На кули я все равно не буду похож, — возразил я. Он пропустил мою реплику мимо ушей, пригласил в столовую.
На столе домовито попыхивал самовар, стояла холодная свинина, лежали китайские пресные пампушки, приготовленные на пару. Завтракали без хозяйки — измученная ночным приступом, она заснула. Говорили шепотом.
Отец Тихон поминутно оборачивался на дверь спальни, прикладывал палец к губам:
— Тссс! Блюдце, что ли, треснуло? Нечистый попутал. Не беда, новое купим. Вечная у меня нескладуха получается. Что не ешь?
— Да по утрам... аппетита нет, — ответил я.
— Ешь. Когда придется обедать, неизвестно. У тебя паспорт есть?
— Безусловно. И разрешение на въезд. Я журналист...
— Зело болтлив! Паспорт, значит, имеется. И то хлеб! Нас он не интересует, не доставай. Это так, на всякий случай.
Неожиданно он протянул мне пачку американских долларов.
— Это что? — не понял я его жеста.
— Вспомоществование.
— Не понимаю. У меня есть...
— Бери на дорогу, — раздраженно сказал отец Тихон и испуганно обернулся на дверь, за которой спала жена. — Тише, господа! Дуню разбудим... Никто тебе милостыни не подаст. Эти пятьсот «бычков» на непредвиденные расходы. Бог знает что может произойти в пути. Деньги сиротские, из школьной казны взяли — Михаил у нас казначей. Не потребуются, возвернешь. Адрес известен. А потратишь, перешлешь должок по частям как сможешь.
— Право слово, не стоит...
— Хватит ломаться, — мрачно сказал Михаил. — Багаж не бери, доставят на место. Не ты первый, не ты последний.
— А куда вы хотите меня переправить?
— Здесь один вход и выход — море. Не переправлять же тебя на континент, — сказал отец Тихон. — Там ты попадешь к Кан Шэну[37], пропадешь, земляк, как пить дать. Должок не задерживай, по возможности и возверни. Я тебя провожать не буду. Дуняша проснется, ей уход требуется. Михаил проводит. Если что... Если совсем на мели окажешься, дай знать, что-нибудь придумаем. Все под богом ходим. Ни пуха ни пера. «Ала санклие буду ниани уруси тангри санкласен...» — прочитал какое-то заклинание отец Тихон. — Не понял? — спросил он, хитро прищурившись.
— Не понял, — ответил я.
— Это молитва Афанасия Никитина, жителя Россеи, города Твери. Запомни ее. Он ходил из Великого Новгорода за три моря в Индию, вроде нас с тобой, горемычных. Сказания его записали в Новгородских летописях. В конце сказания была молитва, написанная по-нашему, а слова басурманские, причудливые, не поймешь, на каком языке. Смешанный язык: «Твоя моя не понимай», вроде китайского: «Капитана, шибко шанго!» — и думает, что говорит по-русски. Причудливым языком изъяснялись купцы чужеземные в торгах. На восточных базарах. А смысл молитвы Афанасия очень великий. Слушай, что он говорил: «Да сохранит бог мир, да сохранит он русскую землю! Да устроится Россия, ибо нет в этом мире подобной ей земли». Ты русский рожденный, помни слова Афанасия, куда бы тебя судьбина ни забросила. Присядем и помолчим.
Так всегда поступала и моя матушка перед дальней дорогой. Даже отец, называя подобное языческим суеверием, подчинялся ее прихоти, тайно в душе веря в добрый знак.
— Ну с богом! — встал Тихон, постоял около стола, подошел и три раза поцеловал меня по-отечески.
Мы ехали на велосипедах, потом меня провели берегом, увешанным сетями, к лодке. Я лег на дно лодки, сверху набросали дерюжку из джута. Затем я поднялся по трапу на борт Ноева ковчега — ржавой калоши под панамским флагом.
Капитаном оказался старый грек по имени Микис. Прощание с дьяконом прошло сухо. Он произнес довольно замысловатую фразу:
— Странный вы народ, русские. Добрые, отзывчивые, но все куда-то бежите. Бежали на Дон, в Сибирь, затем из Сибири. Даже песню сложили «Бежал бродяга с Сахалина». Потом бежали из России, чтобы вновь с великими трудами возвращаться назад. А вы куда бежите?
— Кстати, как называется корабль? — перебил его я, не желая отвечать на вопрос.
— «Орфей».
— «Орфей» так «Орфей». А куда он идет?
— В Сингапур за каучуком.
— А поближе нельзя высадиться? Мне следовало бы в обратную сторону.
— Дареному коню в зубы не смотрят.
— Тоже правда. Между прочим, Сахалин — остров, а не Сибирь. И чтобы понять, почему с него бежали бродяги, нужно было побывать в их шкуре.
— Возможно, — согласился дьякон и, не прощаясь, спустился в лодку.
Капитан оглядел меня с ног до головы:
— Руссиш?
— Да, русский.
Он кивнул, я так понял, что он пригласил следовать за ним, и не ошибся в предположении. Мы пришли в капитанскую каюту. На столе стоял мой чемодан-портфель.
.— Будете спать здесь, — сказал, он по-английски и показал на диванчик. — Несколько коротковат для вас. Прошу!
Он налил два стакана рома. Выпили,
— Пока не появляйтесь на палубе, — сказал он и вышел.
Ушли мы из Макао без таможенного досмотра. Лишь капитан по старинному обычаю часа через два хода выбросил за борт фуражку.
Микис был стар, но держался молодцом, был выбрит до синеватого блеска, черный его сюртук был застегнут на все пуговицы. Полной противоположностью ему оказалась команда, в которой боцманом числился датский хиппи — нечесаный малый, все знание морского дела которого заключалось в умении петь под аккомпанемент гитары старинные французские баллады. Зато пил все подряд, при этом не пьянел, что весьма импонировало Микису.
Команду составляли тринадцать человек, чертова дюжина. Вышли мы в понедельник седьмого. Первое, что я сделал, когда выскочил утром на палубу, это научил двух матросов вязать элементарный морской узел, точнее не морской, а рыбацкий; они не умели даже этого.
— Хорошо, капитан! — сказал худенький матрос, улыбаясь от уха до уха тридцатью двумя зубами цвета слоновой кости. — Хорошо, капитан!
Он знал по-французски всего два слова, кстати, по-английски тоже. На каком языке он говорил, я не выяснил до конца плавания. Он готов был делать все, что ему приказывали, но делал все невпопад. Единственно, чему он научился за время рейса, — вязать рыбацкий узел, и то благодаря мне. И это до того его потрясло, что он стал сам себе говорить: «Хорошо, капитан!»
Любопытнее других членов команды был радист — он умел лишь нажимать на кнопки магнитофона, и делал это мастерски — круглые сутки на корабле вопили новоявленные «биттлы» вперемешку с траурным маршем Шопена в исполнении духового оркестра эскимосов Аляски, — кажется, их этому научили американские летчики с военной базы.
Восемь человек команды из тринадцати стояли на помпах, которые по странной случайности не выходили из строя и перекачивали воду «из моря в море». С таким же успехом их можно было спустить на канате прямо на дно, была бы хоть какая-нибудь польза, они бы способствовали образованию теплых течений в Мировом океане.
Казалось, что на «лайнере» не было нижней обшивки, и если мы сразу не пустили пузыри, так только благодаря механику, творившему чудеса с дизелями. В механиках ходил нелюдимый мужчина лет сорока, глухой как монастырский погреб: слышать ему не требовалось — в машинном отделении голос гас из-за скрежета металла.
На мостике делать было нечего, тем более на палубе, поэтому я вернулся в каюту, достал из портфеля-чемодана тетради Ке, занялся ими: я перечитал до конца, теперь времени было предостаточно, никто не мешал.
Тетрадь
Праздник весны древний как сам Китай. Я помню, как праздновали его в Шанхае. Для нас, мальчишек, он был радостным событием, вторым рождеством (его отмечал отец) или Новым годом (его отмечала матушка). Вместо елки она ставила в фарфоровую старинную вазу вереск с гор, его продавали китайцы, Дедом-Морозом служила кукла с наклеенной ватной бородой.
Праздник весны отмечался целую неделю. Даже самые бедные- китайцы в эти дня позволяли себе роскошь есть рис. Деньги на праздник они копили целый год. Обязательно раздавались долги. В ночь новолуния на улицах слышался беспрерывный грохот — рвались петарды, хлопушки — отгоняли злых духов. Я особенно любил маленькие черненькие хлопушки величиной со спичку. Взрывались они с превеликим шумом. На улицах гремели барабаны, шел карнавал. «Драконы» летели за «солнцем», хотели его проглотить. Шли ряженые. Родственники и знакомые наносили друг другу визиты.
Теперь в континентальном Китае этот праздник официально не отмечается, но ханьцы (китайцы) все же празднуют его: в Гонконге широко, как в старину, дома немного скромнее. Да пребудет с вами благополучие!
В эти дни китайцам дается отпуск: все равно работать не будут.
Последняя тетрадь Пройдохи
На этом записи окончились. Что было дальше, я знал: его убили, когда он передал мне тетради. К сожалению, его опасения оправдались — дочка Фу вывела «тайную полицию» мадам Вонг на вьетнамского парня, и те свершили «правосудие».
Тонуть мы начали на второй день после обеда. Радист уронил бобину от магнитофона с записью джазовой музыки в незадраенный трюм. Он полез за бобиной и сорвался с трапа. Мы стояли с капитаном на мостике. Он смотрел вдаль, я тоже. Возможно, он что-то и видел за бескрайним горизонтом, я ничего не видел. Был полнейший штиль, от жары даже вода казалась расплавленной. Волны поднимали наше корыто, точно вокруг нас, как дельфины, резвилось не меньше сотни морских буксиров.
— А в Арктике бывали? — спросил капитан Микис и, так как я ответил отрицательно, он больше не стал задавать мне вопросов, сам начал рассказывать:
— Ходил я на норвежском спасателе. От флибустьеров мы отличались тем, что никого не топили. Помню, ураган, шквал, буря, добавьте к этому косой дождь наполовину со снегом, норд-норд-ост, лед на снастях и мою зубную боль, тогда картина станет для вас ясной. Правда, команда состояла из моряков, а не из этих телят, которых я сейчас транспортирую в Сингапур. И в том и в другом есть свои минусы. Если телята с трудом отличают линь от киля, то «волки» знают слишком много, и каждый норовит дать совет. Идем. Где-то рядом тонет «швед». Ищем. Находим. Заходим с правого борта и вступаем в переговоры. «Что везете? Стоимость фрахта?» — и другие вопросы... В общем, сколько мы будем с этого иметь. Не торопимся, потому что чем больше они наглотаются воды, тем больше мы с них сдерем. А «швед» ведет себя как-то странно — тонет, но платить настоящую цену отказывается, точно ледяные ванны для них приятны, как для толстокожих тюленей. Мои «волки» набились к рулевому, как сардины в бочку, курят трубки и советуют отойти, точно я сам не знаю, как грабить на большой дороге. Несколько раз мы отходили, подходили, проклятый «швед» зачерпнул левым бортом, но молчит, как медуза. И когда уже...
Он не успел досказать историю, потому что появился худощавый матрос и произнес единственную фразу, которую он знал по-французски:
— Хорошо, капитан!
Но даже я догадался, что ему совсем не хорошо, а очень плохо.
— Что он сказал, переведи, — приказал капитан рулевому.
Рулевой посмотрел на матроса и перевел:
— Он говорит, что человек упал в трюм.
Перевод оказался удивительно точным — радист, упав в трюм, не сломал себе шею лишь потому, что попал в воду, которой в трюме было как в хорошем бассейне, и плавал там, как мышь в бочке с пивом, при этом умудряясь орать так, что заглушал шум дизелей и рев медных труб эскимосов с Аляски, самозабвенно исполнявших траурный марш Шопена.
— Вот точно так же тонул «швед», — глядя сверху вниз, глубокомысленно изрек капитан. — И знаете, его спасли. Мимо шли советские моряки... Они нам спутали все карты — заарканили «шведа» и увели в порт, даже не договорившись о цене. Вира!
Это уже относилось к матросам, которые сбросили в трюм спасательный круг, привязанный к нейлоновому шнуру. Но команда капитана осталась непонятой, и матросы ждали чего-то, по всей вероятности, перевода.
— Эй, парень! — подозвал капитан худощавого матроса. — Скажи им, чтобы они поднимали «шведа», тьфу, радиста наверх!
— Хорошо, капитан! — ответил матрос, потом крикнул: — Хорошо, капитан!
И радист оказался на палубе.
На его груди, как в старинном Евангелии, была вытатуирована гробовая истина: «Все там будем», но, видно, туда, где рано или поздно мы все соберемся, ему попасть первым расхотелось, ибо он заорал еще громче, чем в трюме:
— Спасайтесь! Мы тонем!
Перевода не потребовалось... Самым занятным оказалось то, что мы не могли дать SOS — радист разбирался в аппаратуре не больше, чем бедуин в теории относительности.
— Торопиться некуда, — сказал капитан. — Пусть побегают...
— Они садятся в лодки, — сказал я, испытывая невероятное желание присоединиться к команде.
— Пусть садятся, — ответил капитан. — Для того чтобы покинуть судно, нужно прежде спустить шлюпки на воду, а этого они делать не умеют.
— Не понимаю, — взорвался я, — зачем же вы набрали такую команду?
— Деньги платит хозяин корабля, — сказал Микис, — а подонки стоят намного дешевле, чем настоящие моряки.
— А вы-то куда глядели? Зачем согласились?
— У меня свои расчеты, — ответил капитан. Он вздохнул, посмотрел куда-то вдаль, потом продолжал: — Видите, обормоты вылезают из спасательных шлюпок. Сейчас они прибегут сюда... Идите в каюту, ни о чем не беспокойтесь, мне необходимо с ними побеседовать как отцу с блудными сыновьями.
К сожалению, я не послушался доброго совета капитана и поторопился — пошел в радиорубку. Наступили три минуты молчания. Я включил передатчик, взялся за телеграфный ключ. Слава богу, сигналы самые простые. Место нашего нахождения я установил на капитанском мостике.
Авианосец жил механической жизнью, это был чудовищный автомат, начиненный тысячами баррелей нефти, мазута и горами взрывчатки. Возможно, где-то в его стальном брюхе спали атомные головки, способные поднять океан на воздух. Плавучий плацдарм. В воздух через минутные интервалы взлетали «ангелы смерти», оставляя за собой дорожку дыма, с ревом набирали высоту и маленькими безобидными чайками уходили в сторону берега, во Вьетнам, Лаос и Камбоджу, чтобы сеять уничтожение, страдание, ненависть.
С кормы взметнулась в небо красная ракета. Огромная, как два футбольных поля, палуба, покрытая каучуком, чтобы усиливать амортизацию и сокращать пробег самолета при посадке, опустела. Низко, почти касаясь гребня волн, шел самолет, видно, выбиваясь из последних сил. Вот он упал на палубу. Резиновые тросы, как мальчишеские рогатки, затормозили его бег. Он был подбит и, как птица, царапал крылом палубу. Крыло отвалилось, и только чудом самолет не скапотировал. Он застыл на самом краю полосы, если можно так назвать палубу. Самолет горел... И откуда-то из щелей муравьями посыпались люди. Забили фонтаны пены огнетушителей, люди облепили самолет, вытащили летчика. И вот уже аварийный кран зацепил как муху машину и сбросил за борт. И через несколько секунд за кормой, как глубинная бомба, рвануло... Все. «Ангел смерти» посеял смерть и пожал смерть. И за океан другой самолет повезет оцинкованный гроб, его выгрузят на аэродроме в Вашингтоне, накроют звездно-полосатым флагом, точно таким же, какой развевался над авианосцем.
Джунгли не сдавались, джунгли мстили, отстреливались, сбивали ненавистных пришельцев, джунгли были неукротимыми, свободными, они бились за себя, за свое право цвести под солнцем, единым на весь земной шар,
В суматохе про меня забыли. Я стоял, прижавшись к какой-то стойке, подавленный увиденным, чувствуя себя инородным телом в страшном механизме антижизни, и чувствовал, как во мне растет протест и ненависть к этим ребятам, что без суеты, невероятно деловито, как в самой страшной сказке Гофмана, творили что-то черное и загадочное.
Кто они, эти парни, одетые в робу? Неужели у них не было детства, человеческих радостей, любви, матерей, или они никогда не забирались под куст сирени, не ловили на удочки рыб, не слышали, как старый негр играет на банджо? Кто они и зачем они здесь, зачем превратились в бездумных автоматов? Чью страшную роль исполняют, потеряв черты индивидуальности, став на одно лицо как арестанты или детективы в штатском? Их заколдовали в отвратительных гномиков.
Трое отошли в сторону, достали сигареты: Их лица были потными, руки тряслись. Нет, они чувствовали боль, усталость, страх... И пожалуй, больше ничего.
Меня взяли за локоть, повели к трапу, я спустился внутрь стального чудовища, точно под землю. Все звуки угасли, только слышались по стальным коридорам удары подковок на бутсах — меня вели переходами, потом втолкнули в стальную комнату, где стояли привинченный к полу стол и два табурета. Под потолком светился матовый плафон под толстой стальной сеткой.
Я остался один. Сел. Закурил. Было тихо, как в клубе на Сент-Джеймс.
Меня сняли с каучуковоза. Одного. Капитан отказался от помощи — да военный корабль под флагом США и не собирался спасать ржавое корыто — они примчались лишь за мной. Я это моментально понял. Схватил мешочек с кассетами от фотоаппарата Боба, пробрался в радиорубку, спрятал в стол радиста. Чертов боцман! Лучше бы он пел старинные французские баллады и пил виски, чем проявлял услужливость. Когда я спускался по трапу, он, вопя как зарезанный, пропрыгал по палубе, размахивая над головой мешочком с кассетами:
— Сэр, вы забыли свой багаж!
«Услужливый дурак опаснее врага». Поистине так. Он улыбался, точно первый раз в жизни сделал доброе дело.
Капитан пожал мне руку и неожиданно почему-то подмигнул. Кажется, он понял, что я влип. Наверняка. Морской волк делал вид, что удивлен присутствием на, борту пассажира. Но его игра была шита, белыми нитками — они точно знали, что на каучуковозе находится тот, кто им требуется. Каким образом они об этом узнали? В порт с дьяконом Михаилом пришли вдвоем, без «хвоста». Неужели отец Тихон? Нет! Такого быть не может. Но кто же?
 |
Открылась дверь. Вошел человек. Небольшого роста, с блестящим черепом, с янтарными глазами... Портрет, описанный Пройдохой Ке. Он был в форме полковника армии США. Ого! Вот, оказывается, кто отправлял контрабандное золото с острова, захваченного китайскими националистами, потом присутствовал на совещании в Макао... Птица большого полета. Политик и бизнесмен, разведчик и контрабандист. Слишком характерная личность для чина американской армии.
— Вы меня знаете, — сказал он с порога и сел на свободный табурет. — Нам нет смысла играть втемную. Вы не испытываете ко мне симпатии, она мне и не требуется.
— Кто вы такой?
— Зовите меня Самуэлем. Задали вы нам работы. Чтобы взять фотокопии... Мы их изъяли.
— На каком основании?
— Для нас это слишком гремучий материал. Тем более они принадлежат вашему другу, радиокорреспонденту. Не так ли? Вы их похитили.
Он говорил со мной точно классный наставник, монотонно и поучительно. Так выговаривают ученику, прежде чем высечь его розгами.
— Единственное ваше оправдание — вы не знали, за какое дело взялись. Это ваш бизнес, материал стоит много. Но, кроме газетного бизнеса, существуют и государственные интересы. Вы английский подданный, Великобритания наша союзница, и вы должны помнить всегда, что, нанося вред Соединенным Штатам, вы наносите вред и своей стране. Мы делаем общее дело. Боремся на переднем крае с мировым коммунизмом. Я повторю вам слова аболициониста Гаррисона: «Я не прибегну к экивокам. Я не буду извиняться. Я не уступлю ни дюйма». Вы поняли меня?
— Понял, но вы не кончили цитаты: «Меня услышат».
— Как раз по поводу последней фразы... Я сделаю все, чтобы ни вас, ни меня не услышали. Мы вам заплатим. Кое-что из того материала, который мы изъяли у вас, представляет интерес. Расходы будут оплачены. Но... — он посмотрел янтарными глазами как кошка на мышь и облизнулся, — ...при одном условии. Вашего слова будет достаточно. Мы знаем вашу щепетильность, и вполне хватит вашего слова джентльмена. Вы должны молчать.
— Хотите, я вам расскажу анекдот? — спросил я,
— Пожалуйста. Времени, — он обвел стены взглядом, — больше чем достаточно.
— Один житель Чикаго поехал туристом на Британские острова. Через месяц вернулся миллионером. Причем, учтите, у него оказалось несколько миллионов фунтов, а не долларов.
— До девальвации или после? — ехидно осведомился человек с янтарными глазами, назвавший себя Самуэлем.
— После того, как банки Европы отказались принимать доллары.
— Понял. Продолжайте...
— Он привез целый чемодан наличными фунтов стерлингов. «Откуда у тебя столько денег?» — удивилась жена. «Понимаешь, — ответил ей новоиспеченный миллионер, — меня пригласили в английский клуб. Спросили, играю ли я в карты. «О'кэй!» — ответил я. «А в какую игру?» — «В очко», — ответил я. Есть такая игра.
— Знаю, я бывал в портах.
— И вот джентльмен говорит: «У меня двадцать одно». Я ему, — рассказывает житель Чикаго, — покажи! Партнер оскорбился: «Сэр, настоящему джентльмену верят на слово». И как поперла мне карта, как поперла!
— Забавная история, — рассмеялся человек с янтарными глазами. — «Поперла»! Вот молодец! Узнаю хватку Чикаго. А он случайно был не итальянец?
— Нет, стопроцентный...
— Янки... Молодец. Вам, англичанам, далеко до него. Вас погубили мертвые традиции. И высокомерие. Да, да... И если вы затронули эту сторону, бросьте пыжиться. Я понимаю, что вам оскорбительно при жизни поколения превратиться из перворазрядной державы в третьеразрядную. Последним англичанином был Черчилль. Да, да! С ним умерло величие Великобритании. Так что перестаньте плевать вслед промчавшемуся экипажу. И вы должны молчать. Забыть, что прочли в дневниках. Да у вас к тому же нет даже копий дневников. Оригиналы и фотокопия у нас. Все! Хватит нам трепачей в собственных газетах, которые выдают государственные тайны. С вами проще. Это не угроза, а постфактум. Даете вы слово молчать или нет?
— А если я поведу себя как тот житель Чикаго?
— Вы родились в Шанхае.
Я замолчал. Отключился. Я не слышал, что говорил человек в форме полковника, я думал о том, что, оказывается, я живу как на ладони. Они знают все. Но откуда?
— Это тюрьма? — спросил я.
— Гауптвахта.
— Я арестован?
Он пожал плечами.
— Насилие! Пиратство... Это беззаконно!
— Вы сами поставили себя вне закона...
— Вернее, беззакония. Вы меня снимаете с корабля, не имея на это никакого права, — я был на посудине под флагом третьего государства, то есть вы меня арестовали на территории, не принадлежащей Штатам, тем более в открытом море, где действует экстерриториальность. Вас надо судить за пиратство и повесить на рее, как это делали в старое доброе время.
— Не собираюсь вступать с вами в юридический спор, — сказал янтарноглазый офицер. — Подумайте. Надеюсь, вас убедит в моей правоте ваш друг.
Он встал, лязгнули запоры. Я остался один. Да, здесь даже лампочка под потолком была на запоре. Пройдоха Ке читал стихи, чтобы воспрянуть духом. А почему бы и мне не воспользоваться его рецептом? На ум пришли «Стихи семи шагов» древнего китайского поэта Цао Чжи.
Как-то его вызвал во дворец император. Прежде чем поэту преподнести шелковый шнур на подушечке, что означало лишь одно — поэт должен удавиться, император задал задачку: сочинить экспромтом стих на заданную тему. Тема — о братьях, но слово «братья» не должно упоминаться. Экспромт выдать через семь шагов.
Император Цао Пэй простил поэта Цао Чжи. Простил? Но поэт ни в чем не был виноват.
Офицер упомянул про друга... Что это за ботва, которая торопится сварить бобы?
Вновь открылась дверь. Вошел другой офицер в форме капитана. Одна рука у него была на перевязи.
Это был действительно мой друг — Боб! Ему чертовски шла военная форма.
Он что-то говорил и говорил. Но я не слушал. Все-таки я умел отключаться, и это было спасением, иначе бы я должен был размозжить ему голову. Боль... Пытки изобрели для того, чтобы через плоть сломать сознание. Мое сознание ломали по «прямому проводу», без «посредника».
— В конце концов, в интересах твоих и твоей невесты... — осмыслил я слова моего «друга».
— Хватит ерунду молоть... — не выдержал я. — Ты хоть Клер не трогай. Пользовался ее гостеприимством...
— Я искренне желаю ей счастья, она замечательная женщина. Помнишь, как она пришла к нам на выручку?
Я от его наглости на самом деле чуть не отключился.
— Кому нам? — сказал я, и это было ошибкой, надо было молчать, не слушать его речей. — Мне! Ты же был с бандитами заодно.
— И они чудом меня не убили! — обиделся Боб. (Он еще и обижался.) — Ты здоров, а руку продырявили мне. И все из-за твоего легкомыслия.
— А потом ты меня предал и меня же арестовал. А Комацу выпустили?
— Нет, он здесь, им интересуются высшие инстанции. Благодаря тебе мы вышли на него.
— Ладно, что тебе нужно?
— Ты возмущен, что я разведчик? Мне пришлось доложить о тебе — ты увез негативы. Тебе совершенно не нужен этот материал.
— Это мое дело.
— Твое... А мое? Сделать все возможное, чтобы материал ушел в песок? Соглашайся молчать, ты получишь гонорар, а то вообще ничего не получишь — у тебя нет оригиналов, остальное — плоды изощренной фантазии. Я все сделаю, чтобы помочь тебе. Ты влез в большую политику. И дело не в наркотиках или контрабандном золоте — это мелочи. Игра идет намного крупнее — на миллиарды. Здесь точка опоры экономики.
— Что же это?
— Нефть!
— Что?!
— Нефть, тебе говорят. Она лежит под водой от Камчатки до Камбоджи.
Возможно, я был похож на лусиневского дурака тем, что хотел громче всех прокричать: «Негодяй!» Что бы изменилось, если бы я сумел вынести сенсационный материал из логова пиратов? Издатель бы нашелся. Есть в моей профессии что-то, что заставляет идти на костер. Я не строю иллюзий о всемогуществе «свободной печати». И все же в мире живут и действуют множество людей, готовых отдать жизни за идеалы. Что движет ими, что заставляет избирать тернистый путь борьбы?
Я уверен, что если свести все подсознательные мотивы поступков, совершаемых человеком, к одному биту, к кирпичикам «да» и «нет», то выкристаллизуются два инстинкта — «самосохранение» и «продление рода». Первый порождает предателей, палачей. Второй же — «продление рода» — материнскую любовь, самопожертвование.
Инстинкт «самосохранения» у меня был явно притуплен... Иначе бы я не сидел в чреве авианосца и не слушал вкрадчивых речей бывшего друга. Что может быть нелепее и горше, чем бывший друг?
— Теперь даже Моцарт и Бах исполняются в ускоренном темпе, — дошли до сознания его слова, — исполнители подсознательно заставили Моцарта звучать быстрее.
— Ты про что? — не понял я.
Капитан Боб замолчал, задумчиво посмотрел на меня: он понял, что я не слушал его «идеологической обработки».
— Лорд Берди[39] из тебя не получится, — сказал он, вздохнул, точно подписал смертный приговор, и вышел.
— Все мы дети материка, только расселяемся по разным островам! — крикнул я вслед, но он не слушал меня, как несколько минут назад я не слушал его.
— Стой! — заорал я.
Он вернулся.
— У тебя есть мать? Ты любил кого-нибудь? Когда-нибудь любил?
Он пожал плечами и закрыл толстую дверь, похожую на дверь стационарного холодильника.
Финал был неожиданным, как и все финалы, — иначе и не могло быть: о нем побеспокоилось слишком много людей. Непоколебимого слова джентльмена не потребовалось, меня буквально выкинули с авианосца: американцам бессмысленно было тратить хотя бы цент — дневник Пройдохи Ке, точнее, выдержки из дневника появились в печати нескольких стран.
Это было полной неожиданностью для янки, тем более для меня.
...Я не верю в спиритизм, магнетизм и прочую ерунду, в нее верят те, кто хочет верить. Но тем не менее происшедшее было чистой воды фантастикой. Сплошная чертовщина. Как дневник Ке уплыл из Макао? Может быть, у Ке был второй экземпляр?
Американцы ссадили меня на Филиппинах, в Большой Маниле, выбросили буквально пинком под зад.
Спасибо Тихону и Михаилу. Их деньги оказались кстати. Я остановился в небольшой, но опрятной гостинице «Сан-Франциско». Когда зажигались неоновые огни на Авенида Рисаль, я возвращался в гостиницу, поднимался по лестнице в номер на третьем этаже и почему-то всегда вспоминал, что в Сан-Франциско есть гостиница с противоположным названием — «Манила». Все вечера я отсиживался в номере.
Филиппинцы существенно отличались от жителей того же Макао или вселенского вертепа Гонконга. Филиппинцы — самый вспыльчивый и обидчивый народ на свете — смесь из гордости баска и горячности сицилийца, и то, что каждый из них имеет при себе джагу[40], говорит о многом.
Приближались президентские выборы[41]. А здесь подобные события сопровождаются кровавыми стычками между «крысами» и «барракудами». Причиной этому служило своевластие местных «лордов» и рабское бесправие прочего населения. Хотя бы такая деталь: здешний «лорд» непременно содержит при себе банду головорезов, которым полоснуть человека по горлу боло[42] что чихнуть.
Здесь вообще при малейшей причине пускается в ход оружие — в тавернах и при сборе податей, особенно, как я сказал, во время «демократических выборов». Страсти политической борьбы настолько накалены, что зачастую один землевладелец посылает своих молодчиков во владения другого землевладельца, противника по политической группировке, а те режут всех подряд, включая женщин и детей. После подобной «идеологической обработки» население призывают на избирательные пункты, и не вина другого кандидата в парламент, что зачастую его избирателей не оказывается в живых.
Уильям Помрой, мой коллега американец, воевавший в партизанском отряде хуков[43], женатый на филиппинке и просидевший после подавления освободительного движения бесконечных несколько лет в здешних застенках, так объясняет подобные особенности политической активности «лордов» и пассивности простолюдинов:
«Филиппинцы испытывают на себе чужеземное господство и феодальный гнет так долго, что смирились с этим. «Бахалана», — говорят они. — «Пусть будет воля господня».
Кто из людей, живущих в условиях свободы, в состоянии понять образ мышления жителей колонии!
Когда народ живет целых четыреста лет под пятой надменных испанцев и еще пятьдесят лет под гнетом нагло кичащихся своим превосходством американцев, это неизбежно налагает отпечаток на его характер. Существует теория, по которой нужда приводит к мятежу, однако это верно чаще всего в тех случаях, когда нужда вызвана потерей того, что человек имел когда-то. Но когда целых четыреста пятьдесят лет народ знал лишь нужду, это подавляет его силы, определяет весь уклад его жизни. Тех немногих, которые восстают, безжалостно убивают.
В общем, я приехал в страну весьма оригинальную, внешне флегматичную, но довольно бурную изнутри.
Влипнуть в новую историю мне почему-то не хотелось: пережитое в Макао оказалось слишком крепким «настоем из экзотических трав» для моего желудка.
Кое-какой капитал имеется, спасибо отцу, рассудительному коммерсанту. В газету я не вернусь. Пусть Павиан покусает локти. Это и будет моя месть. Я ничего ему не сообщу. Скроюсь, и все! Куплю ранчо в Австралии, поближе к русскому землячеству, буду разводить овец и наслаждаться размеренной жизнью фермера.
Я включил вентилятор, но это мало помогало. Жара была страшная. И это в начале лета! Что будет в июле, августе?
Я изнывал от скуки... Сизиф был счастливчиком, когда боги на суде Линча приговорили его к труду, не имеющему конца! Это было движение. Сердце-то у него было здоровым, иначе он, таская на плечах огромный камень, надорвался бы. Конечно, печально, что труд его был бессмысленным... Но кто из нас уверен, что его деятельность имеет смысл? Не придумываем ли мы легенд? Страшнее всего ничегонеделание.
Из вариантов «Как убить время?» самый сложный — вечерний. Днем можно высунуться в окно и наблюдать улицу или съездить в один из девяти городов-спутников Манилы, чтоб затем написать воспоминания туриста. Досуг... Черт бы его побрал! Проблема, над которой веками бились лучшие умы человечества.
Один мой знакомый утверждал, что именно досуг создал Человека.
— Наш предок, — рассуждал он, — имея свободное время, сообразил взять острый камень и привязать его лианой к древку. Правда, после этого погибли все мамонты.
Возможно, мой знакомый был прав.
Неожиданно раздался телефонный звонок. Я чуть не вывалился из кресла. Кто бы это мог быть? Неужели Павиан разыскал?
— Арт, дорогой, ты жив?
Поистине мир полон неожиданностей!
— Клер! — завопил я в трубку, как в открытое окно, когда надо кого-нибудь позвать с улицы. — Я безумно рад слышать твой нежный голосок. Как ты там поживаешь? Я только что хотел заказать разговор с тобой.
— Очень приятно слышать, — донесся насмешливый голос моего друга. — Но телефонный кабель не выдержал бы, поэтому я позвонила сама. У меня все в порядке: я ликвидировала дело.
— Что, какое дело? — Мне стало зябко, я выдернул шнур вентилятора из розетки.
— Я продала «Салон мод».
— Прости, а зачем ты это сделала? Как же ты будешь жить в Макао?
— Я и не собираюсь жить здесь.
— А где же?
— Там, где будешь ты. Теперь мы уже больше никогда не будем расставаться. Долг жены быть всегда рядом с мужем.
— Со мной, что ли?
— Ты разве раздумал?
— Ах да... Понимаешь...
— Понимаю, дорогой. Встречай завтра первым самолетом из Гонконга. Целую тебя! До встречи!
Разговор прервался. Я долго держал трубку в руках, не зная, радоваться или рыдать от огорчения.
Первый воздушный лайнер из Гонконга прилетал в Манилу утром, в половине одиннадцатого.
Я купил цветы, сел в такси и в девять был на аэродроме. Конечно, здесь на взлетных полосах хозяйничали военнослужащие ВВС США. Без конца садились и взлетали грузовые самолеты, гражданские пассажиры ютились в левом крыле аэровокзала.
Как встречают невесту? Господи, невесту! От одной мысли у меня становилось горько во рту. «Сколько веревочке ни виться, а конец будет», — любила говорить моя матушка. Допрыгался! Может, Клер шутит?
А собственно, почему? Клер будет чудесной женой. И другом. В конце концов, надо же когда-нибудь угомониться.
Объявили посадку самолета из Гонконга. Я пошел к выходу с летного поля, встал у парапета. Клер я заметил еще издали. Она шла налегке, лишь с сумочкой. Последнее меня несколько обескуражило: двух бродяг, кочующих по странам и континентам со «свертком под мышкой», для солидной семьи маловато.
Она бросилась ко мне, привстала на цыпочки, мы поцеловались. Естественно, на нас никто не обратил внимания — обычная сцена в аэропортах.
— Дорогая... — я не знал, о чем говорить. — Я купил тебе подарок.
Я достал из кармана пиджака старинное платиновое кольцо с бирюзой византийской работы.
— Тебе нравится?
— Какая прелесть! Спасибо!
Мы еще раз поцеловались. «А она само очарование», — подумал я. На душе стало блаженно.
— Обручальные кольца купил?
— Нет, — сказал я, — Мы принадлежим к разным вероисповеданиям: ты католичка, я православный. Но как-нибудь утрясем.
— Конечно, дорогой, я так волновалась, что сделала необдуманную покупку.
Она вынула коробочку. В ней лежали золотые кольца: мужское и женское.
Моя невеста Клер происходила из старинного рода фидальго и не была рабой вещей, скорее наоборот. Она не была подвержена приступам «сайт-синга» — созерцания видов; ее стиль — предельная простота, как у японцев — видеть прекрасное в малом. Это от характера — она срезала углы к цели в отличие от меня.
— Ты доволен?
— Не меньше, чем ты.
— Где я буду жить?
— У меня в номере.
Мило болтая, мы вышли из аэровокзала.
— После твоего ночного бегства, — щебетала Клер, — я осталась одна в доме. Ты оказался прав — служанка исчезла. Больше она не появлялась. Я подумала вначале, что она из шайки этих мерзавцев, что напали на нас, но ничего не пропало. Она даже не взяла расчета. В полицию я не стала сообщать, потому что она оставила записку: «Извините! Прощайте!» Очень странная девушка. Боб пришел вечером. Ох и рассердился на тебя, что ты скрылся без него! Говорил, что ты идеалист, мальчишка, что «выбил сам у себя стул из-под ног».
— Прошу, никогда не напоминай о нем больше! — сказал я. Кажется, я начал понимать, каким образом дневник Пройдохи Ке оказался в печати левых.
— Почему не напоминать о нем? — не поняла Клер.
— Он плохой человек! Это из-за него я очутился здесь.
— Ты не напутал, дорогой? Он очень порядочный человек. Он был у меня второй раз на прошлой неделе.
— Даже так!
— Да, это он сказал твой адрес. Просил передать привет.
— Не говори о нем!
— Хорошо, хорошо, дорогой, не буду, только...
— Значит, служанка исчезла в тот злосчастный вечер?
— Да. Но она явно преступница, ее все-таки искала полиция. Приходили ко мне, просили хотя бы фотографию. Лично я никаких претензий к ней не имею.
— Когда ею заинтересовалась полиция?
— Перед самым приездом твоего Боба. Ой, не буду, не буду о нем говорить, раз ты не хочешь. Ты слушаешь меня?
Теперь все знаки препинания расставились в тексте: я знал, каким образом тетради Пройдохи оказались в газетах. Я вспомнил шорохи у двери, настороженные взгляды служанки... Перед тем как уйти из кухни, я бросил в камин третий экземпляр рукописи. Чтобы сгореть кипе бумаги, требуется время и кочерга. Но эта кипа не сгорела.
Служанка... Я даже не знал ее имени. Она шла к цели более коротким путем, чем я, и, что самое главное, бескорыстно.
Слугой был я! Она была хозяйкой.
Мне осталось снять шляпу и склонить голову перед ее мужеством.
— Ты куда? — заволновалась Клер.
— Тут есть переговорный пункт, — ответил я, стараясь ее не тревожить. — Надо позвонить в газету. Редактор, наверное, проклял меня. Работа есть работа, дорогая!
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |