"Тайны выцветших строк" - читать интересную книгу автора (Пересветов Роман Тимофеевич)
АРХИВ СЕЧИ ЗАПОРОЖСКОЙ
Еще раньше чем студент Харьковского университета Дмитрий Эварницкий приступил к сбору материала для своей диссертации о Запорожской Сечи и исходил вдоль и поперек напоминавшие о ней места, заинтересовался ее прошлым молодой одесский чиновник Аполлон Скальковский.
Поступив по окончании Московского университета на службу в канцелярию новороссийского генерал-губернатора князя М. С. Воронцова, Скальковский по поручению своего начальника принялся изучать историю и археологию сравнительно недавно вошедшего в состав России молодого края.
С этой целью он прежде всего объехал его важнейшие города и районы и обследовал все местные архивы. Побывал проездом и в особенно интересовавшем его районе бывшей Запорожской Сечи.
 |
В фамильных архивах людей, игравших известную роль в истории казачества, ему удалось раздобыть кое-какие любопытные документы, касавшиеся отдельных событий истории Сечи и некоторых выдающихся её деятелей. Эти разрозненные обрывки исторических сведений не давали достаточного представления о том, чем на самом деле была Сечь, Однако по характеру обнаруженных документов можно было предположить, что они хранились раньше в какой-нибудь канцелярии или в сечевом архиве.
И вот однажды, когда Скальковский потерял всякую надежду собрать сколько-нибудь полные сведения о запорожцах, он неожиданно узнал о судьбе исчезнувшего хранилища. Екатеринославский уездный судья Куценко уведомил генерал-губернатора Воронцова, что канцелярист Спичак нашел в архиве большое собрание запорожских документов.
В груде полуистлевших и частью изорванных бумаг, сваленных в одном ветхом сарае, Спичак обнаружил документы и акты последнего Запорожского Коша.
«Половина этих документов, — вспоминал потом Скальковский, — превратилась в какую-то грязную массу. В ней было неприятно рыться. Многие связки были без начала и без конца, изорваны или съедены червями, другие после высушивания на солнце превращались в пыль».
Копаясь в течение четырех лет в этом ворохе грязной бумаги, исследователь все же сумел отобрать и восстановить ценнейшие исторические документы, относившиеся не только к последним годам существования Запорожской Сечи, но и к более раннему времени. Эти документы, сохранившиеся главным образом в копиях, давали возможность почти полностью восстановить историю Запорожской Сечи в ее главных чертах.
Каким же образом попал последний архив сечевой канцелярии в этот сарай?
Вероятно, в 1775 году, по причине разорения Екатериной II последней Сечи, все запорожские войсковые дела были изъяты без описи и счета и отданы на хранение коменданту Новосеченского ретраншемента, вскоре затем упраздненного. Комендант переправил эти дела в крепость св. Елизаветы. В 1784 году крепость была срыта. Архив Коша перевезли после этого в Екатеринославский уездный суд, где он, очевидно, и затерялся под кипами новых дел.
Во время всех этих переездов значительная часть сечевого архива, по мнению Скальковского, «истребилась от невежества сберегателей». Уцелевшие остатки, вероятно, тоже погибли бы, если бы не были отправлены в Одессу, так как ветхий сарай, в котором они были обнаружены, вскоре после этого сгорел.
«…Я усердно занялся этими уродливыми и почти истлевшими обрывками и после четырехлетнего труда, наконец, удалось мне их собрать, совокупить хронологически в некоторые отделы, сшить и сделать из этого ветхого сборничка довольно значительный архив, который смело назовем архивом Сечи Запорожской», — так докладывал Скальковский своему начальнику князю Воронцову.
Приведя в порядок присланные из Екатеринослава документы и разобравшись в их содержании, Скальковский написал книгу, названную им «Историей последнего Коша Запорожского». Это был далеко не совершенный и не беспристрастный труд. Чиновник генерал-губернаторской канцелярии, сын помещика и сам помещик, Скальковский использовал в этой работе только часть найденных документов и представил Сечь далеко не такой, какой она была в действительности. Он изобразил ее каким-то военно-монашеским братством, в духе подвизавшихся в Западной Европе рыцарских орденов.
Но, вырвавшись из плена напыщенных фраз, сомнительных домыслов и предвзятых комментариев автора, внимательный читатель все же мог обнаружить в этой книге убедительные документы, подтверждающие, что Запорожская Сечь была незатухающим очагом освободительной борьбы.
Именно на Сечи «высыпался из мешка хмель». Бежавший из польской тюрьмы Богдан Хмельницкий был избран здесь гетманом и во главе восставших казаков начал свой победоносный поход за освобождение Украины (приведший к ее воссоединению с Россией). Здесь скрывался поднявший в 1707 году восстание казаков донской атаман Кондратий Булавин. Недаром еще французский инженер Боплан писал в своих воспоминаниях, что «казаки… больше всего дорожат своей свободой, без которой жизнь для них немыслима».
Правда, и это свидетельство можно рассматривать как стремление идеализировать Сечь. Она не была однородна. В ней существовало резкое социальное неравенство.
Запорожская беднота нередко вынуждена была наниматься на поденную работу за семь рублей в год к богатым казакам, владевшим большими земельными угодьями и стадами. Рядовым холостым казакам, «сиромахам», приходилось утешаться тем, что при перевыборах казацкой старшины, по заведенному на Сечи обычаю, сам кошевой атаман, судья, писарь и есаулы клали перед ними на землю свои шапки и знаки власти и низко кланялись «товариству». Если их выбирали вновь, то рядовые казаки, соблюдая обычай, мазали им голову землей или грязью — смотря по погоде, — чтоб не зазнавались! Но этот ритуал отнюдь не обеспечивал равенства, и внутри Сечи шла постоянная борьба.
Большинство найденных в Екатеринославе документов относилось к последнему периоду существования «вельможного Коша Запорожского», когда его атаманом был ставленник казачьей верхушки, один из самых богатых казаков, Петр Иванович Калнишевский.
По уцелевшим в архиве записям можно проследить, как этот кряжистый «Калныш» крепко держался за власть и угождал казакам-богатеям — их называли «сивоусыми», выслуживался также и перед царем. Еще будучи есаулом, во главе карательного отряда Калнишевский носился по степям и балкам, разыскивая скрывавшихся на Сечи повстанцев с Правобережной Украины — гайдамаков. Наскочив однажды, на берегу реки Буга, на замаскированное камышами укрепленное гайдамацкое гнездо, он истребил всех притаившихся в нем беглецов.
Занимая пост войскового судьи, Калнишевский не раз ездил в Москву хлопотать о возвращении запорожцам их «древних земель», частично переданных донским казакам и переселенцам из других мест. В этом и сам он был кровно заинтересован — ведь на запорожских землях паслись и его тучные табуны и стада. В 1762 году на общевойсковой раде, по предложению «сивоусых», он в первый раз был избран кошевым атаманом. У запорожцев такие дела решались просто. Шумливая «сирома» — так звали на Сечи бедняцкую часть казачества — голосовала подбрасыванием шапок — попробуй сосчитай! Через два года он снова получил атаманскую булаву, а затем его выбирали десять лет сряду, «чего до тех пор в Коше из веку веков не бывало». Но как обстояло дело в действительности, видно из сохранившихся в делах кошевого архива донесений самого Калнишевского. Как раз в 1768 году, когда запорожский гайдамак Максим Железняк поднял восстание на Правобережной Украине, вспыхнуло возмушение и на Сечи. Рядовые казаки — сиромахи захватили войсковые литавры и, барабаня по ним поленьями, подняли тревогу. Сбежавшиеся со всех куреней запорожцы овладели пушкарней, заменявшей на Сечи тюрьму, и, освободив привязанных цепями к пушкам гайдамаков, стали громить дома казачьей старшины и вообще богатых казаков, в том числе и «модные покои» — господскую рубленую хату самого Калнишевского, а также принадлежавшие ему амбары, ломившиеся от всякого добра.
В доме кошевого, как видно из составленного им самим списка понесенных убытков, перебили все стекла, хрустальную и фарфоровую посуду и даже печные изразцы, переломали дорогую мебель (одних только стульев было больше полусотни — по этой цифре можно судить о размерах его «хаты»). Изрезали ковры и выбросили из шкафов и сундуков весь его роскошный гардероб и дорогое оружие: крытые красным бархатом волчьи и лисьи шубы, расшитые кафтаны, позолоченные пояса, двадцать три пары сапог и столько же пар пистолетов, а также сабли в драгоценной оправе. Не пощадили и портрет одной весьма важной «государственной персоны». Сам кошевой схоронился на чердаке и, переодевшись там в монашескую рясу, улизнул через «верх потолошный» в заросшие камышом днепровские плавни. Просидев там до темноты, он пробрался в занятую русским гарнизоном Ново-Сеченскую крепость и донес ее коменданту секунд-майору Микульшину, что «сиромахи начали бунт для того, чтоб кошевого и старшину войсковую, нынешнюю и прежде бывшую, и достойных казаков всех побить до смерти». Вместе с секунд-майором кошевой атаман выработал хитроумный план подавления восстания: собрать в крепости всех не примкнувших к сироме казаков с атаманами и одновременно направить к восставшим одного офицера с секретным поручением предложить им выбрать другого кошевого и прекратить борьбу. Уловка удалась. Проникшему в Сечь капитану Марковичу не пришлось долго упрашивать восставших. Избрав атаманом Филиппа Федорова, сиромахи согласились «разойтись по куреням»; тогда прежний кошевой воспользовался этим для вероломного нападения на Сечь. Вызванные им «благоразумные» казаки, пустив в ход взятую из крепости артиллерию, ворвались в сечевые укрепления и стали «палыть по всем улицам и по сторонам». Теперь уже сиромахам пришлось убегать в плавни. Но при этом — как рапортовал майор Микульшин — «их было побито до смерти немалое число».
Каратели боялись сиромах даже после усмирения, поэтому они стали вести следствие не в самой Сечи, где началось возмущение, а в Новом Кодаке, под охраной ново-сеченского крепостного гарнизона. Признание одного из арестованных подтвердило, что эти опасения не были лишены оснований. Он собирался «публично застрелить из пистолета» ненавистного казакам Калнишевского.
Не посчитавшись с тем, что запорожцы выбрали другого кошевого, происходившего, впрочем, тоже из зажиточных — Филиппа Федорова, Калнишевский снова завладел атаманской булавой. В Москву же он послал секретную просьбу «держать на Запорожье не менее двух полков регулярного войска». Разбежавшиеся по приднепровским степям сиромахи еще долго не унимались. Они продолжали нападать на зимовники старшин и сивоусых. По селам, шляхам и хуторам были разосланы особые «разведные команды» с заданием «своевольников от шумств и грабительств ускромлять».
Проявленная Калнишевским твердость при подавлении восстания произвела, очевидно, впечатление в столице. Нуждаясь в помощи запорожских казаков в случае войны с Tурцией, правительство торопилось навести порядок в Сечи. Узнав, что засланным в Запорожье агентам султана не удалось склонить казаков к измене, Екатерина II поспешила в специальном послании выразить свое благоволение кошевому атаману и всему Запорожскому Войску. Уверяя запорожцев, что она считает их своими «наиусерднейшими подданными» и не сомневается в их верности, императрица обещала «при первом случае оказать им свою милость».
Подходящий случай скоро представился. В разгоревшейся в 1769 году войне с Tурцией запорожцы опять блеснули своими воинскими доблестями. Они сильно потрепали ворвавшихся в приднепровские степи крымцев и своими неустанными и смелыми набегами не давали противнику ударить в тыл русской армии, громившей врага по Дунаю и за Дунаем.
«За отлично храбрые противу неприятеля поступки и особливое к службе усердие» кошевой атаман Калнишевский и его ближайшие соратники были награждены после войны специально для них вычеканенными золотыми медалями с изображением Екатерины II.
Виднейшие военачальники граф Петр Панин, князь Прозоровский и знаменитый впоследствии фаворит Екатерины II, бывший в то время генерал-майором в первой армии, Г. А. Потемкин, в знак своего особого уважения к Войску Запорожскому, просили записать их в любой из его куреней простыми казаками. Заявления эти особенно тщательно хранились в архиве. Кошевое начальство не рассчитывало на то, что эти «казаки» будут разделять все трудности похода вместе с сиромахами, но в столице они могли очень пригодиться.
«Милостивый батьку, Петр Иванович», — запросто называл Калнишевского будущий светлейший князь Tаврический, обращаясь с просьбой записать его рядовым товарищем — «братчиком» в казачий реестр. Зачисление было произведено по всем правилам, даже с соблюдением установившегося в «скопище беглецов» обычая — давать записавшимся в казаки новые прозвища. Клички эти выбирались чаще всего по внешним признакам: повредившего нос в драке называли, например, Перебий-нос; ходившего в рваном кафтане, через который просвечивало нагое тело, — Голопуп. Иногда в насмешку долговязому давали кличку Малюта, а низкорослому — Махина. Генерал Григорий Потемкин, носивший взбитый парик с буклями и поэтому, по мнению запорожцев, никогда не причесывавшийся, был записан под именем Грицька Нечесы в кущевский курень, тот самый, в котором состоял и Калнишевский.
Назначенный вскоре после этого генерал-губернатором граничившего с Сечью Новороссийского края, однокуренец Калнишевского на правах соседа продолжал обмениваться с ним любезными посланиями и подарками.
Но тесное общение однокуренцев имело и другую сторону. Став «соседом» Калнишевского, Потемкин пристальнее присматривался ко всему, что происходило на Сечи.
А на Сечи, как всегда, было неспокойно.
Даже дворянский историк Скальковский, впервые опубликовавший эту переписку, наряду с другими документами запорожского архива, не мог утаить, что в нем хранились и документы совсем иного характера. Tаковы, например, свидетельские показания рядового казака Бориса Швеца о сказанных одним молодым запорожцем, по имени Никон, опасных словах: «Как панов выбивать будут, чтоб и нам смертоубийства не случилось». Разгласивший эти слова казак был допрошен в Ново-Сеченской крепости с таким пристрастием, что… «он, Швец, дней через четыре и умре в яме».
Да и разве могло быть спокойно на Сечи в эти годы суровой расправы над участниками поднятого донским казаком Емельяном Пугачевым крестьянского восстания, в котором участвовало немало запорожцев! Не могли оставаться равнодушными казаки и к происходившим в самой Сечи событиям — постройке новой линии укреплений от Днепра до Азова, пролегавшей через запорожские владения, и заселением в связи с этим «исконных казачьих земель» солдатами и переселенцами из России. Кошевой Калнишевский ездил сам и снаряжал депутации в Петербург и в Москву, настойчиво добиваясь возвращения казакам отчужденных земель.
Но жалобы запорожцев не встречали сочувствия. После победы над турками, обеспечившей России выход к Черному морю и обезопасившей границы с крымским ханством, Сечь, как сторож этих границ, утратила свое значение. Екатерининские вельможи смотрели на Сечь теперь только как на «разбойничий притон», постоянный очаг волнений и беспокойств.
Напрасно очередная запорожская депутация привезла в подарок своему ходатаю перед императрицей «братчику» Грицьку Нечесе великолепного темно-гнедого коня с золототканым чепраком и серебряными стременами. Tрудно было теперь задобрить конем высокого сановника. В качестве генерал-губернатора соседнего с Сечью Новороссийского края Потемкин знал обо всех ссорах, происходивших между жителями этого края и запорожцами. Но виновниками этих ссор он считал только запорожцев.
Последнее из сохранившихся в кошевом архиве писем Потемкина Калнишевскому своим суровым тоном резко отличается от всех предыдущих. Перечисляя «несносные обиды и огорчения», нанесенные запорожцами жителям нового края, он грозится донести о них императрице. Один из посланцев Коша — расторопный полковой старшина Антон Головатый — извещал Калнишевского, что Потемкин «чрезмерно пужает за все и угрожает… так сердит, что и сказать нельзя».
Привезенные запорожцами для подкрепления их прав на землю бумаги — копии с хранившихся в сечевом архиве древних грамот — никто в столице не хотел читать. Екатерининские вельможи сами были не прочь прибрать теперь к рукам плодородные запорожские земли.
Запорожские казаки, принимавшие участие в войне с Турцией, не все еще успели вернуться домой, когда корпус находившегося на царской службе сербского уроженца генерала Текели, тоже возвращавшийся с театра военных действий, неожиданно повернул на Сечь. Маневр этот был проведен быстро и держался в строгом секрете. Как видно из не попавшего, конечно, в сечевой архив донесения генерал-поручика Tекели от 6 июня 1775 года «о взятии Сечи Запорожской», он приказал своим войскам двигаться «скорейшим маршем», чтобы «кошевой Калнишевский и писарь Глоба уйтить не могли» и дабы «спокойно и без кровопролития кончить». Корпус был разделен на пять отрядов, и они подошли к Сечи пятью колоннами. Сам Tекели с главной частью корпуса пошел прямо на Сечь и навел на нее жерла всех своих пушек. Ничего не подозревавшие запорожцы мирно спали по своим куреням; даже часовые около пушек дремали. Только в самом Коше, где было сосредоточено более трех тысяч казаков, при приближении войск подняли тревогу, но, «увидя, что не было средств к утечке» (так сообщал Tекели в своем донесении), сдались без сопротивления.
Генерал-поручик Tекели тотчас же потребовал к себе кошевого атамана Петра Калнишевского, войскового писаря Ивана Глобу и войскового судью Павла Головатого. Только эти трое и были взяты под караул для препровождения в Москву. Войско же Запорожское было объявлено распущенным. Вскоре был оглашен и специально изданный Екатериной II «манифест о разрушенном Войске Запорожском», в котором Сечь называлась «вредным скопищем» и перечислялись все вины ее обитателей, начавших «в самое новейшее время гораздо далеко простирать свою дерзость». Главной их виной было намерение «составить из себя посреди отечества область, совершенно независимую, под собственным своим неистовым управлением». Правда, в том же манифесте запорожцам «воздавалась и достойная похвала в том пункте, что не малая ж часть запорожского войска в минувшую ныне сколь славную, столь и счастливую войну с Портою оттоманской оказала преотличные опыты мужества и храбрости».
Рядовым казакам было разрешено остаться жить в Запорожье или вернуться туда, откуда они пришли в Сечь. Но большинство сиромах не воспользовалось этой «милостью». Не желая превращаться ни в помещичьих крепостных на своих же запорожских землях, ни в армейских солдат, больше пяти тысяч казаков отпросились на заработки и одним им известным скрытым путем ночью тайно пробрались к Днепру, сели в спрятанные в камышах лодки и махнули за Дунай.
О судьбе отправленного под конвоем в Москву кошевого и двух его ближайших помощников — войскового судьи и писаря — в архиве прекратившего свое существование «вельможного Коша», естественно, не оказалось никаких сведений. Историк «последнего Коша Запорожского» Скальковский наводил о них справки в разных местах, но так и не смог ничего выяснить. Ходили слухи, что после своего освобождения Калнишевский удалился в Tурцию.
Не прошло и ста лет после только что описанных событий, когда Скальковский, заканчивая свой труд об ее последнем Коше, посетил заповедные запорожские места. Это было в 1842 году.
Его поразили происшедшие там перемены. Где раньше мелькали наспех обмазанные глиной камышовые или рубленые казачьи постройки, стояли теперь прочные каменные дома немецких колонистов. В них угощали заезжего гостя не грубой запорожской саламатой — болтушкой, замешанной из муки или пшена на рыбьей ухе или квасе, а приготовленными по всем правилам немецкой кухни котлетами и бифштексами. Белокурые дочери колонистов услаждали слух нежными звуками арфы там, где еще не так давно, даже в мирное время, при объезде кошевым казачьих паланок[34] раздавалась неистовая пушечная пальба.
О Сечи уже мало кто помнил. Все же во время этой поездки Скальковскому удалось записать несколько народных песен, сложенных после разорения Сечи. В них упоминалось и о ее последнем кошевом атамане Петре Калнишевском. На основании обнаруженных в запорожском архиве документов у историка создалось впечатление, что Калнишевский при жизни пользовался уважением только «благоразумных», то есть зажиточных, казаков; сиромахи же, мягко выражаясь, «не были к нему расположены». Но после исчезновения взятого под арест последнего кошевого облик его стал приобретать в народной памяти героические черты. В одной из записанных в Запорожье песен были, например, такие строки:
Из этих строк можно было заключить, что Калнишевский после своего освобождения не уезжал в Tурцию, а доживал свой век где-то на Дону.
В 1862 году один из любителей украинской старины П. С. Ефименко провел лето на берегу далекого от Запорожья Белого моря, в селении Ворзогоры, в ста восьмидесяти верстах от знаменитого Соловецкого острова, в течение многих столетий служившего местом ссылки. На этом безлюдном острове, восемь месяцев в году отрезанном от мира плавучими льдами, еще в начале XV столетия был основан большой монастырь, представлявший собой сильную крепость из дикого камня. В башнях этой крепости и были устроены камеры для заключенных «на вечное пребывание, до смерти, неисходно». Чаще всего туда сажали раскольников «за распространение вредных толкований о вере», но было среди них и немало «оскорбителей царских особ» и вообще противников самодержавия.
Гостивший в селении Ворзогоры любознательный украинец, расспрашивая об обитателях окруженного тайной монастыря местных жителей, ежегодно ездивших в Соловки на звериный промысел, неожиданно узнал поразившую его новость: один из его собеседников, восьмидесятилетний старик, по фамилии Лукин, в годы своей молодости бивший на Соловках морского зверя, рассказал о запомнившейся ему встрече с загадочным заключенным. Задержавшиеся на Соловках до праздника пасхи звероловы зашли в этот день в монастырь и выпросили там для себя праздничный обед. Дожидаясь около трапезной монахов, обещавших вынести им пищу, рыбаки увидели дряхлого старика, тоже пришедшего за обедом, но сопровождаемого тремя караульными. Заметив рыбаков, этот старик оживился и, оглядываясь на конвойных, быстро спросил: «Кто теперь царем и что нового на Руси?»
Удивленные такими вопросами звероловы поспешили ответить, что царем теперь Александр Павлович, внук Екатерины II, перемен же никаких нет, живут они по-прежнему.
— Он бы и еще больше нас расспрашивал, — уверял рассказчик приезжего украинца, — да солдаты не допустили. Стали нас отгонять со словами: «От этого человека отойдите прочь. С ним вам говорить не полагается».
И принесшие обед монахи тоже стали пугать рыбаков, что за разговор с этим стариком им попадет от архимандрита.
Когда же вскоре появился и сам архимандрит, старик в сопровождении часовых подошел к нему под благословение. Настоятель же монастыря при этом сказал: «Древен ты, землей пахнешь».
— Больно уж он одряхлел, — пояснил эти слова настоятеля рассказчик, — видно было, что ему недолго жить осталось.
Потом, когда старика увели, монахи рассказали рыбакам, что он был когда-то казачьим атаманом и томится в Соловках уже много лет в строгом заточении. Только три раза в год, в дни больших церковных праздников, его выводят под конвоем получать обед в общей трапезной.
— Я, как теперь, его помню, — рассказывал Лукин, — сморщившегося совсем, седастые волосы обсеклись, видно, что много сидел. Борода не долга, белая. Одет он был в китайчатый синий сюртучок, пуговицы не разобрал, оловянные, что ли, махонькие такие, в два ряда. Говорил по-русски не очень чисто…
Из рассказов тех же рыбаков П. С. Ефименко узнал, что заключенные в Соловках разделялись на три разряда. Считавшиеся наименее опасными свободно передвигались в пределах монастыря; более серьезные преступники находились под замком, но их выводили ежедневно на работу и на прогулку; и, наконец, самые опасные, к которым, очевидно, и принадлежал этот старик, сидели «безвыходно», как видно из рассказанного случая. Некоторым из них, считавшимся «буйными», надевали на голову рогатки — железные обручи с шипами, замыкавшиеся двумя цепями под подбородком. Эти шипы не позволяли им ложиться — они могли спать только сидя.
На следующий год, проезжая через Архангельск в Холмогоры, П. С. Ефименко зашел в местное губернское правление и получил разрешение просмотреть в его архиве бумаги большой давности. Среди них он обнаружил заведенное 11 июля 1776 года и хранившееся раньше в секретном шкафу дело № 1243 «…об отсылке для содержания в Соловецком монастыре кошевого Петра Калнишевского».
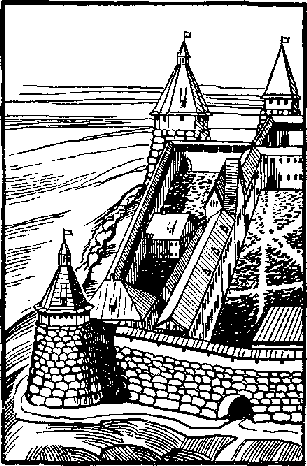 |
Из этого же дела П. С. Ефименко узнал, что 25 июня 1776 года, ровно через год после «атакования Сечи» войсками генерала Tекели, секунд-майор первого пехотного московского полка Александр Пузыревский в сопровождении одного унтер-офицера и пяти рядовых отбыл из принадлежавшего военной коллегии здания «с некоторым арестантом». Везли его с большими предосторожностями. На первой тройке ехал сам секунд-майор; на второй — унтер-офицер с тремя рядовыми; на третьей — таинственный узник с двумя конвоирами. Начальнику конвоя была дана строгая инструкция: содержать арестанта «в крепком присмотре» и во время пути «от всякого с посторонними сообщения удалять».
Не имея возможности совершить трудную поездку на Соловецкий остров, П. С. Ефименко попросил двух отправившихся туда знакомых москвичей — членов археографического и географического обществ А. Г. Гоздаво-Тышинского и П. П. Чубинского собрать в тамошнем монастыре дополнительные сведения о последнем кошевом. Они без труда разыскали могилу с надписью на каменной плите, извещавшей, что под ней погребено тело кошевого атамана «бывшей некогда Запорожской грозной Сечи» Петра Калнишевского. В надписи сообщалось также о том, что он был сослан в Соловки в 1776 году «на смирение» по повелению Екатерины II и освобожден в 1801 году, то есть через двадцать пять лет. Но старик сам не пожелал оставить монастырь и умер в нем 23 октября 1803 года ста двенадцати лет от роду, В монастырском архиве обнаружились и тщетно разыскивавшиеся Скальковским документы, на основании которых был осужден кошевой.
Это был текст докладной записки на имя Екатерины II «верновсеподданнейшего раба» Г. А. Потемкина.
Числившийся в куренных списках войска Запорожского под именем казака Грицька Нечесы, вице-президент военной коллегии, еще за год перед тем называвший себя в письмах к кошевому «Вашей Вельможности, милостивого батька, всегда готовый слуга», в этой записке напоминал императрице, что ей известны «все дерзновенные поступки бывшего Сечи Запорожской кошевого Петра Калнишевского и его сообщников войскового судьи Павла Головатого и писаря Ивана Глобы». Утверждая, что за свои преступления все трое заслужили «по всей справедливости смертную казнь» и не находя «ни малейшей надобности приступать к каковым-либо исследованиям», Потемкин все же считал возможным заменить «заслуживаемое ими наказание пожизненным заключением» и представлял на усмотрение Екатерины: «отправить на вечное содержание в монастыри, кошевого — в Соловецкий, а прочих — в сибирские». На докладе своего фаворита Екатерина II начертала: «Быть по сему».
Tак, по случайно обнаруженным документам монастырского архива и по найденным скромным украинским канцеляристом остаткам архива Запорожской Сечи прослеживаются страницы ее истории. В настоящее время фонд Сечи Запорожской, обогащенный собранными после Октябрьской революции документами, бережно хранится в Центральном государственном архиве УССР в Киеве. Изучая документы этого архива, советские историки, в частности автор книги «Запорожское казачество» проф. В. О. Голобуцкий, написали немало новых работ, раскрывающих историю Сечи.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |