"Крепостной художник" - читать интересную книгу автора (Прилежаева-Барская Бэла Моисеевна)
В эрмитажной галерее
Васе казалось, что с того момента, как из круглой шинельной он впервые ступил на порог конференц-зала, прошли долгие годы, — такую громадную ощущал он в себе перемену. Растерянный, маленький, стоял он тогда посреди великолепного зала, ошеломлённый богатством и яркостью полотен, а вот теперь эти картины, одетые пышными золочёными рамами, стали «домашними», своими, и ведь многие из них — это только копии, написанные такими же, как он, робкими, неумелыми учениками.
Нет, академические залы не внушали ему прежнего благоговения. Всё уже известно, изучено до последней чёрточки. Жадно хотелось чего-то нового, еще невиданного.
И сейчас, сидя в библиотеке, уткнувшись в раскрытую большую книгу, Вася мысленно благодарил надзирателя Эрмитажной галереи, Лабенского, которому пришло на ум прислать в подарок Академии своё «Описание с гравировальными рисунками находящихся в оной галлерее картин». Перелистывая страницу за страницей, он улетал к давним временам, к великим, давно умершим художникам, к городам, в которых они жили, к музеям, где хранятся их произведения. «Какое это, должно быть, счастье побывать в далёких странах, ступить на почву Италии, родину Тициана, Рафаэля, Леонардо!» Он знал: Варнек получает заграничную поездку, Кипренский тоже. «А я, разве я хуже их?» И какое-то новое, никогда не испытанное, смутное, горькое чувство заползало в душу. Испуганно подумал: «Не зависть ли?»
Нет, он не завидует счастливым товарищам, он рад за них; но обида на несправедливость, что с рождения тяготеет над ним, — вот что болезненно зашевелилось в сердце.
Тропинин, куда ты пропал? Я с ног сбился в поисках, — зашептал над ухом знакомый голос. Вася оглянулся и увидел Варнека.
Ты что здесь делаешь? Гравюры с картин рассматриваешь? Слушай-ка, что я тебе скажу: мы их тотчас в натуре посмотрим!
Вася недоумевающе глядел на возбуждённое и весёлое лицо товарища.
— Ну да, живо собирайся! Степан Степанович нас с тобой да еще троих в Эрмитаж посылает списывать, какие нам понравятся, картины. Выбирайся-ка потихоньку отсюда.
Вася побежал за шапкой и верхним платьем в квартиру профессора Щукина, у которого жил. Когда он поравнялся с чинно поджидавшими его на набережной товарищами, в нём уже не осталось и следа недавнего гнетущего чувства. Столько свежести и бодрости было разлито в морозном воздухе! Нева отливала синерозовым перламутром. На Адмиралтейской стороне, едва касаясь гранитной скалы, повисло в воздухе медное изваяние Петра. Кажется, вот-вот взметнётся всадник и поскачет прямо навстречу ему по широкому мосту, [5] переброшенному через реку. Так приволен и красив был в это мгновение чудесный город, что всё грустное должно было испариться, рассеяться, исчезнуть.
На широкой площади, точно на гигантском блюде, поблёскивая золотом своих украшений, красовалось бело-фисташковое создание Расстрелли — Зимний дворец. Казалось, воздвигнутый единым взмахом творческой фантазии, он возник внезапно на пустой,[6] оголённой этой площади.
Как зачарованный глядел Вася на причудливое здание, набережную, Неву, не умея найти слов, чтобы сказать Варнеку, как чудесно шагать по морозному воздуху в розоватой петербургской мгле, что здесь, в этом городе он становится, он станет настоящим художником, он — бывший дворовый мальчишка графа Моркова. Что-то радостное, горячее разливалось в груди, наполняло её, но вдруг мелькнувшее секунду назад слово «дворовый мальчишка» всплыло в его сознании, злое, насмешливое, во всём своём грозном значении. «А кто же вы теперь, сударь Василий Андреевич, будущий известный художник?!»
Ведь ничего не изменилось в его судьбе оттого, что он оказал блестящие успехи в художестве, что он глубже чувствует прекрасное в природе и искусстве, что образованностью он ничем не отличается от любого графского сына. «Такой же холоп, как и был», барская вещь, которой в любую минуту хозяин может распорядиться по своему усмотрению, не спросив его, Васиного, желания. Вася зажмурился, замотал головой. Что-то забурлило, заклокотало в горле, вырвалось нечленораздельным звуком.
— Ты что мычишь, Тропинин? — Варнек удивлённо повернул голову в васину сторону. — Что с тобой, братец ты мой? Какая муха тебя укусила?
Всегда спокойное, приветливое лицо Тропинина исказилось в странной и злобной гримасе. Это было настолько удивительно, что Варнек подошёл ближе, тронул товарища за рукав. И Тропинин, робкий, застенчивый, неожиданно для самого себя, заговорил громко, смело, увлекаясь всё больше и всё повышая голос. Он говорил о своей участи, об участи дворового человека, не имеющего своей воли, живой вещи в руках господина.
Варнек изумлённо глядел на него. Робкий ученик Степана Семёновича, правда, способный, даровитый, но такой скромный, всегда остающийся в тени, вырос внезапно в его глазах. Перед ним был новый человек, способный глубоко и тонко чувствовать.
Тропинин, как бы пользуясь моментом нахлынувшей на него смелости, торопился высказать наблюдательному, умному Саше Варнеку то, что всё явственнее и мучительнее отравляет его душу.
«Да, ведь он «человек» графа Моркова», — пронеслось в голове Варнека. И горячее желание ободрить, утешить товарища овладело им.
— Не унывай, Тропинин! Люди с твоим талантом не погибают. Да, братец мой, это отмеченные люди!
Для большей убедительности Варнек взял его под руку.
— Вот я получаю заграничную поездку. Диковинно было б от неё отказаться! Я увижу произведения великих мастеров. Но они не дадут, не могут дать мне больше, чем даёт натура. Величественнее, прекраснее её ничего не найдёшь. А натуру наблюдать можно повсюду — нет надобности ездить для этого в чужие края. И, наконец, слушай…
Неожиданная мысль, пришедшая в голову, прервала поток его слов.
— Не всё же ты будешь крепостным! Барин твой… граф освободит тебя.
Вася грустно покачал головой.
— Так вот гляди же, скольких освобождает Строганов! И не только Строганов. Давеча мне канцелярист показывал заявление графа Румянцева, что он отпускает на волю своего «человека» «из уважения к его успехам в живописном художестве». Вот получишь на выставке медаль, в вознаграждение подарят тебе отпускную. Так-то, Васенька, друг, не падай духом, перемелется! — помянешь меня…
Варнек замолчал, и ничего не ответил Тропинин.
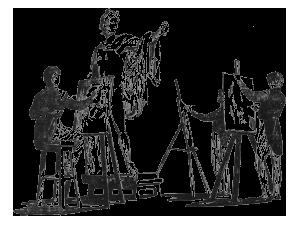 |
Так молча дошли до тяжёлой двери придворной конторы, где дают пропуска в Эрмитажную галерею.
Шагая по каменному гулкому коридору, Вася отстал немного от товарищей, охваченный мыслью о предстоящей выставке, о медали, о своём начатом холсте.
— Тропинин, — звонким шопотом окликнул его Кипренский, и Вася заторопился на его зов.
Наконец сданы академические удостоверения, проделаны все формальности, получены пропуска, и каждому предоставлено право избрать любое произведение по своему вкусу и списывать с него. Теперь можно обойти галерею, осмотреть её и наметить ту картину, над которой он будет работать.
Усмехаясь, глядит на него из рамы странная красавица Леонардо да Винчи, и не может оторвать Вася глаз от её загадочной улыбки, от покойно положенных одна на другую рук, от всего облика такой знакомой почему-то ему женщины.
Но надо двигаться, поглядеть и другие картины. Вот перед ним прекрасная фламандка — жена Рубенса. Полнотелая красавица в роскошном платье, лукаво, как хищный зверёк, выглядывает из-под полей своей бархатной шляпы. Эта нарядная дама не знала в жизни ни горя, ни сомнений… Вася проходит мимо.
Одна за другой мелькают картины, изумительные по мастерству, яркие, незабываемые, но ни на одной из них не может Вася остановить свой выбор, решает повернуть уже назад к Леонардо, как вдруг две руки, старческие, судорожно сжимающие одна другую, покрытые морщинками, неудержимо привлекают его к себе. Эти старческие руки говорят о долгой и скорбной жизни. С усилием отрывая глаза от рук, он видит — из тёмных лохмотьев выступает на свет измождённое лицо старика еврея. На бледном до странности лице лихорадочно горят глаза.
Из этого зала он никуда не уйдёт. Выбор сделан.
Долго еще стоит он перед картиной, всматриваясь в портрет голландского еврея, поглощённый одной мыслью — перенести на холст эти мелкие морщинки, высохшие руки, так поразившие его в первое мгновенье. Кажется, не в силах он оторваться от картины, а между тем уже смеркалось, неразличимы стали детали.
— Живее, судари, — раздался чей-то голос позади Тропинина. — Если замешкаемся и в натурный класс опоздаем, будет нам ужо от Степана Семёновича!
Торопились домой.
Вася отстал от товарищей. Те оживлённо и шумно беседовали, делясь своими впечатлениями, а он не хотел, не мог принять участия в общем разговоре, казалось, всё еще созерцал рембрандтовского старика.
Да, передать на холсте внутренний мир человека, страдания его и радости — вот величайшая задача художника, вот к чему надо стремиться в искусстве. «Передать натуру», — советует Варнек; да, да, конечно, но так, чтоб эта «натура» продолжала жить на картине, чтоб изображённые на ней люди заражали зрителя своими слезами, своим смехом…
Вася не додумал до конца своей мысли, как сердце застучало чётко, раздельно и, будто вдруг оторвавшись, полетело в пропасть.
За углом, прижавшись к стене Академии, притаилась закутанная в шаль женская фигурка. Вася узнал её — это была Машенька Пахомова. Из-под надвинувшегося на лоб платочка тёмные глаза выглядывали кого-то вдоль набережной.
«Кого-то она поджидает?» — мелькнул тревожный вопрос в голове.
Всё ближе к Академии Вася, вот-вот поравняется с Машенькой, но Машенька вздрогнула, оторвалась от стены и повернула бегом в темноту, в глубину линии.
(support [a t] reallib.org)