"Искатель. 1971. Выпуск №4" - читать интересную книгу автора
ГЛАВА 2
В святом писании сказано: и настал вечер, и настало утро, — день второй. Авторы этого сборника, однако, забыли отметить, что хотя день второй и настал, а результатов — никаких. Первая тропинка, названная «Илиев», оказалась очень короткой и абсолютно бесперспективной. Следовало сейчас заняться второй, которую я назвал «Танев», но здесь встает вопрос сроков. Когда в голове начинает вырисовываться версия, это обязывает тебя полностью затратить время на ее расследование. Короче говоря, для Танева еще есть время. А если есть время, то его следует как-нибудь убить. Кое-кто считает наиболее подходящим для этого кино. Я считаю, что дешевле ходить в гости.
Табличка на двери, перед которой я остановился, лаконично говорила: «Семья Сираковых». Красивая табличка, мастерски написанная от руки. Ощущается культура, однако не ощущается, что кто-то есть дома. Только после третьего звонка дверь осторожно приоткрыли, и передо мной появилось заспанное женское лицо.
— Гражданка Сиракова?
— Что вам угодно?
— Хотелось бы поговорить, — сказал я, вынимая из кармана служебное удостоверение. Лицо ее несколько оживилось.
— Заходите! С кем вы хотите говорить, со мной или с моим мужем?
— Все равно. Могу с вами обоими.
— Минуточку, — ответила хозяйка, ведя меня по темным тесным коридорам, заставленным мебелью с острыми углами. — Сюда, сюда, осторожно, не ударьтесь… Мы, знаете ли, только что прилегли… Привычка такая, подремать после обеда…
Ударившись о два буфета и три шкафа, я наконец вышел на белый свет — оказался в светлой комнате, которая, очевидно, служила гостиной. В ту же секунду хозяйка, повторяя свое «минуточку», неожиданно исчезла, и я остался с глазу на глаз с самоуверенным молодым человеком с непокорно торчащим чубом.
Портрет был вставлен в раму и так старательно подретуширован, что казался глаже яйца. Громадный фотопортрет поставили на маленьком столике в уголке рядом с букетом искусственных цветов в вазе-сапоге. Чуть дальше стояла старинная мебель: диван и четыре кресла. На боковых стенках дивана были две пепельницы. Я подумал, что здесь можно курить, и, устроившись на диване, достал сигареты.
Тут мое музыкальное ухо скрипача-неудачника уловило воркующие голоса людей, доносившиеся из соседней комнаты. Слышались два голоса — мужской и женский, но слов не разобрать. Наверное, столкновение характеров. Семейные взаимоотношения.
Вскоре дверь отворилась, и в гостиную вошла гражданка Сиракова в сопровождении своего супруга. Муж был на несколько лет старше жены, ему перевалило уже за пятьдесят, Высокий, несколько сутулый, с седыми висками и мрачным лицом. Настроение скепсиса скорее всего его постоянное состояние.
— А вот и мой муж, — проговорила Сиракова, стараясь любезно улыбнуться.
Хозяйка явно намеревалась превратить мое служебное посещение в нечто вроде светского визита. Хозяин же на эту игру не шел.
— Твой муж!.. — проговорил он подчеркнуто, демонстрируя убийственное презрение к подруге своей жизни. Потом небрежно подал мне руку и сказал:
— Как видите, товарищ инспектор, двадцать лет свободной жизни недостаточно, чтобы убить собственнические инстинкты в некоторых людях. Я — ее муж!
— А что плохого я сказала? — удивилась хозяйка. — Вы, товарищ инспектор, не обращайте внимания, он всегда такой раздраженный, а сегодня еще и чувствует себя неважно… поэтому и остался дома… Он, мой, немножко такой…
— Вот видите: ее… — снова подчеркнул Сираков со злой иронией и тяжело опустился в кресло, уставившись на фотопортрет.
— Да хватит тебе, Константин… — плаксиво протянула жена. — Не срами меня перед людьми.
— Кажется, я выбрал не совсем подходящий момент… — сказал я, — Помешал семейной беседе…
— Не беспокойтесь, вы нам не помешали, — возразил Сираков. — Наша беседа длится уже более четверти столетия.
— И конца ей не видно? — добродушно спросил я.
— Именно так, тщетно ждать конца, если между нами, — при этих словах Сираков нервным жестом показал на себя и женщину, — если между нами лежит покойник!
— Покойник? — оживился я.
— Да, да, покойник, — хмуро кивнул Сираков.
— Кто именно? Извините, но это в какой-то мере по моей части.
Сираков порывисто и как-то театрально указал рукой в угол:
— Вот этот!
— Ага… Вот этот… — пробормотал я, повернувшись к портрету. — А кто это?
— Вот полюбуйся! — голосом победителя сказал хозяин своей супруге. — До чего ты меня довела, даже инспектор милиции не может меня узнать!
Тут Сираков снова повернулся ко мне и жестом фехтовальщика указал на снимок:
— Это Константин Сираков, ученый, философ, мертвый, погибший, уничтоженный. А перед вами, — тут оратор воткнул воображаемую шпагу себе в грудь, — Коста Сираков — руина, Сираков-бухгалтер, грустные остатки мертвого прошлого…
— Да, сложно… — вздохнул я. — Но это немножко приближает нас к причине моего визига. Я тоже интересуюсь покойником, хотя и не таким символичным. Речь идет об Иване Медарове.
— Что-о? — воскликнула хозяйка, подавшись вперед.
— Да, гражданка, — проговорил я официальным тоном, который приберегаю для подобных случаев. — Как мне ни неприятно, но именно я вынужден уведомить вас: вашего брата нет более в живых.
Сиракова готова была заголосить, но под суровым взглядом мужа ограничилась несколькими слезинками и очень скромным всхлипыванием. Я закурил сигарету с облегчением, словно мне удалось, избежать крупной неприятности.
— Не так уж и неприятно… — пробурчал хозяин.
— Коста, стыдись, — в голосе женщины звучали неподдельные слезы.
— Я вижу, вы не слишком уважали покойного, — заметил я.
— Уважал? — переспросил Сираков. — Такие люди, как он, заслуживают не уважения, а…
Он взглянул на жену и умолк.
— Не стесняйтесь, — подбодрил я его, — заканчивайте свою мысль.
— Моя мысль ясна, — рявкнул Сираков.
— Вы хотите сказать…
— Я хочу сказать, что он заслуживает именно того, что с ним и случилось, — отрезал хозяин.
— Это звучит как смертный приговор.
— И я вынес бы его… Не моргнув глазом… если бы я выносил приговоры…
— Коста!.. — всхлипнула Сиракова.
— Замолчи! — прикрикнул на нее муж. — Да, да, осудил бы его, будь у меня такое право.
— Тот, кто вынес приговор Медарову, и тот, кто его выполнил, тоже скорее всего не имели никаких полномочий от закона, — сказал я. — Надеюсь, это не ваша самодеятельность?
— Нет… — огрызнулся хозяин. — Конечно, не я… Вообще я не принадлежу к людям действия, товарищ инспектор! И в этом моя трагедия! Слишком хрупким творением для этого мира грубых стремлений оказался Коста Сираков.
Голос моего собеседника даже задрожал от сдерживаемой патетики.
— Ничего, — успокаивал я страдальца. — Может, так оно и лучше. А чем вы объясняете свое критическое отношение к покойному?
— К гангстеру, хотите вы сказать?
— Коста! — умоляюще воскликнула Сиракова.
— Замолчи! — крикнул муж. — Вы слышали что-нибудь о «Комете»?
— Смутно припоминаю…
— Банда гангстеров — вот что такое «Комета»! И один из этих гангстеров — ее родной брат! — При этих словах хозяин правой рукой-шпагой указал на свою жену. — Когда я, дорогой инспектор, под влиянием естественного для каждого индивида инстинкта продолжения рода женился на присутствующей здесь женщине, знаете ли вы, что совершил этот волк в образе человека? Он лишил ее всякого содержания! Всякого! И не только от скупости, но и ради подлой цели: чтобы поставить на колени гордый, независимый дух Константина Сиракова!
Тут оратор несколько откинул голову и умолк, словно оценивая, какое впечатление произвели на меня его слова.
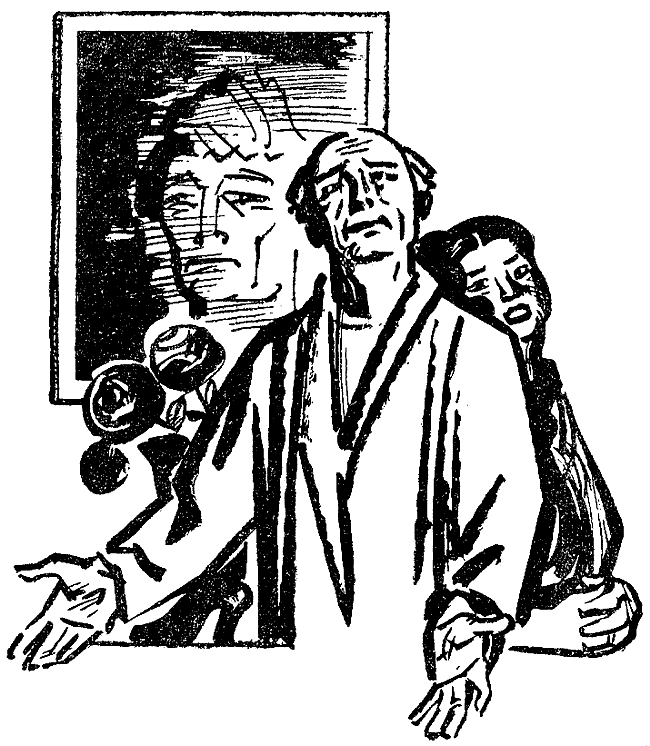 |
— Да-а… — протянул я. — Неприятно.
— Неприятно? Трагично, товарищ инспектор, тра-гич-но! Этот шкурник меня шантажировал, а дома с утра до вечера меня поедом ела жена-мещанка…
— Но ведь это же ради ребенка, Коста…
— Умолкни! — воскликнул хозяин, даже не взглянув на жену. — Обложенный с двух сторон одновременно, Коста Сираков не выдержал и поднял белый флаг капитуляции… Нежный росток был раздавлен катком безжалостного времени… Конец изучению философии, конец мечтам о научной карьере, вместо всего этого — место бухгалтера в «Комете», причем, заметьте, с нищенской ставкой…
— Гм… — хмыкнул я, а это могло означать что угодно. — Кроме покушения на вас самого… Что вы знаете о других преступных действиях этого сообщества?
— Все это сообщество было одним сплошным преступлением! — воскликнул хозяин.
— То есть?
— Судите сами: миллионы левов прибыли фактически ни за что ни про что. Просто проценты от фантастических военных поставок. Почему гитлеровцам захотелось давать такие деньги именно гангстерам из «Кометы», а не кому-нибудь другому, а?
— Вам лучше знать.
— Конечно, я знаю! Еще как знаю!
Тут хозяин конфиденциально наклонился ко мне и, не понижая голоса, забубнил:
— Филиалом гестапо была эта «Комета», если уж вы меня спрашиваете, инспектор!
— А почему вы не рассказали обо всем этом на процессе?
Сираков пренебрежительно махнул рукой:
— Что там было рассказывать, когда ничего нельзя доказать. Эти трое не вчера родились: документов и следов после себя не оставляли. Правда, и Сираков не лыком шит: гитлеровские полковники, приезжавшие под видом техников-инструкторов, шушуканье по кабинетам, поездки Костова и Танева во все концы страны — все это, особенно для меня, было яснее ясного…
— А кто, по-вашему, был главным?
— Конечно, Костов, — не колеблясь, ответил Сираков, потом, почесав в затылке, добавил: — Хотя под конец как будто Танев держал вожжи в руках. Полковники чаще всего засиживались в его кабинете, а Медаров и даже Костов дрожали перед ним.
— Дрожали?
— Дрожали, еще как. И в гангстерстве есть чины.
— Гм… — снова многозначительно хмыкнул я. — А как случилось, что в последний момент Костову удалось улизнуть?
— Этого я не знаю. Они эвакуировались из Княжева, а меня мобилизовали здесь, в Софии; с тех пор я их больше не видел. Даже за зарплатой посылал ее, — Сираков небрежно указал на жену. — А как это произошло, понять нетрудно: Танев становился все опаснее, но Костов был хитрее всех. Почуял волк проклятый, что дело швах. Договорился с немцами и смотался.
— С деньгами в кармане, — добавил я.
— Известное дело, с деньгами. В последние два года они все свои капиталы превращали в золото: чем сильнее становилась инфляция, тем скорее обращали они все в золото.
— Раз уж речь зашла о золоте, не могли бы вы сказать, на что, собственно говоря, жил в последнее время ваш брат? — обратился я к Сираковой.
— Но ведь… — начала хозяйка и умолкла, испуганно взглянув на мужа.
— Рассказывайте, рассказывайте! — подбодрил ее я. — В таких случаях следует рассказать все как врачу.
Сиракова судорожно сглотнула слюну и снова в испуге взглянула на мужа.
— Но ведь брат оставил мне сундучок просто так, чтобы я сберегла для него…
Правая рука-шпага хозяина описала дугу и остановилась на хозяйке, в то время как его сердитое лицо было обращено ко мне:
— Вот с каким человеком я живу под одной крышей!
Тут Сираков устремил убийственный взгляд на подругу своей жизни и воскликнул:
— Изменница! Иуда искариотская!
— Но он же мой брат, Коста… — оправдывалась хозяйка. — Там подарки были от родных, старинные мамины бусы…
— Как выглядит этот сундучок? — спросил я.
— Ну такой четырехугольный, стальной, — Сиракова показала руками размеры сундучка. — Похож на те, в которых торговцы держат днем деньги…
— А вы никогда не заглядывали в сундучок? Семейные драгоценности всегда притягивают.
— Как туда заглянешь? Сундучок открывался шифром. Ну у замочка был шифр. Иначе Иван ни за что не оставил бы его, он такой недоверчивый.
— Да-а… Маленькая услуга, которую вы оказали вашему брату, называется утаиванием доказательств и, естественно, карается законом. Хорошо все-таки, что вы признались. Интересно, что было в сундучке?..
— Не знаю, — пожала плечами Сиракова. — При мне он его не открывал.
— Но вы, наверное, встряхивали его, чтобы проверить, как звенят мамины бусы?
— Ничего там не звенело. Он был так набит, что ничего в нем с места не двигалось. И тяжелый был.
Последняя подробность, видно, разожгла воображение Сиракова, ибо он снова воскликнул:
— Изменница! Иуда искариотская!
— Ну, снова ты, Коста! Он же мой брат! — всхлипывая, возражала хозяйка.
Вскоре мысли ее приобрели более практичное направление.
— Вы, конечно, нашли этот сундучок?
— Пока что нет, — ответил я, — но как только найдем, дадим вам знать… А как случилось, что ваш брат перебрался жить в другое место?
— Потому что он его выгнал! — Сиракова указала на своего мужа.
— Еще бы! Стану я с ним церемониться! — хмуро проговорил муж.
— Моего родного брата выгнал. Вы представляете? — объясняла Сиракова.
— Еще бы! Стану я с ним церемониться! Мне в доме гангстеры не нужны, — снова огрызнулся муж.
— Как он вел себя, живя у вас? — спросил я.
— У нас! — воскликнул Сираков. — Никогда он здесь не жил. Я сразу же велел ему поселиться на чердаке.
— Представьте себе, он так и сделал! — добавила хозяйка. — У моей дочки под крышей ателье, и он, мой муж, представляете, заставил моего брата ютиться в комнате при этом ателье!
— Я не твой, пойми же наконец! — чуть ли не взревел Сираков.
— Хорошо, хорошо) — успокаивал его я. — Этот вопрос бы уточните наедине. — Потом снова обратился к женщине: — Но вы хотя бы разговаривали с Медаровым?
— Разумеется, он же мой брат.
— Да, это мы уже уточнили. Скажите лучше, о чем вы говорили?
— Разве я помню, товарищ… — Женщина беспомощно смотрела на меня своими жалобными глазами.
— Может быть, он вспоминал что-нибудь о Таневе? — попробовал я помочь ей.
— Вспоминал, конечно! Он только об этом и говорил: как бы ему узнать, где прячется Танев.
— Где прячется? — повторил я ее слова.
— Да. Где прячется. Он говорил еще, что Танев ему должен и теперь, узнав, что Иван вышел из тюрьмы, прячется, чтобы не отдавать долга.
— Да, долг! — вмешался Сираков, пренебрежительно взмахнув рукой. — Краденое не поделили! Знаю их: гангстеры!
— Ну и дальше? Ваш брат узнал в конце концов, где прячется Танев? — обратился я к хозяйке.
— В том-то и дело, что ничего не узнал, — вздохнула Сиракова. — Ему удалось найти только этого Илиева, их бывшего шофера. И сразу же он перебрался к нему.
— Значит, вы его не выгоняли? — сказал я Сиракову.
— Ну, до драки дело не дошло, — огрызнулся он. — Я человек воспитанный, деликатный, я выжил его своей ненавистью, пренебрежением духа, недостижимым для этого пигмея!
— Гм, это уже кое-что.
— Да. Хотя, если поступать по библейским примерам, его стоило уничтожить.
— Избегайте библейских примеров, — посоветовал я. — С некоторого времени они не больно-то в чести.
— Его следовало уничтожить, — повторил хозяин. — Так, как он когда-то уничтожил философа Косту Сиракова. Присутствовать на грандиозном процессе, происходящем в нашей жизни, и не участвовать в нем — ну как это можно?
— Кто же вам не дает? — удивился я. — Кто вам мешает?
— Как это кто мне мешает? Разве бухгалтеры принимают участие в исторических процессах?
— Не всем же писать шедевры, — проговорил я, утешая его. — Иначе кто будет их читать?
— Не все это могут, — согласился хозяин. — А я мог. Вот взгляните!..
Он подбежал к книжному шкафу, выбросил из него несколько старых журналов и жестом триумфатора вытащил откуда-то пожелтевшую смятую рукопись. Она была довольно-таки тоненькой. Сираков приблизил ее к глазам, потом положил на стол, склонился над ней и растроганным голосом прочитал:
— «Декарт, или Единство материи и духа…»
— Хорошо, хорошо, — поспешил я остановить его. — А что вы думаете об электропроводке?
Сираков взглянул на меня, слегка удивленный таким неожиданным поворотом разговора. Потом на его лице отразилось подчеркнутое пренебрежение:
— Проводка? Товарищ инспектор, я размышлял о тайнах духовных феноменов, а не физических… Вот первая и, к сожалению, последняя работа молодого Сиракова…
Он поднял вверх рукопись, словно желая произнести торжественную речь, но я поднялся и любезно проговорил:
— Да, вы правы. Это очень досадно… Как знать, ведь могло выйти такое…
Две минуты спустя я был уже на вполне безопасном расстоянии от философа, то есть тремя этажами выше, у чердака.
На серой двери, ведущей в ателье, висела табличка «Лида Сиракова, художница». Звонка нет, и на табличке есть еще постскриптум: «Стучите громко!»
Что я и делаю. Вскоре дверь широко отворяется, и на пороге я вижу девушку, которая, наверное, и есть Лида Сиракова.
— Вы техник? — спрашивает она, оглядывая меня.
— Не совсем. Я из милиции.
— А-а, из милиции… Прошу вас, заходите!..
Она, по-видимому, скорее заинтригована моим визитом, чем испугана. Проводит меня в большую, светлую комнату. В ней царит артистический беспорядок. На всех стенах как попало развешаны картины — пейзажи и портреты, о художественной ценности которых я не берусь судить. Посреди комнаты на мольберте стоит большое полотно с едва намеченными контурами. На полу — палитры и тюбики с красками, кисти, баночки.
— Садитесь, — пригласила хозяйка, освобождая для меня стул, и, заметив мой вопросительный взгляд, прибавила: — Я, знаете ли, сейчас пытаюсь подражать нашим старым мастерам в смысле цветовой гаммы и сюжета…
— Ага… — кивнул я. — И долго вы намерены подражать?
— Все это учеба, — улыбнулась Лида. Художники бывают разные — декораторы, живописцы, графики. Я бы хотела быть театральным декоратором…
— Ага… — повторил я, сев на освободившийся стул. — Однако я не вижу у вас портрета вашего бывшего квартиранта.
— А знаете, вы почти угадали, — сказала Лида, снова улыбнувшись. — Я как раз собиралась написать его портрет, но сначала мне нужно закончить два больших пейзажа. Ничего, время у меня еще есть.
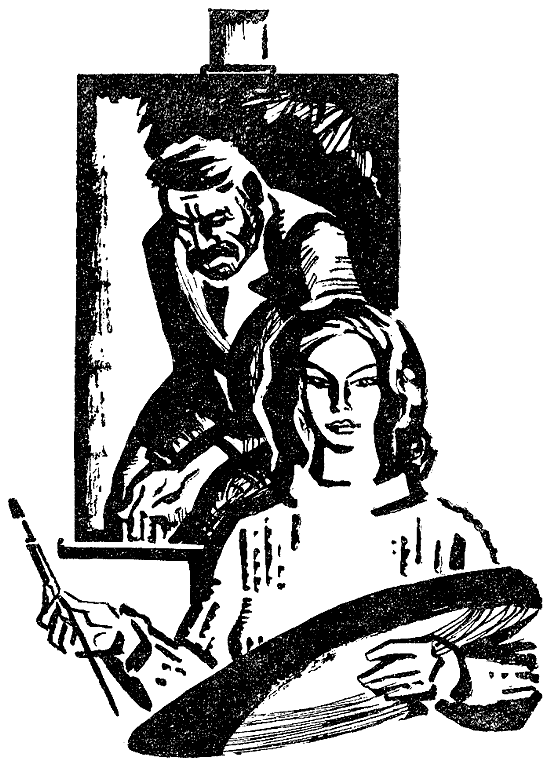 |
— Время есть, не спорю. Жаль только, что модели больше нет.
Художница испуганно взглянула на меня. Я кивнул:
— Вы угадали: да, он умер.
— Жаль…
— Вы о портрете? Или…
— Скажете тоже: о портрете…, — насупилась Лида. — Человека жаль. Хотя…
Она умолкла, вспомнив, наверное, старое правило: о мертвых плохо не говорят.
— Что хотя?..
— Он принадлежал к тем людям, которые вызывают не столько жалость, сколько страх…
— Страх?..
— Да, страх. Когда он молча сидел вон там в углу на стуле и я смотрела на него, на его длинную шею с выпирающим кадыком, на угасший и все-таки настороженный взгляд, на его нос, похожий на клюв хищной птицы, мне представлялся орел-стервятник… Таким мне и хотелось написать его — похожим на старую, сморщенную хищную птицу…
— Интересно… А часто он сидел тут у вас?
— Каждый день. В его комнате нет печки, а уже холодно, вот я и приглашала старика сюда, у меня потеплее. Он приходил, садился на стул в углу и так сидел часами, не шелохнувшись.
— Идеальная модель. А о чем он рассказывал?
Лида пренебрежительно сморщила носик:
— Что может рассказать такой, как он!.. Человек, вернувшийся из прошлого… Я так и хотела назвать портрет: «Человек из прошлого». Редкий экземпляр: грабитель и негодяй в чистом виде… А вы лично знали его?
— Да нет. Познакомился я с ним в зале для аутопсии.
Лида снова поморщилась:
— Это другое дело. Нужно было видеть его здесь, когда он сидел на стуле словно в полудреме и в то же время настороже. Человек, которому больше нет смысла грабить, которому некого грабить, у которого нет на это сил, но все рефлексы хищника живут в нем с той же силой.
— А у вас явная склонность к анализу. Наверное, это профессиональная наблюдательность, глаз художника. Так о чем, вы говорите, этот хищник рассказывал?
— Ну о чем он мог говорить? — с досадой в голосе сказала Лида. — Все у него вертелось вокруг одного — куплю новый холст, он сразу спрашивает: «Дорогие сейчас холсты? А краски? Много краски уходит на одну картину? А сколько, к примеру, можно получить за такую картину?» И все в таком же духе. Помню, писала я один пейзаж. «Кому ты его продашь?» — спрашивает. «Именно этот я продавать не собираюсь», — говорю. «Тогда зачем пишешь?» — «Мне приятно заниматься этим, вот я и пишу». Этого он понять не мог. Писать картины просто так, не будучи уверенной, что ты их сможешь продать, — это было выше его понимания, это не укладывалось в его мозгу.
— Интересно, — отметил я, стараясь сдержать вздох. — А что он рассказывал о себе?
— Ничего. Только однажды у нас зашла речь об этих годах, которые он провел в тюрьме. «Долго я сидел, — сказал он. — Но поделом мне».
— Разумное признание.
— Да, но на уме-то у него было другое. «Каждая глупость, — говорил он, — наказуема. Моя глупость заключалась в том, что я не убежал пятого сентября». Что ждать от человека, который не понимает, что вся его жизнь была бессмысленной и жалкой?
— И к тому же преступной, — уточнил я.
Наступила короткая пауза. Хозяйка вспомнила о своих обязанностях.
— Чем вас угостить? — спросила она. И, чтобы я не потребовал чего-нибудь сверхъестественного, быстро добавила: — Вообще-то у меня есть только коньяк.
«Единственное, что я пью», — чуть не вырвалось у меня. Но я вовремя вспомнил о служебном характере моего визита и стоически отказался.
— Мерси. Терпеть не могу алкоголя. Я закурил бы, если вы не возражаете и если в этих бутылках нет легковоспламеняющихся веществ.
— Курите на здоровье. Можете заодно и меня угостить.
Лида села на табуретку перед мольбертом и довольно неумело затянулась.
— Я, если честно признаться, не курю и не люблю табачного дыма, но говорят, что курить — это артистично… А вы как считаете?
— Как-то не думал об этом. А что еще в поведении Медарова обращало на себя внимание?
— Что еще?.. Больше всего меня удивляла его отчужденность от окружающего мира. Иногда я видела, как он после обеда возвращается из ресторана… Он туда заходил выпить мастики. Шел медленно, уставившись в землю, с палкой, в черном плаще, будто темная тень, тень прошлого, которая совершенно случайно попала в живую жизнь, на свет солнечного дня, одинокий человек из прошлого, изолированный от всего окружающего…
Лида говорила, жестикулируя рукой, в которой держала сигарету. Не красавица, но в ее чистом бледном лице и больших карих глазах было что-то очень привлекательное. Она довольно симпатичная собеседница, если отвлечься от ее склонности к углубленному психологическому анализу.
— У вас получился бы портрет, — проговорил я. — Хотя лично я не повесил бы такой картины в своем доме… Какой бы поучительной она ни была.
Лида улыбнулась:
— Картины пишут не только для того, чтобы украшать комнаты. Это человеческие документы…
— В наших архивах таких документов более чем достаточно. Не стоит слишком увлекаться такого рода натурщиками…
— Может быть, вы и правы, — проговорила Лида, бросив на меня быстрый взгляд. — А что вы думаете об абстракционизме? Меня интересует мнение неспециалиста…
— В таком случае спросите своего отца.
— О, мой отец! — Лида выбросила наконец сигарету в пепельницу. — У моего отца есть только одна-единственная тема для разговоров: мученический путь Константина Сиракова. Он, я полагаю, уже изложил вам суть дела?
— В общих чертах, — кивнул я. — А почему вы ничего не сделаете, чтобы помирить ваших родителей?
— Потому что я все-таки люблю их и не хочу потерять.
— Я вас не совсем понимаю.
— Если я помирю их, это будет означать, что они сразу умрут, непременно, в тот же день.
— Вот как!
— Конечно. Лишить моего отца позы мученика, запретить матери кривляться — значит превратить их жизнь в ад. Они не вынесут этого ни в коем случае.
— Хорошо, хорошо, — согласился я. — Вы их лучше знаете, и вообще это не мое дело.
Я поднялся, решив, что пора идти.
— Вы все-таки не высказали вашего мнения об абстракционизме… — заметила Лида.
— Я как раз уточняю его для себя. А что вы думаете о дактилоскопии?
— Ничего… — пожала плечами девушка. — И, кроме того, я не вижу связи…
— Не видите? Но отпечаток пальца — это почти абстрактная картина. С той лишь разницей, что отпечаток пальца может когда-нибудь пригодиться.
— Ага… Значит, вы не очень-то лестного мнения об абстракционистах. А вы знаете, что на Западе кое-кто рисует картины пальцами?
— Это интересно, — признал я. — Особенно если речь идет о пальцах ног. Но искусство — слишком широкая область, а я тороплюсь. Как-нибудь в следующий раз…
Я сделал три шага к двери и поднял руку, прощаясь. В этот момент художница предостерегающе крикнула:
— Осторожно, провод!
«Провод? Наконец-то!» — мелькнуло у меня в голове, и я взглянул под ноги. Оказалось, что я чуть не наступил на провод, лежавший на полу. Осторожно подняв оголенные концы его, скрученные в кольца, я вопросительно посмотрел на хозяйку.
— Я сделала это для электроплитки, — объяснила она. — Штепсель разбился, и я временно соединяю без штепселя. Обещали прислать мастера, чтобы проверил всю проводку и поставил штепсели, но никто не идет к нам, не торопится…
— Такая мелочь может убить человека, — проговорил я сухо, положив провод на пол.
— Наверное… — улыбнулась Лида. — Только зачем убивать человека?
На такие вопросы я отвечать не привык, взглянул на нее испытующе. Есть люди наивные, есть другие — притворяющиеся наивными. Разницу между этими двумя группами сразу не обнаружишь.
— У кого, кроме вас, есть ключ от ателье?
— У отца. У него второй ключ.
Я снова поднял руку и вышел на лестницу. Вслед мне донеслось:
— Заходите еще!
«Может, так оно и будет», — сказал я себе мысленно, быстро спускаясь по лестнице. Хотя и нежелательно, ибо это задевает мое профессиональное самолюбие. Если с одним и тем же свидетелем приходится разговаривать второй или третий раз, это, как правило, означает, что ты недостаточно продуманно разговаривал с ним в первый раз.
Солнце грело с необычным для осени энтузиазмом. Школьники шатались по улицам, явно забыв об уроках на завтра. Я тоже не выучил урока и решил использовать свободное время, чтобы забежать в управление.
После солнечной роскоши улиц канцелярия показалась мне хмурой и темной. Деловая атмосфера! Я бросил плащ на стул и взял телефонную трубку. Мне нужны сведения о некоторых людях, их адреса, кое-какие детали биографий.
Разговаривал я недолго. По этому можно судить, что деталей этих было немного. Когда-то в начале службы это медленное, болезненное начало расследования приводило меня в отчаяние. Ты словно бежишь во сне — напрягаешь все силы, а ноги от земли не отрываются. Потом я привык, точнее — понял, что в такой работе, как наша, нервничать по пустякам нельзя, что работа состоит именно из тысячи таких вот мелких, на первый взгляд незаметных и малозначительных деталей, из проверок и перепроверок. Это отнюдь не соревнование с невидимым и нераспознанным злоумышленником. Где еще бывают такие соревнования? Судья лениво поднимает флажок и говорит: «Вперед!» Ты оглядываешься, но, кроме тебя, на беговой дорожке никого нет. «А где соперник?» — спрашиваешь ты. «Он уже давно побежал», — отвечает судья-стартер, не давая себе труда уточнить, когда именно побежал твой соперник.
Итак, этот «другой» опережает тебя с самого начала. Главное, во времени. У него есть возможность не только спокойно обдумать свое преступление, не только осуществить его, но и употребить все силы на то, чтобы замести следы. После этого тебе говорят, что можно стартовать. На первый взгляд дело безнадежное. Но так думают только самые нетерпеливые и слабые духом, ибо этот «другой», совершив все, что намеревался, может только ждать твоего хода. Он не в силах ни исправить содеянное, ни избежать ошибок, которые он уже допустил. А ты можешь действовать любыми путями, испробовать все способы следствия, все приемы, нужно только научиться видеть дальше кончика своего носа.
Я взглянул в окно на небо, которое начало уже темнеть. Есть же счастливые люди! В это время они собираются идти домой. Моя знакомая, например, в это время, наверное, складывает в портфель стопку тетрадей с контрольными работами и выходит из школы. Не помню, говорил ли я вам, что она живет в Пернике. Это рукой подать, если иметь в виду современный прогресс транспорта. Не будь у меня неотложных дел, я сегодня же отправился бы туда.
Был я там лишь однажды, совсем недавно — в эту пору год назад. Я как раз тогда завершил одно дело, и мне показалось, что пора заняться и личными делами. Вы, наверное, уже догадались, что я не к тетушке своей в гости собирался. Направился я, значит, на вокзал. На площади Ленина на трамвайной остановке заметил магазин цветов и вспомнил, что с пустыми руками в гости не ходят. Зашел в магазин и наугад указал на цветы:
— Прошу вас, сделайте хороший букет.
Девушка подняла на меня глаза.
— Умер кто-то из ваших близких? — с сочувствием в голосе спросила она.
Ненавижу я людей, которые любят всех обо всем расспрашивать. Есть профессии, где без этого не обойтись, но, мне думается, продавщицы цветочных магазинов не относятся к людям таких профессий. И что это со мной все разговаривают о мертвых?
— Никто не умер, — сухо сказал я. — С чего вы взяли?
— Я только спросила, — ответила девушка. — Такие цветы покупают чаще всего для похорон…
— Гм… Я не знал, что в цветах есть такое четкое разграничение функций. Мне нужны цветы для молодой дамы. Живой. Живой и здоровой.
— Так бы сразу и говорили, — улыбнулась девушка. — Тогда я сделаю букет из гладиолусов…
— Делайте из чего хотите, — сказал я. — Только чтобы букет был красивым и чтобы я получил его до наступления ночи…
Букет действительно вышел красивый. И большой. Правда, я боялся, что кто-нибудь из коллег может увидеть меня на вокзале с этой флорой, которую я прижимал к груди, как маленького ребенка. Как бы там ни было, но профессиональная ловкость помогла мне проскользнуть в вагон и прибыть в Перник инкогнито. Тут, однако, меня ожидало новое испытание.
— Ее нет, — сказала хозяйка, удивленно разглядывая букет, завернутый в целлофан.
— Где же она?
— Не знаю. Она ничего не говорила. Если ее в школе нет, значит, наверное, поехала в Софию к матери.
— Ладно, — сказал я. — Пойду в школу. А если она тем временем вернется, скажите, что ее хотел видеть Антонов и что он зайдет еще раз. Кстати, где школа?
Хозяйка охотно и толково объяснила мне, как пройти к школе, все еще удивленно разглядывая букет. Можно подумать, что она впервые видит гладиолусы.
Моей знакомой не было и в школе. Повторная проверка показала, что домой она не возвращалась. Самым правильным было бы отправиться в обратный путь. Хорошо, а цветы? Одна мысль, что мне придется опять ехать в поезде и трамваях с этим огромным сентиментальным букетом, приводила меня в ужас. Можно было бы, конечно, швырнуть его в урну. Но это показалось мне проявлением малодушия. Этот букет принадлежал не мне. Он принадлежал ей — в этом вся загвоздка!
Я зашел в кафе, сел у окна и, не отрываясь, смотрел на улицу, ведущую к вокзалу. Молодые люди, сидевшие за столиком напротив, глядели на меня не без злорадства: «Ждет, дуралей, а она не идет». Я встал и вышел из кафе, прошелся еще раз по улицам, делая вид, будто внимательно изучаю город — славный центр героического шахтерского края. Но всю картину портил букет: кто же изучает шахтерский край с букетом гладиолусов в руке?
Настало время обеда, и это несколько облегчило мое положение. Я зашел в ресторан и хотел было сдать цветы в гардероб, но оказалось, что их некуда положить. Итак, букет стоял передо мной на столе. И опять-таки на меня были обращены многозначительные взгляды и полуулыбки, тем более откровенные, что сидел я там порядочно времени. Нужно было снова изменить место моей дислокации. Третья проверка в доме — и третья неудача. После этого снова прогулка по улицам и изучение шахтерского края. Я уверен, что весь город меня запомнил. «Этот, с букетом», — говорили они, наверное, когда речь заходила обо мне. Милиционер на площади не раз провожал меня подозрительным взглядом.
Начало темнеть. Ночь даст прибежище страдальцу! А главное, укроет букет от косых взглядов. Более того, для прогулок туда-сюда я выбрал самую темную улицу в городе. После последней безрезультатной проверки в доме вышеупомянутой особы я решил наконец пойти на вокзал.
Вокзал был ярко освещен. Только что подошел поезд, и люди высыпали на привокзальную площадь. Я поискал глазами укромное местечко, где я мог бы пересидеть до его отправления, как вдруг услышал знакомый голос:
— Боже мой, Петр!
— Да, — подтвердил я. — Это я.
— Бедненький! Ты здесь давно?
— Да нет, с утра.
Тут моя знакомая заметила, что у меня заняты руки.
— Какие красивые цветы… — сказала она, хотя букет походил сейчас скорее на веник.
— Это тебе, — сказал я торжественно.
Знакомая была, очевидно, растрогана, хотя и не показала виду, за что я ей сердечно благодарен. Она никак не могла поверить, что я здесь, рядом с ней, на перникском вокзале. И это было вполне обоснованно: с тех пор как я пообещал ей, что приеду через день-другой, прошло несколько месяцев.
Посовещавшись, мы решили, что можем пообедать в ресторане. Обратный путь был для меня маленьким триумфом. Я уже не избегал освещенных мест и взглядов туземцев. Напротив! Смотрите сколько угодно. Встреча, как видите, состоялась.
Да, встреча состоялась. Удовлетворенно отметив это про себя, я взглянул в окно. Темнеет. А у меня еще столько дел. Я посмотрел на часы, поднялся, надел плащ и натянул на глаза шляпу, чтобы все знали, что меня ждут серьезные намерения, а не сентиментальная экскурсия в прошлое.
Я ступил на другой путь, который именовался «Танев».
(support [a t] reallib.org)