"Не отверну лица" - читать интересную книгу автора (Родичев Николай Иванович)
СЕРДЦЕ МАТЕРИ
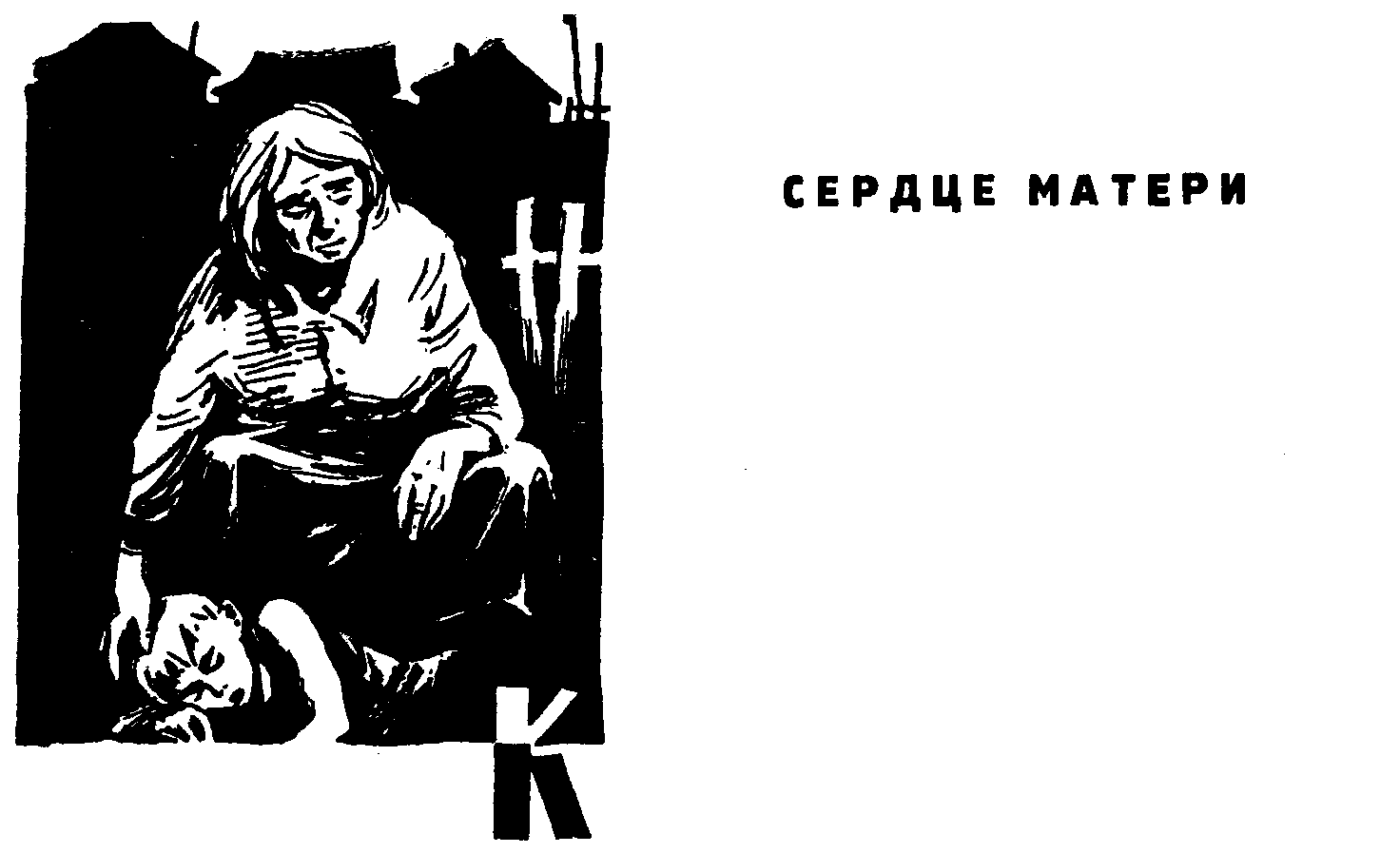 |
Кажется, не успели еще остыть на проселочных тропах Суземья следы босых наших ног; чудится порой ржание лошадей за ночными кострами в пойме речушки Сев; нет-нет да послышится в далеком лесном эхе тревожный голос:
— А-у! Степка! Где ты, сынуш-ка-а?..
Был у нашей соседки Пелагеи сын по имени Степка. Один он у матери был. Но не больно холила она Степку. Махонький он удался сызмальства, долго в росте отставал от своих однолеток. Нестриженым и босым бегал: рыжие волосенки вразброс на макушке, ноги в цыпках. Одна штанина до колен завернута, другая по сбитым щиколоткам хлопает. А глазенки у Степки как две синие пуговицы. Зайчики в них солнечные то расплываются, то вдруг колючими становятся, пронзительными.
Отец у него совсем тихоней был: мухи не обидит. Лесником служил, за природой наблюдал... Убили браконьеры.
С той поры тетка Пелагея пуще глаз своих берегла Степку, неохотно отпускала его от себя. А отпустит — целый короб сердитых слов наговорит: и в воду не лезь, где глубоко, и в драку не суйся, и в разговор поперед взрослого со своим словом не встревай.
Куда уж ему со взрослыми водиться, если он в ребячьей компании тише воды, ниже травы. Мы и в картишки на лугу иной раз срежемся, и огород чей-нибудь обнесем, а Степка всегда вроде ни при чем. Сидит себе в колдобинке да по ивовому прутику черенком ножа постукивает. Дудочки мастерил. Вырежет, посвистит сам немножко и отдаст кому-нибудь. Лишь бы нашелся такой добрый человек, которому музыка его полюбилась.
Единственное, что позволял себе Степка, — это стрелять из лука. Редко кто из деревенских ребят нашей поры луком не баловался. Но чуть подросли — родители нам свои старенькие ружьишки дарили и на охоту с собою брали. Не с кем Степке охотиться да и ружья ждать неоткуда. Зато из лука паренек мог яблоко с ветки сбить в саду, птицу на лету доставал.
А еще он удался на сон некрепким. Ребятня наслушается, бывало, у костра в ночном россказней всяких о ведьмах да леших, картошки печеной поест всласть — и спать впокат на свежем сенце. Степка последним ложится. Проснемся на заре: костер вовсю пылает и куча сушняка взапас наношена. Степка сидит себе, как ни в чем не бывало, картофелины в золе палочкой поворачивает.
Однажды он прямо удивил нас. Пробудились мы ночью, как по тревоге: лошади спутанные ржут, к костру сбиваются. А Степка по лугу с горящей головешкой носится, как шальной. Оказалось, волчица с выводком в табор пожаловала. Нет бы поднять всех нас, а он схватил головню — и один на зверя...
Ох и досталось Степке от матери за это! Забоялась пускать сына в ночное. Работу ему посмирнее приискала: за соседской девчонкой-ревушкой глядеть. Ну и потешились мы тогда над ним! Не мальчишечье это занятие вовсе. А Степке вроде все равно. Сидит целыми днями на завалинке, дудочки сверлит или наконечники к стрелам о кирпичик точит.
Но вскоре о Степке снова заговорили.
Повадился в нашу деревню беркут. И откуда только принесло его такого: в крыльях сажень добрая, носище что серп, лапы когтистые, с человеческую ладонь. Зачнет ходить кругами над деревней — жди беды. Курицу подхватит, и ягненку в его когтях не сдобровать. Засаду сколько раз делали, бьют мужики из ружей — все мимо да около.
Беркут и совсем обнаглел. То ли со старых глаз, то ли силу свою дурную испробовать надумал, на девчонку эту самую набросился. Степка как раз к завалинке отошел, просмоленный наконечник надо было ему в пыли обкатать, чтобы затвердел получше и гвоздь крепче в нем держался.
Кинулся Степка на беркута, колотит его по крыльям стрелою, девочку от когтей загораживает. А беркут не отлетает, клювом над головой у него щелкает. Хорошо, что девочка закричала. Люди сбежались, ругают Степку: чего, мол, такой-сякой на помощь не зовешь?
А он и сам не знает, почему: забыл с перепугу.
Долго не заживали на плечах следы от острых когтей хищника. Крепко рассерчал Степка на беркута. Чуть свет — он уже во дворе, зоркими глазенками по небу шарит. Все примечает: откуда поутру прилетает хищник, куда с добычей направляется; когда понизу стрижет черными крыльями, когда из-за облаков комом валится. Иной раз увяжется Степка вслед за птицей и на полдня пропадает. Ножик отцовский охотничий на чердаке отыскал, наточил об камень.
Соседка уже стала на него за девочку обижаться: мол, никакого толку от такой няньки.
И вдруг пропал Степка. Обед мать приготовила — нет сына. Ужин в нетронутых мисках остыл. Когда совсем завечерело, пошла тетка Пелагея со своей докукой по дворам. И вот — одни к речному перекату с баграми отправились, другие по лесу цепью разошлись. Впереди тетка Пелагея: подол юбки за пояс подоткнут, босиком, как лен полола. Хрипит она уже от крика:
— Сынка! Степка! Вернись, родненький!
— А-у, а-у! — разносятся по сумеречному лесу голоса.
К утру все разошлись по домам ни с чем. Ни спать, ни есть неохота, и работа в руки не идет. В глаза друг другу не глядят. Не Степке ровня — взрослые погибель находили в лесных болотах.
На другой день опять по лесу да к речке, и снова то же самое. Тут уж кое-кто стал успокаивать тетку Пелагею: мол, неровен час... все под крестом ходим.
Только она и слушать ничего не хочет. Знай свое: мечется по окрестностям. Глаза от слез и бессонья красными стали, на ровном месте спотыкается. Крикнет на другом конце села мальчонка какой — бегом туда бежит. Волки завыли ночью — через огороды напрямик в поле ударилась. Все чудится ей, что Степка отзывается: волчица его будто рвет...
Уже обхожены ближние деревни, и спрашивать больше некого и надеяться не на что. Тетка Пелагея на работу с подружками вышла. Горько ей было: волосы на голове в кудельку спутались, глубокие складки у рта залегли, синие круги под глазами... Пробовали ее разговорами душевными увлечь. Вроде слушает, даже слово-другое уронит. А сама вбок да вбок посматривает. И вдруг спросит:
— Степки-то мово не видели?..
Пугаться ее стали. А иной раз скажут:
— Придет Степка! Куда ему деваться?
Но никто уже не верил, что Степка жив.
На рассвете после четвертой ночи в окна нашего дома отчаянно забарабанила чья-то твердая рука. С улицы донесся громкий шепот:
— Сынка вернулся! Слышите?
Этому можно было и поверить, если бы тетка Пелагея не захохотала: жутко, на всю улицу.
Отец кинулся в сени, загремела железная щеколда. На крыльце послышалась возня. Отец уговаривал несчастную женщину войти в наш дом, передохнуть с устатку.
— Эк израсходовала ты себя, сердешная! — то и дело приговаривал отец.
Но тетка Пелагея, дико хохоча и расталкивая людей, упрямо шла от окна к окну. Отец грузно переступил порог, потоптался на одном месте, вздохнул, выругался. Увидев, что я не сплю, он походя рванул меня за ухо.
— Глядеть вам друг за дружкой велено... Во как по вас матеря убиваются.
Мать тоже завозилась на кровати, вспоминая обо мне что-то нехорошее.
Раньше отец никогда и пальцем меня не трогал. Левое ухо мое, говорят, до сих пор темнее правого. Но в эту минуту мне хотелось, чтобы меня били, говорили обо мне что попало. Только вернулся бы Степка!
Комната наполнилась табачным дымом, окна посветлели. Отец все сидел на пороге в исподнем. Мать тоже встала, загремела печной заслонкой. И вдруг нас словно ветром вымело из дому.
Мимо окон шли и шли люди. Они разговаривали громко, выкрикивали что-то, даже смеялись. Почти неделю мы не слыхали в деревне смеха.
У избы тетки Пелагеи собралась целая толпа. Все молчали, образовав полукруг, или перешептывались совсем тихо. Где-то там, за сомкнутыми плечами, было диво. Я прошмыгнул между чьими-то расставленными ногами и очутился в центре полукруга. Можно было и не верить этому, как не верили многие, но у пыльной завалинки лежал распластанный Степка. Лицо его сильно изменилось от худобы и сгустков запекшейся крови. Рядом со Степкой валялась огромная бездыханная птица с хищно раскрытым клювом. Полуобнаженное тело Степки было накрыто крылом этой птицы.
— Тихонько, милые! — по-голубиному ворковала над сыном Пелагея. — Сын вернулся. Он спит.
И спустила, точно дерюжку, крыло беркута на ноги сыну. Ноги Степкины были в ссадинах и цыпках.
Пороли нас целую неделю. Деревня наполнилась детским ревом. Били за все наши грехи, которые запомнились родителям с пеленок, жестоко наказывали по подозрению, нещадно всыпали авансом. За одну неделю ребята нашей деревни стали самыми умными мальчишками на свете. Даже восхищаться Степкиным беркутом мы могли только тайно, потому что дело это считалось строго наказуемым.
Не битым остался лишь Степка. Мать прижимала его лохматую голову к своей груди и словно не замечала, что делается вокруг. Это было явно непедагогично, но и беркута она не отдала разгневанным родителям, которые хотели разбросать его по перышку. Степка отнес его в школу.
Степка сильно изменился после этого случая, даже разговорчивее стал. Его как-то сразу погнало в рост. За два-три года он догнал самых долговязых подростков. Увлекся книгами: все про Луну читал. Посветлел, покорился расческе его рыжеватый вихор. Синеватые зрачки еще больше потемнели. Костерки в них поярче разгорелись.
Тетка Пелагея совсем успокоилась. Лишь вспоминать о беркуте не хотела. Когда о Степкиной охоте заговорят при матери, она вздрагивала, как от удара, зябко поводила плечами.
— Пойду-ка погляжу, что мой малый делает, — говорила она и сразу удалялась к дому. В глазах ее загорался нездешний свет.
...Заухали огненные филины на лесных дорогах, замелькали над деревней стальные крылья залетных беркутов с черными крестами.
Повез Степка колхозный хлеб на станцию да не вернулся, подводу другие пригнали. Письмо с дороги отправил: не волнуйся, мол, маменька. Так получилось все непредвиденно. Шел эшелон на фронт, и командир согласился его с собою взять... Больно приглянулся ему Степка...
Притихла, сцепила зубы Пелагея, натянулась как струна. Письма от Степки за пазухой носит да еще рукой придерживает, чтобы невзначай не выпали.
Вслед за Степкой потянулись к военкомату другие парни, что постарше. Все, как есть, в одночасье ушли мужчины, а с ними и мой отец. Осталось с десяток подростков, вроде меня, да деды. Остальные все — женщины с малышами. Как мы завидовали старшим братьям и отцам! А больше всего Степке — и здесь он на виду оказался! Да еще раззадоривает нас, пишет: в разведку ходил, с настоящим автоматом трофейным вернулся! Благодарность от командира полка заслужил. А командир тот вместе с Чапаевым воевал. Ну и ну!..
Но подоспело и наше, время. Враг приближался. По ночам мы вывозили в лес мешки с мукою, какие-то ящики, переданные нам на станции. Все село готовилось в партизаны. Мне уже объявили в райкоме комсомола, что зачислен в особый тыловой отряд, который развернет свои действия, если оккупанты пожалуют на Суземье... Скажут же такое: фашисты придут сюда! Да их расколошматят еще под Минском, там, где Степка, где отец.
Но раздумывать было некогда. В лесной чащобе день и ночь стучали топоры, туда шли подводы. Какие-то люди в военном рыли окопы вдоль дорог, закладывали мины под мостами.
За делами я совсем забыл о тетке Пелагее. Да и сама она то часто ходила, а то совсем глаз не кажет на люди. Недели через три я все же вырвался на часок.
— Ну как там Степка? — выпалил я весело. — Что новенького пишет наш разведчик?!
— Степка в обороне сейчас, — знающе объяснила тетка Пелагея. — На Днепре стоит Степка, немца не пущает. Вот носки ему шерстяные вяжу. Захолодает скоро...
И опять уткнулась в свою работу. Голова ее склонилась еще ниже, руки зашевелились быстрее. Она изредка подергивала ниточку, нитяной клубок перекатывался в подоле. Что-то мне не понравилось в ее позе тогда. Но я не мог остановить своего внимания даже на том, что тетка ни разу не взглянула мне в лицо. Я запомнил только: клубок ее и вязанье были чисты, как снежок. «Не многие в нашей деревне могут так выварить в щелочи шерсть, так выбелить пряжу», — подумал я с восхищением. Все так же не глядя на меня, тетка Пелагея достала из-за пазухи зеленый конверт и, положив на уголок стола, приказала строго:
— Читай вслух!
Я не заставил себя долго упрашивать.
— «Здравствуйте, наша добрая мама, Пелагея Сидоровна, — бойко начал я. — Мы, командиры и бойцы сто девяносто пятого полка, сообщаем, что Ваш сын, Степан Федосеевич Чураев, хра... хра... храбро...»
Тут я внезапно осекся. Дыхание остановилось. Я машинально пробежал глазами весь текст недлинного и жестокого послания войны. Потом пробовал прочесть его сначала, но буквы уже запрыгали перед глазами. А тетка Пелагея все шевелила спицами, не меняя позы. И только сейчас я заметил, как белы ее волосы, как похожи они на разложенную в подоле пряжу. Может, поэтому и лицо показалось землистого цвета.
«А что, если она еще не знает?» — обрадованно подумал я. Руки мои уже сгребли со стола и письмо, и конверт. Гадко разыгрывая из себя очень выдержанного человека, я стал любезно прощаться с хозяйкой дома.
— Будь здоров, соколик! — хрипло отозвалась тетка Пелагея. — А письмо-то положи на место. Слышишь? У людей нынче и свово горя хватает. И кепку не позабудь, она тебе в партизанах сгодится... Я кинулся к ней:
— Тетя Поля! Родненькая!..
Она задержала меня спокойным суровым взглядом:
— В обороне Степка! Слышишь? Вернется он...
Тогда в нашей деревне еще не научились не доверять казенным бумагам. В особенности, если речь шла о гибели на войне. Да о Степане-то не какой-нибудь заскорузлый канцелярист сообщал на заготовленном бланке. Это было совместное письмо с подписью командира и комиссара. Там же поставили свои фамилии несколько бойцов, вероятно служивших в одном подразделении с разведчиком Степаном Чураевым. Они писали о готовности стать сыновьями Пелагеи Сидоровны, вырастившей такого замечательного друга им и защитника Отечеству.
После я не один раз слышал женские причитания в избе Чураевых. То кричала не тетка Пелагея. К ней спешили со своим горем овдовевшие солдатки, чтобы выплакаться на ее твердом плече, услышать от нее, может быть, совсем несбыточные, но сохраняющие надежду слова:
— Вернутся они!.. И твой придет, и Степка вернется!..
Почти два года продержались оккупанты в нашей местности. За это время деревня, а потом уже то место, где была деревня, шесть раз переходила из рук в руки. На прежних пепелищах в первые дни после освобождения мы всей бригадой срубили избу Степкиной матери, тетке Пелагее.
Не сразу заживали полученные в боях раны. Не вдруг поднялась из пепелища деревня.
Есть в нашем краю и такие женщины, которые быстро свыклись с потерей мужей на войне, вышли замуж, растят детей.
И лишь тетка Пелагея жила своими надеждами на встречу с сыном и, кажется, совсем позабыла в таких думах о себе. Да и годы брали свое. Сгорбившаяся, припадая к клюке, будто несла на своих плечах горе всех матерей на свете, она и сейчас ходит по деревне, посматривая по сторонам обезумевшим взглядом.
Как-то в середине дня она постучала палкой по наличнику окна.
— Эй, сельсоветчик! — глухо прокричала старуха. — Иди-ка гостей привечай!
Некоторые уже привыкли к ее больным чудачествам и не откликались. Я не позволял себе такого. Вышел на крыльцо и, присмотревшись в ту сторону, где изба Чураевой, увидел двух военных. Рядом с высоким, худым сержантом, тесно прижавшись к нему и как бы подпирая его, стояла девушка в полушубке и ушанке. «В командировку, наверное, — подумал я. — Или в отпуск кто-либо из ближних деревень. К бабке Пелагее на ночлег нельзя: подурнела она за последнее время. Да и для нее это одно расстройство...»
Я медленно сошел по ступенькам вниз, так же не спеша двинулся вперед, ощупывая глазом каждую колдобину на обледенелой тропе. Может, потому, что идти пришлось не подымая головы, к дому бабки я приблизился незряче. Когда вплотную оказался перед военными, почти в упор встретился... с глазами Степки... Передо мною снова засветились два озорных ребячьих костерка.
Меня как-то качнуло сбоку набок. Я вдруг почувствовал, что проваливаюсь в бездну. Нас все же разделяло какое-то пространство, потому что мне захотелось бежать к этим костеркам. Я ринулся вперед, закричал. То кричало во мне все мое существо:
— Степка! Степка пришел!
Я уже не чувствовал, как подвернулся протез, как я полз по снегу к Степке, хватал его за полу шинели, за руки. Девушка в полушубке помогла мне подняться. Она же затем настойчиво оттерла меня плечом от Степки, боясь, что я задушу его.
— Осторожно, товарищ! — напомнила она. — Степану Федосеевичу не можно волноваться... Будь ласка, без резких движений.
Нетрудно было догадаться, что это медсестра. Да и сам Степка бледный, постаревший, весь пропах йодоформом.
Чересчур уж серьезной показалась для первого раза медсестра эта!
— К-командуешь здесь? — заикаясь и вообще каким-то чужим, завезенным издалека голосом спросил Степка. — А к-как же отец?
Я промолчал.
А по деревне шли и шли люди. Казалось, все живое вопило: «Степка Чураев живой! Степка вернулся!»
Впереди нестройной толпы шла, почти не опираясь на клюку, гордая и молчаливая бабка Пелагея.
Медицинской сестре, сопровождавшей Степку из госпиталя, пришлось бы худо, не догадайся она упрятать его в избу.
Но и лежащему на материнской кровати Степке не предвиделось покоя. Каждый хотел хоть пальцем дотронуться до него, как до святого. Ахали, поздравляли, целовали его и друг друга. Степка весело поглядывал в изумленные лица односельчан, сам удивлялся, отгадывая имена повзрослевших детей.
Не знаю почему, но я вскоре очутился сзади всей этой счастливой публики. В избу входили все новые и новые люди, проталкиваясь вперед. Ребята даже на печку залезли, чтобы лучше видеть.
Внезапно я обнаружил, что на том месте у кровати, где сидела медсестра, домовито расположилась сияющая бабка Пелагея. Приглядевшись получше, я убедился, что медсестры вообще нет в избе.
Решил выйти покурить. Я прошел через сени к двери, распахнутой во двор. Наверное, долго стоял там, опершись о притолоку, глотая табачный дым, бессмысленным взглядом созерцая кур, разбредшихся по двору. До моего сознания с беспощадной ясностью вдруг стало доходить то, что можно было угадать по бескровному лицу Степана и по горестно-озабоченным глазам медсестры. Странные иногда запоминаются подробности: девушка ни разу не улыбнулась, видя счастливые лица односельчан Степана. Знает ли она, какую радость доставила Пелагее Сидоровне да и всем нам?
Заглянув внутрь сарая, я остолбенел: медсестра лежала на соломе, уткнувшись лицом в согнутую руку. Плечи ее вздрагивали.
Почувствовав шаги, она приподнялась на локте, заслоняя от меня ладонью свободной руки зареванное лицо.
— Ради бога, ни о чем не спрашивайте меня, — умоляющим тоном проговорила она.
Предупреждение это было лишним. Едва ли я смог бы в эту минуту спрашивать ее о чем-либо. Я повернулся, чтобы уйти, но девушка попросила окрепшим голосом:
— Вытрите себе лицо, мужчина... И помогите мне встать.
Я выполнил ее желание.
— Как вас зовут? — зачем-то спросил я, не выпуская ее руки.
— Одарка, — улыбнувшись лишь уголками губ, ответила она и посмотрела на меня большущими, со снежными искорками в глубине, карими глазами.
О, сколько тоски могут вмещать иногда женские глаза!
— Когда вы уезжаете?
— Завтра утром.
Одарка опять взглянула на меня, и снова мне стало холодно от ее взгляда.
— Пришлю за вами сельсоветскую подводу...
Она не ответила, машинально сбрасывая с рукава приставшие соломинки. А я все еще не отпускал другую ее руку, то ли пытаясь передать Одарке свою душевную стойкость, то ли ища поддержки у нее самой.
— Спасибо вам, Одарка... Спасибо душевное за то, что вы... за то, что вы довезли Степана сюда живым. Он очень нужен нам здесь. Какой есть, какой бы он ни был...
Вечером Одарка рассказала мне подробности Степкиного ранения.
— Один он остался у переправы... Все ждал, когда наши разведчики с того берега речки приплывут. А тут вместо своих немцы в лодке... Гранатой он оглушил их, да не всех. Трое на одного кинулись... Подобрали его в камышах бойцы из другой части. В госпиталь привезли чуть живого. Врачу не удалось вытащить из тела всех осколков. Особенно опасен был один — у самого сердца. Он до сих пор там и перемещается...
Долго, очень долго боролись мы за его жизнь. А больше нас он сам боролся. Из переписки со штабом его части мы узнали, что похоронная отослана. Я сразу приготовила письмо Пелагее Сидоровне и даже дала почитать Степану, когда он пришел в сознание. Но врач спрятал это письмо в столе: стоит ли дважды травмировать сердце матери?..
Наутро Одарка ушла пешком на станцию, отослав назад подводу и даже не попрощавшись со мною.
...С той поры на Суземье что ни мальчик, то Степан.
Пелагея Сидоровна жива доныне. Ежедневно, покончив с нехитрыми домашними делами, она обходит те тропки, по которым бегал ее рыжеватый босоногий Степка. И хотя она, выйдя из дому, на несколько минут замирает у невысокого холмика, всегда убранного живыми цветами, тревожный взгляд ее испытующе останавливается на встречных людях. Она как бы спрашивает с надеждой: «Ты — не Степка?»
Я не знаю человека в нашем краю, который решился бы сказать ей, что он — не Степка.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |