"За языком до Киева" - читать интересную книгу автора (Успенский Лев Васильевич)
ЕЩЕ РАЗ РАЗНОЕ
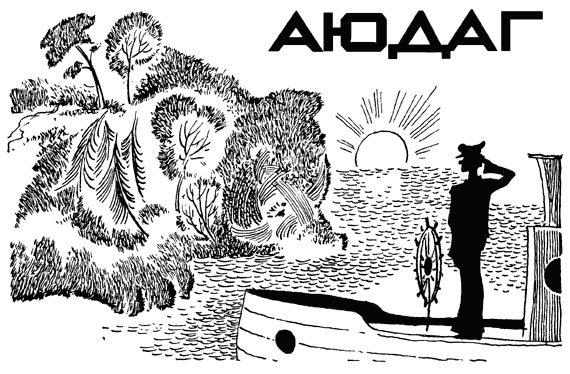 |
Есть у нас в народных говорах такое слово: «спорышка». Оно означает «двойчатку», «двойной орешек», а также всякий двойной плод: два яблока, две морковки, сросшиеся вместе…
Человеку свойственно в окружающем его пестром множестве саморазличных предметов выделять их тесные сочетания, устанавливать между ними связи, может быть далеко не всегда заложенные в них природой, а там, где они ею намечены, подчеркивать их и придавать им такое значение, какое ему самому представляется по той или иной причине вероятным, естественным или желательным.
Склонность человеческого восприятия находить вокруг себя какие-то внутренние интимные связи между вещами отражается и, очень любопытно, в топонимике.
Я подумал о поэтическом отражении этой склонности. Мне вспомнился «Спор» Лермонтова.
В Кавказском хребте много великолепных горных вершин. Две из них — ЭЛЬБРУС, или ШАТ-ГОРА, и КАЗБЕК — издавна выделены из «толпы соплеменных гор» народным сознанием. Причина тому не в их абсолютной высоте (Эльбрус — 5633, Казбек — 5047 метров). Есть на Кавказе вершины, превышающие Казбек (Шхара — 5201, Дыхтау — 5148 метров). Причина скорее в том, что оба гиганта поднимаются у начала и у конца всей величавой горной цепи. Так или иначе, именно эти вершины народы, жившие у подножия, всегда рассматривали как своеобразных «братьев», как двух старейшин могучего племени вершин, и Лермонтов, столкнув именно их в своем «Споре», шел тут только по следам народного восприятия.
Поэт не повторил уже существующую легенду, он сотворил ее сам, но сотворил в том же духе, в каком творит народ.
Лермонтов не был первым и не был последним в обыгрывании географических объектов. Поэт другого масштаба и другой значимости, К. Бальмонт, уже в начале нашего столетия пленился простым географическим фактом: три большие реки нашей страны — ЗАПАДНАЯ ДВИНА, ВОЛГА и ДНЕПР, изливая свои воды в три далеких моря, начало берут примерно в одном и том же месте:
Опять на наших глазах сотворена сказка, легенда, не существовавшая в народе, но навеянная народным творчеством. Правда, бальмонтовское стихотворение никак не может ни по своему содержанию, ни по значению равняться с лермонтовским, но сейчас не это важно. Существенно то, что снова три случайно сближенных природой географических объекта послужили поводом для поэтического объединения.
В обоих случаях речь идет о самих предметах, не об их именах.
Истинно же народные «спорышки» представляют собою явление не географическое, а топонимическое и, на мой взгляд, должны расцениваться как явление своеобразное и интересное. Интересное именно с точки зрения психологии географического называния.
В архипелаге Бонин (Огасавара), принадлежащем Японии (после второй мировой войны оккупирован США), имеются три группы островов, называемых каждая по крупнейшему своему острову ТИТИ (отец), ХА-ХА (мать) и МУКО (сын).
Я не знаю, существует ли какое-либо объяснение их названий в японском фольклоре, но можно поручиться, что оно есть. Почти наверняка и на самом архипелаге и у мореплавателей-азиатов, с незапамятных пор бороздящих тамошние воды, имеются какие-либо легенды, связанные с названиями островов. Нельзя представить себе, чтобы три имени, столь тесно связанные по смыслу, возникли просто так, благодаря какой-либо случайности.
Вот на том же Дальнем Востоке, но в совершенно иной высокогорной стране, в Тибете, неподалеку друг от друга высится грозный пик ТОРГОТ-ЯП, что значит на местном языке «отец Торгот», и лежит горное озеро ДАНГРА-ЮМ. Озеро, одно из самых значительных в Тибете, издавна числится священным. И неудивительно: по тибетским легендам, оно и поднимающийся к югу от него Отец Торгот — супружеская пара, прародители всей земли, и в частности семьи гор, возвышающихся поблизости их милых дочерей.
Поклонение озеру столь велико, что еще совсем недавно вокруг него (а его окружность почти 300 километров) устраивались периодически своеобразные крестные ходы, называемые «кора». Совершивший кору получал отпущение самых черных грехов, до убийства и даже отцеубийства включительно.
Многим известно прелестное имя одной из первого десятка высочайших вершин в Альпах — ЮНГФРАУ (молодая женщина). Значительно менее известно, что по соседству с ней, облеченной в вечно сверкающую снежную одежду, поднимается вторая — МЕНХ (монах), сложенная из темноцветных каменных пород.
Опять-таки я лично никогда не слыхал никакой легенды, связанной с этой парой вершин, но можно утверждать без опаски, что жители ближних долин знают их немало. Почти наверняка речь в них идет о светлокудрой красавице, соблазнившей одетого в черную рясу отшельника, а может быть, об отвергнутом любовнике, покинувшем мир из-за неразделенной любви к прекрасной даме. Даже полагаю, что, когда эти строки увидят свет, я получу от знатоков немецкого фольклора письма с указаниями на такие легенды, а возможно, и на стихотворения известных поэтов, посвященные «топонимической паре».
А если нет, я вправе утверждать, что такие предания существовали некогда и лишь потом были забыты. Подобное сочетание двух имен не могло возникнуть самопроизвольно, ибо в подобной паре названий уже заложен известный поэтический заряд.
Стоит рядом с альпийской парой помянуть пару крымскую. До начала 1931 года жители курортного Симеиза любовались двумя близко расположенными прибрежными скалами: башнеобразным, слегка напоминавшим согбенную фигуру в капюшоне МОНАХОМ и колоссальной ДИВОЙ, представляющей собою огромный каменный треугольник, упертый в каменистый берег своей острой вершиной, как бы лежащий на гипотенузе, коротким катетом в море.
Имя Монах не вызывает сомнений, оно возникло по прямому зрительному впечатлению от узкой и высокой, остроконечной наверху скалы. (19 января 1931 года, после разрушительного шторма, от нее остались только жалкие обломки, и проверить меня невозможно.) Что же до имени Дива, то его происхождение неясно. Топонимисты выдвигали различные объяснения. Назывался то славянский корень «див» (скала-диво), то генуэзско-итальянский «дива» (божественная), то тюркские корни. Но любопытно, что в широких кругах непосвященных не было никогда никакого сомнения: пара имен повествует о мрачном Монахе и прельщающей его «дивной» красавице. В любом крымском путеводителе вы почти наверняка найдете именно такое толкование имени-спорышки.
Я вовсе не хочу, чтобы вы полностью доверялись рыночным путеводителям, источникам, для топонимических разысканий весьма малопригодным. Хочу только еще раз обратить ваше внимание на естественную непреодолимость обычного хода образного мышления: одни и те же образы возникают в связи с одинаковыми предметами называния в самых разных частях мира. У разных народов.
Кстати сказать: в том же Крыму и не так уж далеко от Симеиза, близ мыса Фиолент, возле бывшего Георгиевского монастыря, стоит на берегу моря скала, ничуть не менее похожая на фигуру склонившегося в полупоклоне монаха, чем та, симеизская. Я никогда не слыхал, чтобы ей было придано такое название. Почему? А может быть, и потому, что она одна. Она не образует пары.
Но тогда может быть, что топонимы Симеиза и впрямь родились одновременно. Как «спорышка», в результате смутного впечатления об их парности…
Есть в Крыму и такие места, над которыми действительно витает такая топонимическая легенда.
У самого Бахчисарая, Садового дворца ханов Гиреев, на реке Каче как бы сторожат вход в одно из ущелий две столпообразные скалы. Теперь уже далеко не все местные жители помнят их имена. У крымских татар они были известны как ВАЙ-ВАЙ-АНАМ-КАЯ и ХОРХМА-БАЛАМ-КАЯ.
Имена, способные вызвать удивление. Первое означает: «скала ай-ай, мама!», второе: «скала не бойся, дочка!» Десятиметровая «Ай-ай, мама!» стоит у входа в ущелье, смутно напоминая издали человеческую фигуру. В грузной второй живое воображение может угадать огромную женщину, тяжело сидящую в кресле. Этого было достаточно, чтобы сложилась легенда.
…Свирепый и сладострастный Топал-бей похитил у соседа Кемаль-мурзы красавицу жену и юную девушку-дочку, еще более прекрасную. Добром и муками он принуждал их стать украшениями его гарема. Добродетельные женщины готовы были лучше на смерть. Разгневанный бей приказал замуровать непокорных в скалы или просто превратил их в утесы при помощи обыкновенного волшебства.
Но спустя короткое время ему донесли: в светлые ночи из одной из скал выходит удивительной красоты дева, играет и резвится в лунном свете.
Придя в ярость, Топал-бей приказал повалить и разбить вдребезги непокорную скалу. В ущелье явилось множество людей с конями и волами, на скалу накинули петли, впрягли волов… И тут-то все услышали, как из глубины каменной глыбы донесся робкий девический голос: «Вай-вай, анам!»
«Не страшись, дитя!» — прогремел ответ второй скалы. В тот же миг все, кто был вокруг, — лошади, упряжные волы, люди, — все замерло и окаменело навеки…
Маловер может всегда проверить, что дело было именно так. Достаточно пройти из Бахчисарая в урочище Кош-Дермен, и увидишь там великое множество каменных глыб самой различной величины и формы.
В некоторых узнаешь волов, в других — коней, в третьих — людей или повозки…
Удивительно, как широко распространены по миру такие или почти такие же мифы. Между Крымом и хребтом Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке тысячи и тысячи километров. Но и тут, на приморской стороне хребта, в речку Копи впадает еще меньшая речушка Йоли. По этим рекам почти шестьдесят лет назад ходил путешественник и писатель В. Арсеньев, тонкий исследователь нашего тихоокеанского Приморья. Орочи, обитатели тех мест, уговаривали его не подниматься по Йоли. В ее долине высилась роковая сопка ОМОКО-МАМАГА, что на местном языке значит «прабабка Омоко». Мимо нее проходить весьма опасно.
Естественно, что Арсеньева соблазнило желание взглянуть на «Прабабку». На вершине сопки он нашел несколько причудливо выветренных скал. Самая большая из них немного напоминает человека. Это и есть «Прабабка»…
Великан Кангей, повествуют орочские предания, повздорил с двумя великаншами — Атынигой и Омоко. В чем была причина спора, нельзя уже сказать, но каждый знает — где женщины, там и распри.
Великанские нелады перешли в драку. И тут случилось неожиданное: все трое вдруг окаменели. Хмурый Кангей застыл в верховьях Копи, Атынига — ниже по течению реки, в устье ее притока Чжакуме, а Омоко беда захватила там, где в Копи впадает Йоли…
Если вы сомневаетесь, никто не мешает вам отправиться на место и собственными глазами убедиться: все трое доныне стоят там, где на них обрушилась кара свыше…
Всюду одно и то же. В каждом человеке живет склонность в любом смутном очертании, созданном природой, видеть те или другие оживленные или даже неживые, но понятные черты. Помните писателя Тригорина в чеховской «Чайке»?
«Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль…»
Вспомните средневекового героя «Дракона» — легенды А. К. Толстого? Сторонник гвельфов после одной из неудачных битв с гибеллинами углубился в горы близ Лугано. В одном из ущелий, спасаясь от плена, он увидел зубчатую стену скал, похожую на стену замка. Но когда туман рассеялся, он заметил, что перед ним и его спутником высится «не зданье… но чудное в утесе изваянье».
«Дракон», изваянный природой из камня, ожил, погнался за беглецами…
Легенда легендой, вымысел вымыслом, но существенно то, что именно скалы, горы, большие камни чаще всего подсказывают человеческому воображению такие метаморфозы, вероятно потому, что скала, гора, утес, холм всегда бывают как бы легкообозримыми. Их можно обнять одним взором. Их можно сопоставить с другими, рядом находящимися. Воображению легче увидеть что-то человеческое, нечто индивидуальное в горной вершине, в скалистом островке, в колоссальной глыбе гранита, нежели, например, в простирающемся на десятки километров море или озере, очертаний которых не охватишь взглядом.
Ладога и Онега лежат рядом друг с другом. Нашим предкам, однако, не пришло в голову счесть их «братьями» или «сестрами». Тот, кто жил на берегах Ладожского озера, мог никогда не видеть Онежского и, уж во всяком случае, не подозревал, как именно лежат они на поверхности земли, разделенные лишь узким перешейком, оба вытянутые с северо-запада на юго-восток, как два близнеца, как двойняшки. Чтобы увидеть это, надо пролететь над ними на огромной высоте или взглянуть на карту. К. Бальмонт потому мог измыслить свою сказку про Днепр, Волгу и Двину, что в его дни в любом школьном атласе легко было увидеть, как, родившись на одном нагорье, три реки разбегаются за тысячи верст друг от друга к трем разным морям. Доступное глазу, обозримое одним взглядом, вот что постоянно возбуждало фантазию.
Три близко расположенные на одном горном массиве острые вершины поднимаются в Пиренеях. У них есть свои имена — СИЛЭН, МАРБОРЭ и МОН-ПЕРДЮ. Но, кроме того, все втроем они называются и общим именем — ТРЭС СОРЕЛЬЯС (три сестры-монашки). Бесспорно, у пиренейских горцев найдется, что рассказать про скалистое содружество.
Три скалы поднимаются из тихоокеанских волн возле Ле-Пунтильи на побережье Чили. Их три, они лежат близко друг к другу… Достаточно, чтобы человек объединил их в семейную «группу»: они называются ТРЭС ХЕРМАНОС (трое братьев)… Легенды? Если их нет, они могли бы возникнуть, да, вероятно, они существовали и существуют у чилийских лоцманов, моряков, прибрежных жителей…
Не приходится удивляться тому, что чем дальше в прошлое, тем более бурной оказывается людская фантазия, сопровождающая топонимическое называние. Чем ближе к нашим дням, тем она становится суше, рациональней. Названия, даже в тех случаях, где человек подмечает единство нескольких предметов, начинают отмечать только то в них общее, что на деле существует, что не нуждается в приукрашивании мифом.
В Крыму у Гурзуфа уткнулась мордой в море всем известная гора МЕДВЕДЬ, АЮДАГ. Можно спорить, напоминает ли она на самом деле пьющего из моря зверя (на мой взгляд — даже очень) и родилось ли название в связи с ее очертаниями, или потому, что некогда она служила пристанищем для местных медведей. Неважно.
Восточнее Аюдага, между ним и Карасаном, на территории одного из бесчисленных крымских санаториев, есть скала — розоватого цвета весьма солидный камень, совершенно голый и до странности повторяющий в миниатюре очертания и положения огромного медведя.
Место это до недавнего времени было сравнительно пустынным и малоизвестным. Розовая медведеобразная скала, судя по всему, не привлекала особого внимания, в путеводителях не значилась и, вполне возможно, «личного имени» не имела.
За годы Советской власти все изменилось. Вокруг нее вырос целый оздоровительный комплекс, на ней ежедневно загорают сотни курортников, к ней проложены дороги и тропинки… И я лет пять назад с большим удовлетворением убедился: безымянная скала носит имя. Имя-спорышку. Ее теперь зовут МЕДВЕЖОНОК.
Мы — рационалисты. В этом имени мы отметили только внешнее подобие, существующее между Медвежонком и огромным Медведем. Очень сомнительно, чтобы кому-либо пришло в голову сочинить какую-нибудь легенду, связывающую обе каменные глыбы — гигантский лакколит Аюдаг и крошечный по сравнению с ним розоватый прибрежный камешек. Но парность их отметил, ею заинтересовался даже современный человек. А кто знает, может быть, в скифской или генуэзской древности они уже назывались так? Может быть, их и связывали какие-нибудь фантастические рассказы?
…Заговорив об именах-двойняшках, я не могу не коснуться хоть несколькими словами совершенно другого типа их.
В тех милых мне местах Великолучины, о которых я уже столько раз вспоминал, встречались мне странные пары топонимов, объединенные по совершенно другому признаку.
Я знал там, например, две небольшие деревушки: ГОРКИ и ДОРКИ. Они были расположены «супольно», рядом друг с другом.
Что означает имя Горки, в общем понятно, оно говорит о ландшафте, о свойстве местности, на которой поселился человек. Было бы только ошибочным считать, что множественное число имени свидетельствует тут о наличии нескольких возвышений, нескольких холмов или гор. Нет, это чисто топонимическое множественное число. Такие названия обычно придаются местам, характеризуемым одним-единственным, указанным в основе слова признаком.
Поселок, стоящий на одном ручье, очень часто называется РУЧЬИ. Деревня, известная наличием в ее пределах хорошего родника, может получить имя КЛЮЧИ. Хутор, приметный по возвышающейся среди него ветряной мельнице, сплошь и рядом бывал назван МЛЫНЫ. Об этом нельзя забывать, исследуя такие топонимы. Но в целом-то понятно. Деревня Горки означало: расположенная на возвышенном месте, не на болоте.
А Дорки? Вы затруднились бы самостоятельно установить, на какой основе построен топоним.
Существовало в старорусском языке слово «дор», «доры». Оно означало: недавно очищенная от леса пашня, росчисть. Корень тут тот же, что в словах «драть», «деревня». Дорки, всего вернее, значило когда-то — деревня, построенная на отбитой у леса целине, на клочках врезанной в лесное море пашни…
Все вполне естественно и не вызывает удивления. У нас великое множество топонимов и даже фамилий этого корня: Доры, Дорони, Доронины, Доркины и так далее. Но странно, как и почему возникла рифма, как бы объединяющая две соседние деревни в одно, как бы намекающая на то, что их имена взаимосвязаны?
Я не берусь дать вам ответ, но думаю, что такое созвучие не могло появиться на свет совершенно случайно.
Вполне возможно, что имена родились не каждое само по себе, а одно по другому. Во всяком случае, в их оформлении могло сыграть роль какое-то полушутливое противопоставление их друг другу: «у вас Горки, а у нас Дорки». Или наоборот.
В тех же местах мне были хорошо известны и другие пары топонимов — скажем, ЛЕДЯХА и рядом с ней, тут же по соседству, НЕВЕЛЁХА. Или НАЗАРКИНО и около него АЩЕРКИНО…
Если такие созвучные пары возникают на базе широко распространенных формальных типов (УЛЬЯНЦЕВО и СТЕПАНЦЕВО, ГРИБАЧЁВО и СЕМИЧЁВО), да если еще так названные селения отстоят далеко друг от друга, в этом нельзя усмотреть ровно ничего особенного. Если в Балтийском море есть остров БОРНХОЛЬМ, а на Ладожском озере стоял городок КЕКСГОЛЬМ, то тут ничего не выведешь, кроме того, что в обоих названиях участвует шведское слово «хольм» — остров. Таких имен очень много: СТОКГОЛЬМ, ФИКСГОЛЬМ, БОРНХОЛЬМ, ТИДАХОЛЬМ — Швеция полна ими. Но когда на всем доступном мне пространстве Псковщины в двадцатых годах я нигде не встречал топонимов с такими суффиксами («-иха» попадалась), а тут вдруг рядом лежали сразу два населенных пункта со сходно звучащими именами, это уже вызывало некоторую настороженность.
Были там еще два поселка, КАМЕНКА и РАМЕНКА. Каменок много. Так охотно называются и речки с каменистым дном и деревни, поля которых усеяны характерным для многих мест России ледниковым булыжником. Раменка тоже распространенный топоним со значением весьма разнообразным. Русское слово «рамень» в разных местах страны означает очень многое — и опушку леса, и край пашни возле лесного массива, и селенье около леса, и «клин однородного леса». Каждое из них могло послужить основой для топонима.
Но вот столкновение сразу двух таких названий, отнесенных к двум смежным деревням, конечно, наводило на размышления.
Наводит оно меня на них и сейчас. И я думаю, что если кто-либо из моих читателей займется специально коллекционированием парных названий такого типа, то, подобрав их побольше, он сможет заметить какие-нибудь закономерности, доныне ускользавшие от невнимательного взора. Может быть, строгий ученый-топонимист и пожмет плечами: его сами названия интересуют больше, чем то, что происходило в голове у их изобретателя. Но я — болельщик топонимики. Меня внутренние процессы называния весьма привлекают и интригуют: в них выражается какая-то существенная сторона психологии человека, познающего мир.
…Я сделаю упущение, если не обращу внимания читателей на еще один разряд парных наименований. Я назвал бы его искусственным. У меня он представлен одним, но довольно показательным примером.
На границе Ленинградской и Псковской областей, чуть западнее красивого озера СЯБЕРСКОГО, — название озера очень старо и любопытно, оно, видно, связано с древним, но еще встречающимся на севере словом «себра», означающим «артельную рыбную ловлю», а также «два невода, сводимых при ловле навстречу друг другу», — имеются две малые речки с неожиданными названиями, явно составляющими своеобразную «спорышку»: ЛОШКА и СКОВРОТКА. Так они обозначены на старой десятиверстной карте района.
Об этих двух именах (речки, их носящие, составляют как бы продолжение одна другой, впадая и вытекая из одного маленького озерка) можно рассуждать по-разному.
Можно измыслить такую гипотезу. Раз озеро было когда-то местом «сяберной» или «сябреной» артельной ловли, могли случиться различные приключения, при которых кто-то потерял, оставил или, наоборот, нашел на одной из речек ложку, на другой — сковородку, откуда и названия. Удивляться не пришлось бы: вспомните остров Котельный, будто бы обязанный своим именем утерянному на нем медному котлу.
Но вот что вызывает некоторую настороженность. И «ложка» и «сковородка» — слова достаточно древние, однако все-таки как топонимы они выглядят много моложе своих соседей. Смотрите, какой глухой древностью веет от рядом лежащих на карте названий: озеро МУЖ, речка ЛЮБИЧА, рядом озеро ЛЮБИВО, озеро и деревня ВЕРДУГА, озеро ПЕЛЮГА, населенный пункт МУЖИЧЬ, деревня ИЗВОЗЬ… Рядом с ними Лошка и Сковротка производят сомнительное впечатление новообразований, совсем недавно появившихся в глухих древнерусских местах.
Может быть, путь, по которому они прибыли сюда, и на самом деле несравненно более поздний, чем я предположил.
Каждую карту составляли землемеры-топографы. На каждом планшете они встречали наряду с подлинными и всем окрестным жителям хорошо известными названиями множество урочищ безымянных. Бывало так, что «барин-топограф» сердито требовал, чтобы ему назвали ручей или болото, и сопровождавшие его мужики (а порой и мальчишки) выдумывали первое попавшееся имя, справедливо полагая, что «барин» в таких делах — темная бутылка и правды от кривды не отличит. Вспомните историю с «Наволоком, Еще-Наволоком, Еще-еще-Наволоком», появившимися на карте Имандры благодаря такому же недоразумению между старым саамом-проводником и ученым-географом, учитывавшим его сообщения. А возможен и иной поворот. Я уже цитировал искреннее огорчение И. Соколова-Микитова, горевавшего по поводу примитивизма тех лиц, которым падает на долю окрещивать «географию» в безымянных местах. Помните?
«Встретил путешественник на вновь открытой реке зайца, стала река Заячьей. Увидел стаю волков — Волчьей».
Мастер слова Соколов-Микитов относился критически к такому методу называния, а великое множество рядовых топографов ничуть не смущалось им. Уронил в воду ложку — назвал безымянную речку Ложкой, нашел старую сковородку — окрестил Сковородкой… Может быть, отсюда эти имена?
Может, но и не может… Достаньте, если удастся, в какой-нибудь библиотеке десятиверстную карту 1868 года, перепечатанную в августе года 1920-го, и всмотритесь в окрестности Сяберского озера.
Четко напечатано: «р. Лошка». «р. Сковротка». Если бы топограф сам выдумывал названия, он, конечно, написал бы «Ложка» и «Сковородка». А он, по-видимому, вслушивался в произношение местных жителей, может быть, наводил справки по кадастровым планам.
Значит, как же решить, на чем остановиться?
А я как раз и мобилизовал этот пример для того, чтобы лишний раз показать вам, что в самых простых названиях мест таятся презапутанные загадки. И еще для того, чтобы стало ясно: нет названий простых, все сложны, каждое требует для своего окончательного истолкования больших, часто непропорционально больших усилий.
Что же я скажу все-таки про эту пару топонимов? Конечно, перед нами еще один образчик спорышки. Но как образовалась спорышка и каков ее сокровенный смысл, я вам разъяснить не могу.
Да и каждому, кто решил полностью или отчасти посвятить себя вопросам топонимики, следует раз навсегда принять в расчет: только очень малый процент имен мест может быть бесспорно разъяснен и истолкован. Огромное количество их и сейчас остается нераскрытым, да, вероятно, никогда раскрыто не будет.
Так тем более следует торопиться, работать над теми, которые мы пока еще имеем возможность разгадать. Чем старше, тем они становятся таинственнее, речь их делается глуше, и, наконец, они могут онеметь навсегда.
1516 год. Над миром горит заря Возрождения. Лучи ее еще не везде с одинаковой яркостью освещают землю.
Только четверть века назад Колумб отплыл из Палоса в Неведомое. Только через три года продолжит его дело Фернандо Магеллан. Галилей родится через сорок восемь лет, Даниель Дефо — через сто сорок три и Джонатан Свифт — через сто пятьдесят один год.
Еще в далекой Московии сидит на великокняжеском престоле князь Василий, отец Иоанна Грозного, сын византийской царевны. Еще Мартин Лютер ревностно перепечатывает творения католиков-мистиков и мечет чернильницами в самого настоящего дьявола.
Но в швейцарском Базеле уже живет прославленный автор «Похвалы глупости», Герхард Герхардс, голландец, более известный под именем Эразма Роттердамского.
И он пишет письма в туманный Лондон, члену, а потом и председателю Палаты общин Томасу Мору…
В один спокойный вечер досточтимый Томас Мор сам садится к столу, обуреваемый стремлением написать книгу и изложить в ней свое, уже сложившееся кредо гуманиста.
Он берет в руку гусиное перо и выводит на чистом листе заголовок:
«Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии…»
Рождается новое слово, и не просто слово, а топоним. Только не обычный, не из тех, о которых мы до сих пор говорили, а утопический.
Образованнейший человек своего времени, Мор захотел изобразить государственное и общественное устройство, которое представлялось ему идеальным.
Он отлично понимал, что в реальном мире в его время оно не может возникнуть нигде. Свою фантастическую страну он вынес на вымышленный остров, которого тоже нигде не существовало, и назвал его УТОПИЕЙ, умело и хитроумно связал в единое целое два греческих слова — отрицание «у» и существительное «топос». Первое значит «не», второе (оно же входит и в название науки, которой посвящена эта книга) — «место». Утопия, страна, не имеющая места, безместная. «Остров Небывалец» — вот что значило имя.
Ни сам Мор, ни его биографы не поведали миру того, как пришло в голову великому человеку, остряку и мудрецу, другу королей и жертве палача, свободомыслящему философу и верующему католику, как ему пришло в голову само название для его чудесного острова. Мы знаем только, что он усердно занимался греческим языком, а в то время в Англии язык этот признавался опасным предметом для изучения.
Но можно поручиться за одно: самый остроумный человек своего века (таким его признавал великий Эразм), несомненно, никак не мог предугадать судьбы изобретенного им слова. Подумайте сами: «утопический», «утописты», «утопизм» — что только не называют им спустя полтысячелетия после его появления на свет!
Мы говорим об «утопическом социализме». Мы называем «утопической» определенный вид литературы, делая это слово синонимом слова «фантастический».
Само название «утопия» потеряло прописную букву в своем начале, стало значить в общежитии «безудержная фантазия, ни на чем не основанная выдумка». Имя места вымышленного приобрело большую жизненность, чем многие его вполне реальные собратья.
Был в древнем мире топоним УТИКА — город неподалеку от Карфагена. Что осталось нам от него? Прозвище одного из римских полководцев, Катона Утического, и только. Одним лишь историкам название знакомо и вызывает у них какие-то ассоциации. А имя никогда не существовавшего острова Утопия звучало, звучит и будет звучать.
Тезка Томаса Мора, итальянец Томмазо Кампанелла родился для долгой и нелегкой жизни через тридцать два года после того, как голова великого англичанина скатилась с окровавленной плахи, — в 1568 году. Его не казнили, его только продержали почти тридцать лет в неаполитанской тюрьме.
Выйдя из нее, он выпустил в свет удивительное сочинение — полуроман, полуфилософский трактат. Действие, как и у его старшего собрата, разворачивается в идеальной стране, в городе не то что будущего, в городе мечты. Город носит гордое имя ЦИВИТАС СОЛИС — «Город Солнца», «Солнцеград»…
Город Солнца и Утопия — почти что синонимы, как МОНБЛАН — Белая гора Альп и БЕЛУХА — Белая гора Алтая… Потребность воображать себе дивные города и страны, где жизнь идет так, как хочется, чтобы она шла, человеку, подавленному и возмущенному ее действительным течением, висит в воздухе.
И не только висит, но все чаще и чаще дождем выпадает в мир.
Явился Свифт и выбросил читателям целый ворох всевозможных тщательно продуманных вымышленных топонимов. Тут и ЛИЛИПУТИЯ — страна низкорослых человечков, тут и ее столица МИЛЬДЕНДО. Тут БЛЕФУСКУ, соседняя с Лилипутией страна. И БРОБДИНЬЯГ — страна великанов. И ЛАПУТА — остров странных чудаков, а за ней БАЛЬНИБАРДИ, ЛОНЬЯГ, ГЛЮБДОБДРИБ, и все это рядом с нормальными ЯПОНИЕЙ, НОВОЙ ГОЛЛАНДИЕЙ… Целый неведомый мир вымышленных стран и таких же созданных безудержной фантазией топонимов.
Не всем им суждена долгая жизнь моровской Утопии.
Мы с детства знакомимся со Свифтом, яростнейшим из сатириков мира, как с веселым сказочником, и влюбляемся в его вымыслы, даже еще не замечая яда, брызжущего из них. Проходят годы, и кто из нас хоть раз в пять лет упомянет слова «Бробдиньяг» или «Лапута»? А лилипуты и Лилипутия не сходят у нас с языка.
Лилипуты — как бы этноним, название открытого Свифтом народца. Но — только в результате русского, не совсем точного, перевода. Английские «лилипьюшн», собственно, означает «лилипутийцы», жители Лилипутии: так у Свифта называется сама страна. Свифт сотворил прежде топоним и только от него произвел название народа, а не наоборот. Интересно, откуда все-таки он взял нужные материалы, нужное звучание?
Гордые слова «Утопия» или «Цивитас Солис» раскрывались очень легко — грецизм и латинизм. Я совершенно не знаю, как были сложены такие названия, как «Бробдиньяг» или «Глюбдобдриб». Имя Гуингнм, по-видимому, Свифт построил, так сказать, «на базе» лошадиного ржания, этакого всемирно известного «и-го-го»…
А вот с Лилипутией и лилипутийцами сложнее. Конечно, можно было бы думать, что и их имена тоже сочинены им «просто так», как экзотические столкновения ничего не означающих звуков: ведь именно так Свифт строит речь своих шестидюймовых героев. Передавая их разговоры, все эти «гекина дегуль», «тольго фонак» и «панго дегюль сан», он навряд ли вкладывал в них что-либо, кроме чистой фонетики. Однако… Да, есть некоторые «однако».
В шведском языке существуют слова «lilla» — крошка, малышка (о девочке), «lille» — то же самое, но в применении к мальчику. Есть там и слово «puttinafsk», «putte» — малютка, малыш, пупсик, ангелочек.
Мне не известно, изучал ли и знал ли Джонатан Свифт шведский язык. Но для того чтобы знать эти слова, не нужно углубленного овладения языком, они могли войти в его словарный запас случайно. И очень легко могли соблазнить его на их объединение в одном наименовании «страны людишек-крошек» — Лилипутии.
Вполне возможно, что так оно и было.
Думается, поразмыслив над другими изобретенными Свифтом топонимами и названиями народов, можно было бы и там добиться каких-либо если не открытий, то гипотез. Но с нас пока достаточно этого.
Я приводил примеры «топонимотворчества» гениальных людей, великих мастеров языка, слова и мысли. Но, само собой, оно стало возможным только потому, что стремление и умение измышлять названия нигде не существующих стран всегда жило в художественном творчестве всех народов. Достаточно перебрать памятники русского фольклора.
Искони веков народ воображал себе разные дивные, небывалые, сказочные страны. Порою — как у Мора и Свифта — чудесные края счастья и радости, крестьянской справедливости, человеческой правды. Порою, наоборот — обители всего дурного, черного, злобного, что так хорошо он испытывал у себя дома и что стремился нарисовать наиболее резкими чертами где-то там, за тридевять земель.
Живо в наших преданиях и народных сказках АЛЫБЕРСКОЕ ЦАРСТВО, подобно свифтовскому Бробдиньягу, населенное могучими великанами. Откуда взялось столь звучное имя? Судя по всему, оно связано с тюрко-татарским выражением, «алыб-ирИ», которое именно и значило «великан». Так по крайней мере судит о нем известный ученый, специалист по русской этимологии М. Фасмер.
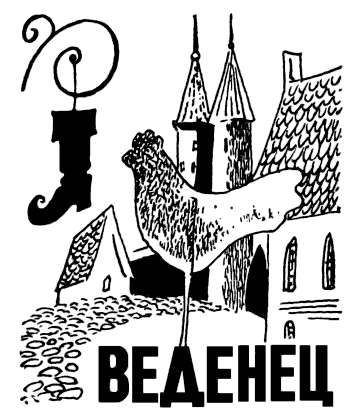 |
Упоминается в сказках, былинах и преданиях заморская ВЕДЕНЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ. Разгадывая утопический топоним, люди науки строят различные предположения. С одной стороны, он кажется им связанным с именем уже в древние времена всему миру известного итальянского торгового города ВЕНЕЦИИ. Жителей Венеции наши предки именовали «венедици». В «Слове о полку Игореве» в гриднице Святославовой толпятся люди:
Хорошо известно, что в сложных, особенно иноязычных, словах славянские языки допускают нередко так называемые «метатезы», перестановки звуков. В древней Сербии хождение имели венецианские монеты, «пистоли», сербы именовали их «ведениками», а не «венедиками». Вполне вероятно, что слово «веденецкий» образовалось таким же способом.
Но есть и другая возможность. Совсем близко от старых русских пределов, где-то на балтийских берегах, стоял, если верить сказкам, дивный город ЛЕДЕНЕЦ…
Нет, не построенный из сладостей город детских выдумок. Есть кое-какие основания полагать, что такое имя наши предки придавали старому ТАЛЛИНУ — РЕВЕЛЮ, первоначально — датскому замку в стране эстов. Откуда оно взялось?
Слово Таллин так и значит «датская крепость» (лúнна). Но известно, что в средневековых латинских источниках город обозначался как ЛИНДАНИССА. Слово одни выводят из скандинавских «линда» — необработанная земля и «нэс» — коса, мыс; другие связывают его именно с финским «линна» — крепость. От «Линданисса» до «Леденец», как вы сами понимаете, проложить мост не столь затруднительно для языка…
А раз так, то возникает вероятие, что имя Леденец, Леденецкая Земля могло преобразоваться в Веденецкую Землю. Нельзя забывать, что в те времена легенды, сказки, просто рассказы передавались не книжным путем, не при помощи письменных знаков, обладающих способностью закреплять и сохранять то или другое произношение, а по памяти, из уст в уста, когда звуки отступают на задний план перед смысловым образом имени, а образ может видоизменяться самым причудливым путем — лишь бы он не обессмысливался.
Так и город Леденец (от «лед, ледяной») мог легко превратиться при бесчисленных переходах из головы в голову в Веденец (от «вести», «веденый»).
Трудно рассчитывать на то, чтобы когда-нибудь нынешняя двойственность в объяснениях заменилась тут бесспорной точностью. Примиримся с нею: топонимика!
Живет в старых преданиях русских сказочная река СМУГРА, на которой киевские богатыри разгромили витязей Цареграда, она упоминается в «Сказании о киевских богатырях». Очень возможно, что в повествовании отразились несравненно более поздние события. Как известно, в 1480 году хан Золотой Орды Ахмат двинулся на Москву, все меньше и меньше подчинявшуюся ордынской воле, но был остановлен московской ратью на берегу реки УГРЫ. Долго два войска стояли друг против друга, наконец, не выдержав, Ахмат отступил восвояси. Тут, на реке Угре, закончился несчастный период чужевластия на Руси, Московское государство окончательно закрепило свое право на, как теперь мы говорим, «суверенное» существование. Такое событие не могло не отразиться в народной памяти и в народной поэзии. Но газет и печати тогда не было, связи между Москвой и далекими окраинами земли Русской, где жили и творили свои «старины» олонецкие, архангелогородские, мезенские сказители, были сложными и трудными. Как было им, все время витавшим в былинном мире времен Владимира киевского, не приспособить к тем, освященным уже поэзией, временам и современные новости?..
Вероятно, в сложном процессе творческого претворения живых событий жизни в золото эпической поэзии реальная река Угра и стала сказочной Смугрою.
Существующее в нашем фольклоре ЗАДОНСКОЕ ЦАРСТВО, казалось бы, должно было находиться «за Доном», где-то в предкавказских степях, у Азовского моря. Изыскания литературоведов, однако, не позволяют поместить его там, несмотря даже на то, что «царством» правил «задонский салтан».
Судя по тому, что с тем сказочным царством связывается деятельность Бовы Королевича, а этот герой древней поэзии пришел к нам из итальянской поэзии, есть основания считать, что в Задонское царство наши полупереводчики, полуподражатели чужеземным легендам превратили СИДОНИЮ — страну города СИДОНА. Там и жил прототип нашего Бовы Королевича.
Очень смутно все то, что языковеды могут сказать по поводу славного КИТЕЖА-ГРАДА, утонувшего в водах глухого озера в Горьковской области, чтобы избежать Батыева полона и разорения. Имя баснословного города иногда передается как КИДИШ, что дает этимологам повод связывать его с финским «кидес» — глубокая пещера. Но уверенности в законности такого сопоставления пока что ни у кого нет. Надо искать более убедительных этимологий. Может быть, найти их падет как раз на вашу долю, мои читатели…
Встречаются в устном (теперь уже, правда, давно записанном) народном творчестве и, так сказать, «полутопонимы». Тот, кто знает русские былины, помнит неоднократное упоминание в них КРЕСТА ЛЕВАНИДОВА. Богатыри проезжают мимо него, назначают у него свои встречи. Это одновременно как бы некий памятник прошлого, но и название места. По просторам нашей страны в свое время было разбросано немало крестов, либо просто установленных на холмах и росстанях, либо высеченных на огромных валунах. Один такой крест сохранился доныне на выступающем из воды камне на Западной Двине ниже Витебска. Его, как и многие другие, оставил нам полоцкий князь Борис в качестве путеуказующего знака у опасного для плавателей места. Известен крест у впадения Верхней Волги в Стреж-озеро. На нем написано:
«6641 года месяца июля 11 дня почах рыти реку сию яз, Иванко Павловиц и крест сь поставих».
6641 год по нашему счету — год тысяча сто тридцать третий.
Подумайте только: «Слово о полку Игореве» будет создано лишь пятьдесят четыре года спустя. Сам Игорь двинется «почерпнуть шеломом Дону» через пятьдесят два года… Какая бесконечная даль! Но в этой дали уже Иванко Павлович утвердил свой памятник на берегу великой реки в глухой лесной чаще, возле мало кому в мире ведомого озера!.. И он достоял до нас.
Неудивительно, если историк Н. Воронин пишет:
«Запечатленный в народном эпосе Леванидов Крест на Пучай-реке отражает привычный образ путевого креста на „пучинах“ у порогов и перекатов».
Мы знаем теперь об ИГНАЧ-КРЕСТЕ на Селигерском водном пути. Знаем о БОРИСОВОМ КАМНЕ с крестом на Двине. Почему бы не быть где-нибудь когда-то и Леванидову Кресту? Такое же имя, как все остальные.
Однако опытные исследователи заподозрили тут наличие и второй возможности. Не исключено, что крест назван «Леванидовым» не потому, что его сооружал какой-то Леонид. В греческих церковных памятниках нередко определением «либанитес», то есть изготовленный из ливанского кедра, сопровождается описание «креста господня», того, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос. Очень может быть, что «честной крест Леванидов», который видели на своих путях наши богатыри, был отражением в уме слагателей былин образа мифического креста и его греческого эпитета.
Для нас сейчас это не составляет разницы: несомненно, каждый такой крест служил в свое время важнейшим опознавательным признаком места. И Игнач-Крест и Борисов Камень, безусловно, могли превратиться в топоним. Мог быть таким топонимом и «Леванидов Крест». Пусть не реальным, вымышленным. Мы ведь как раз такие сейчас и рассматриваем. На этом примере особенно ясно видим, что любой топоним, подлинно существующий или только творчески воссозданный, строится всегда на один лад, в одной общей манере и системе. Это-то как раз и делает вымышленное столь же живым, как и реально сущее…
Как антитезу к Смугре-реке, связанной с радостными воспоминаниями об одержанной великой победе (неважно, какой именно: все победы Родины радуют народную память), надо назвать другой сказочный поток — САФАТ-РЕКУ.
На Сафат-реке свершилось событие трагическое и печальное: на ней пришел конец русским богатырям.
В результате несчастной битвы с подавляющими силами «поганых» врагов они окаменели на поле сражения.
Но исследователи не без основания видят в затейливом, не по-русски звучащем имени мрачной реки отголосок совсем инородных славянскому миру, занесенных к нам с христианством библейских мифов. В Ветхом завете неоднократно упоминается ДОЛИНА ИОСАФАТОВА, в которой когда-либо бог Иегова созовет народы на свой верховный суд. Своего рода «долина смерти». Из этой самой Иосафатовой долины, вероятно, и «вытекла» траурная Сафат-река нашего народного творчества.
Я не имею никакого намерения перечислять здесь все без исключения фантастические топонимы русских сказок, преданий, легенд. Да это и невозможно.
Я мог бы, разумеется, коснуться «отчества» реки ДНЕПР: в устном народном творчестве он — СЛАВУТИЧ, то есть «сын славы».
Я мог бы, вслед за А. Веселовским, поразмышлять над именем былинной СОРОГИ-РЕКИ, возможно представляющем собою какую-то вольную вариацию на древний топоним СУРОЖ — торговый город в Крыму. В то же время я призадумался бы над возможной связью этого гидронима с северным названием рыбы «сороги», которую Даль приравнивает к плотве, а Фасмер относит к ельцам. Этимологи выводят ее имя из финского «сэрки» — плотва, красноперка, но видят в таком производстве существенные трудности: из «сэрки» по законам языка должна бы в русском получиться «серега», а не «сорога»… И все-таки то, что рыба, которую так зовут, водится в реках нашего Севера, именно там, где сказывались и веками хранились древние «старины» — былины, делает связь между рыбкой и именем реки, как мне представляется, довольно вероятной.
Можно было бы вспомнить топоним ЗЕМЛЯ ТРОЯНЯ, полусказочный, полупредысторический. По-видимому, он связан с именем римского императора Траяна, утвердившего власть Рима на берегах Дуная и Прута, в непосредственном соседстве с землями наших предков, и преобразившегося в их памяти в какое-то грозное языческое полубожество.
Так щемяще-образно и в то же время так смутно говорит «Слово о полку Игореве»… Где именно была расположена Трояня земля? Почему она называлась так, кем была названа? Мы можем только гадать…
Ну и наконец, пришло мне на память милое имя былинной речки СМОРОДИНКИ. Казалось бы, проще простого. По берегам стольких глухих северных речушек кустятся заросли неприхотливой дикой смородины, так душисты они летним днем, так приятно было древним людям вдруг наткнуться в чаще на сочные кисти черных ягод, что как будто все ясно. Смородинка значит — река, текущая в зарослях смородины…
Да, но что вы скажете, если я напомню вам, что у нас на Севере существует не одна, а много рек с именем СМЕРДА, СМЕРДЕЛЬ и им близкими?
«Смерда», «смрад» и «смородина» — слова одного корня. Наши прапращуры были не так взыскательны к запахам, как мы: может быть, чуяли они их лучше, но наши вкусы и наше распределение запахов на приятные и неприятные были им, вероятно, чужды. Смородина-ягода названа так за свой крепкий, но, несомненно, приятный аромат. «Смердами» звали крестьян, — вероятно, высказывая презрение к вечно копошащимся в земле, возящимся с навозом, рабам и женщинам, на которых главным образом лежали тяготы земледелия, — белорукие, ухоженные дружинники и гридничьи отроки князей. Слово означало зловонные, тут оно подразумевало совсем не аромат. А там, где слова этого корня становились топонимами, они могли означать просто «пахучая», без всякой, положительной или отрицательной, оценки запаха. Мало ли существует рек, раздвинув прибрежные кусты возле которых вы вдыхаете внезапно сильный запах! Иногда приятный, диких трав: мяты, хмеля, валерьяны. В других случаях — кружащий голову от какого-нибудь болиголова или багульника. Порою — ржавый запах торфа и железистой воды…
Старые «называтели» вовсе не думали о нас, для которых слово «смрад» приобретет единственное значение — вонь, отвратительный запах. Они даже не подозревали, что так произойдет. И вполне возможно, реку они называли Смородинкой не по ягоде-смородине, а за то же, за что и эта ягода носит свое имя. За запах. Какой? Представления не имею.
Прошли столетия. Мир изменился. Теперь даже самому заядлому мечтателю не придет в голову вообразить себе на круглом глобусе земном незнаемую страну с молочными реками и кисельными берегами — прекрасный и счастливый остров Утопию. Им не осталось места под размеренной сеткой нанесенных для скуки долгот и широт.
Человечество поняло: мечтать о счастливой стране стоит только для того, чтобы реально существующие страны сделать счастливыми. Построить Утопию наяву.
Правда, еще не так давно старые грезы жили в головах людей. Помните СТРАНУ МУРАВИЮ, куда собрался — вчера, в двадцатых годах! — маленький, измотанный тяжким детством и юностью Никита Моргунок Твардовского? Ведь «Муравия» его мужицкой мечты одной ногой стояла там, на острове Утопия. Но шаг второй ногой Моргунок уже готовился сделать в свое подлинное завтра. В наш мир.
Страна Муравия? Как возник в голове у поэта тот чисто сказочный топоним?
Бог весть, конечно; рассказать об этом мог бы только сам Твардовский. Но, думать надо, ему подкинула имя богатая народная память.
Навряд ли приходил ему на мысль древнегреческий, на Боспоре Киммерийском, возле нынешней Керчи и Тамани, стоящий город МИРМЕКИЙ, эллинская колония. А ведь имя Мирмекий значило «Муравьеград», «Муравейск». Искони веков муравьи представлялись людям образцом трудолюбия и справедливости, примером «совестного» распределения общественных прав, обязанностей и благ.
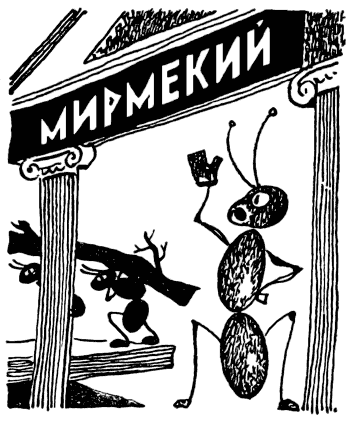 |
Не знаю, думал ли Твардовский, работая над своей поэмой, о детских годах Льва Николаевича Толстого.
А ведь Николенька Толстой придумал игру в «муравейных братьев», игру во всеобщую любовь, в нравственный подвиг. Удивительная была игра, и сам Толстой, размышляя впоследствии над ее благородной странностью, задумывался: а почему именно «муравейные»?
Очень может быть, что Николенька Толстой слышал что-то о моравских братьях, религиозной секте, проповедовавшей еще в XV веке «учение о справедливости», возвращение к «святой простоте жизни первых христиан», ко всеобщему равенству и нравственной чистоте. В тянувшейся к правде душе ребенка «моравские братья» превратились в «муравейных», и кто знает, не идет ли от них к Стране Муравии Твардовского подводная, внутренняя, неосознанная нить?..
Так или иначе, страна эта выглядит в нашей послереволюционной литературе как одна из самых последних утопий. И кроме того, ее название, конечно, является самым настоящим, по всем правилам построенным топонимом.
Теперь заботу о сотворении утопии взяла на себя научно-фантастическая литература. Земля вся обследована и обжита, на ней не осталось «белых пятен», на просторе которых могли бы возникать выдуманные страны и города. Зато нам открылся весь космос, и утопии перенеслись в удаленные галактики, в бесконечные дали вселенной.
Однако писатели-фантасты если и пытаются придать рисующимся их взору «иногалактическим» мирам черты вещественные, реальные, все же редко доходят до необходимости сочинять названия тамошним странам, городам, рекам, озерам, островам. Чаще всего они останавливаются на наименовании далеких звезд и планет. Изобретая причудливые имена своим героям, они водят их по безымянным равнинам и горным хребтам неведомых планет. А там, где название и возникает, оно мелькает, почти не задевая нашего слуха и ума, как нечто маловыразительное и необязательное.
Уэллсовы «алой» не сообщили путешественнику во времени ни современного им, ни прошлого названия города, где он их нашел: можно только догадываться по косвенным признакам, что когда-то он был Лондоном. Безымянны, если я не ошибаюсь, и всемирный город, где проснулся Спящий, и другой такой же всесветный Вавилон, в котором мистер Моррис (Уэллс скрупулезно отмечает, что в то время его фамилия произносилась уже как Мыоррес) готовится покончить счеты с жизнью при помощи «Треста Легкой Смерти». Да, если они и возникают в фантастических романах, названия несуществующих мест, они кажутся несущественными, не заинтересовывают нас, не оседают у нас в памяти.
И. Ефремов засыпал нас в «Туманности Андромеды» великим множеством удачных или неудачных, но тщательно продуманных, замысловато сочиненных личных имен-характеристик. У него далеко не без расчета потомок русских людей именуется Даром Ветром, а праправнук негров — Мвеном Масом. И Веда Конг, и Низа Крит, и еще множество персонажей носят свои имена, и читатель их как-то запоминает. А вот названий мест там почти нет.
Я не прав: их достаточно, но то обычные топонимы нашей Земли. За исключением одного-единственного, ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ, да еще полутопонима, скорее технического термина, СПИРАЛЬНАЯ ДОРОГА.
И получается так, что в мире Грядущего антропонимы стали совершенно иными, а топонимы остались теми же, что много веков назад: Пур Хисс, Рен Боз, Эвда Наль, Мор Ом, Гром Орм устраивают водоснабжение в Западном Тибете, восстанавливают леса на плоскогорье Нахебта в Южной Америке, производят раскопки к югу от Сицилии, видят Берингов пролив, гору Кения и реку Луалабу.
Может быть, это и естественно. На мрачном Острове Забвения есть какие-то поселки — новые, а в то же время, как все на этом острове прошлого, так сказать, старого образца. Но и они не названы. «Я — Онар из ПЯТОГО ПОСЕЛКА», — рекомендуется тамошняя девушка, и то едва ли не единственный микротопоним на острове.
Я не берусь судить, в чем тут дело и почему наши современные писатели-фантасты так холодны к фантастике топонимической. Да, может быть, я и не совсем прав: ведь не обследовал тщательно всю нашу фантастическую литературу, говорю только о своем субъективном впечатлении.
Но невольно вспоминается «Таинственный остров» Жюля Верна, где несколько страниц посвящены вопросам наименования отдельных урочищ удивительного клочка земли. Автор заставляет там своих героев выбирать между почти всеми известными типами топонимии и наделять бухты, ручьи, горы — места их обитания — именами совершенно человеческими и вместе с тем заново созданными, нигде до того не существовавшими.
ПЛАТО ДАЛЕКОГО ВИДА очень напоминает нам реальную гору КАЛОСКОПИ в Греции: слово «калоскопи» означает именно «прекрасный вид». ЗАЛИВ АКУЛЫ повторяет имена многочисленных КИТОВЫХ, ТЮЛЕНЬИХ и прочих бухт мира. Если на острове появилась ГОРА ФРАНКЛИНА, то она ничем не отличается от ЗАЛИВА ФРАНКЛИНА, ПРОЛИВА ФРАНКЛИНА, реально существующих на карте мира.
И надо сказать, наличие всех этих макро- и микротопонимов делает вымышленный остров обжитым, уютным и как бы на самом деле сущим. Они очень похожи на то, что на самом деле есть. Они построены так же, как человечество долгие века строило и строит настоящие имена мест.
Мне кажется, даже перенося читателей на самые отдаленные планеты, нашим фантастам не мешало бы окружать их фантастической топонимикой.
Вы слышали когда-нибудь про такую страну МУФФРИКА? Конечно, нет. А между тем именно так голландцы в прошлом в шутку именовали немецкий город ГАННОВЕР. Они произвели «псевдотопоним» из сочетания двух элементов: названия континента Африка и позднелатинского слова «муффила», означавшего какой-то вид меховых рукавиц. По-видимому, «муффриканцы», то есть ганноверцы, осточертели голландцам своими не похожими на голландские деталями одежды. Дикарями они им, наверное, казались. Чем-то вроде тогдашних ниам-ниамов и готтентотов. Это бывает между соседями…
Вероятно, с тех пор, как древние люди начали закреплять за местами названия, стали давать (особенно местам людского поселения) устойчивые имена, в умах людей имя места начало сливаться с представлением о его жителях, а не только о его ландшафте и особенностях. Имя становилось как бы составной частью самого называемого места, а затем его воздействие распространялось и на население.
Наверное, именно самое звучание топонима ПОШЕХОНЬЕ (значение-то его совсем нейтрально, «местность по Шексне», только и всего) предопределило бесчисленные шутки и насмешки над жителями ничем не отличающегося от сотен других российских уездных городков города.
Вероятнее всего, длинное и несколько неуклюжее название ЦАРЕВОКОКШАЙСК (теперь ЙОШКАР-ОЛА) заставило город стать воплощением глуши, образцовым «медвежьим углом» царской России. А ведь если раскрыть его смысл, ничего в нем не таилось предосудительного: «Царский городок на реке КОК-ШАГЕ». Даже «царский»! Но и это не помогло!
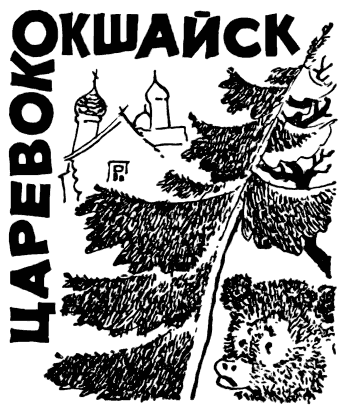 |
Пожалуй, еще ЧУХЛОМА могла соперничать с этими двумя олицетворениями глубокого провинциализма, уездной темноты, тупости и невежества в дореволюционные времена. Слово «чухлома» стало синонимом слов «глушь», «невежество». А ведь до сих пор топонимисты еще не могут определить, каков корень и происхождение его. Ищут в финских языках, находят там сходные основы со значением «нырять», но правдоподобно связать их с нашей Чухломой не умеют.
Становясь фактом языка, любое имя могло нацело оторваться от своего явного или скрытого значения, начать играть в нем только как чистое звучание, сделаться объектом всевозможных словесных фокусов и забав. Оно входило, скажем, в строй слов рифмующихся, и уже тем определялась его дальнейшая судьба, а нередко и репутация людей, которым судьба повелела родиться и жить в сфере действия данного топонима.
Вряд ли следует думать, чтобы дореволюционные орловцы были менее чисты на руку, чем их соседи туляки или куряне. Но вся страна помнила рифмованную присказку:
Помнила и хранила смутное подозрение, что, может быть, и нет дыма без огня? Недаром же все так складно уложилось в присказку!
Притом вполне возможно, что в далекой древности, когда складывалась поговорка, самое слово «вор» имело еще не наше нынешнее, а иное, старорусское значение. «Вор» в те времена могло означать «изменник родины», «бунтовщик», «правонарушитель» в широком смысле — вообще очень многое, а вовсе не «тать», не «тот, кто крадет». Вспомните «Тушинского вора» — прямого врага московской власти. И вполне возможно, что «первыми ворами» Орел да Кромы (то есть обитатели этих мест) прослыли, еще когда города лежали на самой южной окраине Московской Руси, когда само название «кромы» означало ее край, рубеж, «кромку», когда за ними в «Диком поле» скрывались беглые мужики, когда в самих их пределах могло находить поддержку и покрытие всякое «воровство», то есть борьба с царской властью.
Давно миновало время такого чисто народного, фольклорного обыгрывания топонимов.
Но мало-помалу с возникновением самой науки об именах мест и даже до того, как только стал намечаться иитерес к их значениям и происхождению, по мере того как исследование стало доходить до широкой публики и даже вызывать у нее известный «модный ажиотаж», народилось в качестве противовеса ироническое отношение писателей к трудам тогдашних топонимистов-любителей.
Больше всех, пожалуй, уделил времени и места насмешкам над горе-топонимистами великий американский юморист Сэмюэль Клеменс, известный всему миру под веселым псевдонимом Марка Твена («марк твен» на языке лоцманов с Миссисипи означает «две мерки», две отметки на шесте, которым измеряют глубину фарватера).
Я не знаю, чем исследователи географических имен так раздражали автора «Тома Сойера», но он буквально «не давал им ни отдыху, ни сроку».
В Калифорнии на высоте двух километров над уровнем моря лежит на самой границе штата Невада высокогорное озеро ТАХО. Мне неизвестно, есть ли у гидронима какая-нибудь связь с именем реки ТАХО на Пиренейском полуострове, да, кстати говоря, и у последнего названия происхождение и значение остаются невыясненными. Единственно, что можно сказать, — пиренейское имя, по-видимому, возникло в каком-то очень древнем, дороманском, иберийском языке.
Марк Твен или один из его персонажей попадает однажды на калифорнийское Тахо: местность вокруг него живописна и служит любимым местом отдыха для всего штата.
Тотчас название водоема привлекает его внимание. И немедленно, пародируя стиль американских путеводителей прошлого века, он с репортерским всезнанием начинает рассуждать на топонимические темы.
«Тахо, — пишет он, — и я не берусь судить, что в его рацеях правда и что чистая выдумка; боюсь, что все вымысел, — Тахо значит „кузнечик“. Другими словами — „суп из кузнечиков“. Слово это индейское и характерно для индейцев. Говорят, что оно из языка пайютов, а может быть, копачей. Уверяют, будто слово „тахо“ означает „серебряное озеро“, „кристальная вода“, „осенний лист“. Ерунда! Это слово обозначает „суп из кузнечиков“ — любимое блюдо племени копачей, да и пайютов тоже…»
Можно было бы, пожалуй, подумать, что простодушного писателя ввел в заблуждение кто-либо из местных жителей, выдающий себя за знатока индейских языков и жизни. Какой-нибудь бойкий гид.
Нет, не таков он был, Сэмюэль Клеменс, чтобы попасться на подобную удочку. Нет ни малейшего сомнения, он просто лукаво спародировал журнальные рассказы о путешествиях, а может быть, и попавшиеся ему под руку «научные» рассуждения топонимистов его времени. Вот я беру в руки карточки с этимологиями названия американского штата ДАКОТА. Одна из них утверждает, будто оно произошло от самоназвания индейского племени Янктонаис Дакота, что значит «одинокая собака». Другая возводит его к такому же племенному имени Оцети саковин, означавшему будто бы «семь костров совета», оно должно тогда переводиться как «связанные союзом». Третья просто указывает на слово «союзный», а четвертая дает для Дакота значение «друг».
Причем во всех случаях мнения свои высказывают достаточно авторитетные ученые.
Впрочем, их-то Марк Твен особенно любил ловить на слове!
«Карл Великий, король франков, — пряча усмешку в усах, как бы цитирует Марк Твен какой-то важный исторический труд, — искал для своего войска брод через реку Майн. Внезапно он увидел: к реке направляется лань… Лань перешла реку вброд, а за ней переправились и франки. Так им удалось одержать большую победу (или избежать крупного поражения), в память о которой Карл приказал заложить на том месте город и назвать его ФРАНКФУРТОМ, что значит „франкский брод“; а раз ни один из остальных городов так назван не был, можно смело утверждать, что во Франкфурте подобный случай произошел впервые…»
Старый насмешник отлично понимает, что и как он передергивает. Город был назван «франкским бродом» и на самом деле потому, что был основан у брода, а брод лежал в земле франков. Вполне возможно, что первопричиной и верно явилась какая-либо удачная переправа франкского войска через текущий по диким лесам, никому еще не ведомый Майн. А к этому приросли уже все остальные благочестивые легенды. И все же — ему смешно.
Во дни Карла «броды» были редким и важным подарком природы человеку. Они тщательно запоминались. Возле них вырастали поселки и города. Самые торные броды получали названия, и слово «брод» входило в них, только далеко не всегда с такими торжественными добавлениями.
Был ОКСЕНФУРТ — «Бычий брод» в Баварии. Был его прямой тезка — ОКСФОРД в Англии. Был в Германии «Свиной брод» — ШВЕЙНФУРТ. Был греческий «Бычий брод» — БОСФОР между Европой и Азией…
Но бывшему лоцману с Миссисипи были смешны не факты, а наивные комментарии, какими тогда весьма охотно топонимисты и историки облепляли крупицы фактических данных. Вот он и издевался над ними.
Впрочем, точно так же он любил выводить на чистую воду и своего брата, бойкого американского репортера, самонадеянного, всеведущего и невежественного.
Твен пишет биографию другого прославленного писателя США, Брет-Гарта, пишет с любовью и уважением к собрату, но весело, ядовито, как всегда. И тут он не может удержаться от пародии:
«Однажды Брет-Гарт забрел в золотоискательский поселок ЯНРА, получивший свое курьезное имя совершенно случайно. Там была пекарня с вывеской, намалеванной столь пронзительной краской, что и с изнанки можно было прочесть: „янракеп“… Какой-то проезжий дочитал это „янракеп“ только до буквы „а“ и решил, что таково имя самого поселка. Золотоискателям это понравилось, имя привилось».
Дурацкий рассказ? Но ведь даже сегодня экскурсоводы по Полтаве уверяют туристов, что имя реки ВОРСКЛЫ, известное в летописях чуть ли не со времен Киевской Руси, дано ей Петром I после того, как он обронил в ее воды свое «сткло» — подзорную трубу. «Не река, а вор сткла!» — вскричал в гневе победитель Карла XII, и река с тех пор стала называться Ворсклой.
Чем эта история лучше твеновской Янры? А в его времена каждый, кому не лень, особенно в Америке, брался одурачивать публику любыми выдумками в печати.
Тому, кто занимается (или хочет заниматься) изучением географических названий, надо очень ясно представлять себе, что так называемая «широкая публика», с одной стороны, как будто живо интересуется ими, а с другой, до смешного, ничего о них не знает, готова поверить любой чепухе.
В десятых годах нашего века в одном из детских журналов был помещен забавный рисунок с подписью. Маленькая, карикатурно вырисованная большеголовая американочка, засунув пальчик в рот, с указкой в руке стояла перед географической картой своей страны.
«Говорят, что МИССИСИПИ по-индейски значит „отец вод“… Не лучше ли было бы тогда эту реку назвать МИСТЕРСИПИ, и не дочуркой ли приходится ему МИССУРИ?»
Гидроним Миссисипи по-индейски означает, по-видимому, просто «большая река», что, впрочем, окончательно не установлено. Название Миссури переводят как «грязная, тинистая, илистая река» (вспомните нашу Иловатку). Есть и другая версия: производят название от племенного имени индейцев «Большие пироги». Похоже на Твена: «Тахо — Серебряное озеро, Хрустальная вода и Осенний лист».
Но вот именно так добровольные любители поразмышлять над названиями мест и строят для себя их объяснения: было бы созвучие, пусть даже не на языке той страны, где родился и живет топоним, пусть вообще притянутое за волосы, вопреки всякой логике…
Да и не одни только профаны поступают так. Я уже говорил о самогипнозе большого ученого А. Соболевского, приносившего логику и историческое правдоподобие в жертву своим скифским пристрастиям. Я мог бы назвать Н. Марра, связывавшего воедино топоним КИЕВ с именем армянского древнего городка КУАРА и не желавшего принять в расчет, что имя Киев в разных вариантах встречается во многих местах славянского мира и что вряд ли его соображения о родстве, основанные на анализе старых сказочных легенд об основании Киева и Куара, приложимы к сходным топонимам, встречающимся у южных и у западных славян.
О происхождении названия «Киев» и сейчас ведутся споры, но все же кажется, что самое простое решение — производство его от имени первожителя Кыя или Кия — остается и самым близким к истине.
Прозвище «Кий» — «Дубинка» было очень естественным в той древности, когда рождалось имя «матери городов русских».
Любопытно, что довольно ядовитую пародию на топонимические мудрствования примерно такого рода оставил нам великий драматург XIX века А. Островский.
Молодой Островский начинал свой литературный путь не с драмы, а с прозы.
В подражание гоголевским «Вечерам на хуторе» он в конце сороковых годов написал небольшое произведение отчасти в духе «физиологических очерков» того времени: «Записки замоскворецкого жителя». Как тогда было принято, он предпослал самому сочинению комически важное и ученое обращение к читателям:
«Милостивые государи и государыни!
1847 года апреля 1 дня (обратите внимание: „первого апреля!“) я нашел рукопись. Рукопись эта проливает свет на страну, никому до сих пор в подробностях не известную… Страна эта, по официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ. Впрочем, о производстве этого имени ученые еще спорят. Некоторые производят Замоскворечье от скворца; они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместья к этой птице. Привязанность эта выражается в том, что для скворцов делают особого рода гнезда, называемые скворечниками… Полагаю так, что скворечник и Москва-река равно могли послужить поводом к наименованию этой страны Замоскворечьем, и принимать что-нибудь одно — значит впасть в односторонность».
Все помнят библейскую легенду о пророке Ионе, которого будто бы проглотил, вопреки своему анатомическому устройству, кит и который пребывал во чреве кита некоторое время. Но мало кому известно, почему она могла сложиться.
Она сложилась потому, что древним людям кит представлялся «рыбой». А долговременные враги Иудеи ассирийцы называли свою столицу НИНЕВИЕЙ. Слово выводили по своему корню из слова «нуну», которое значило «рыба» и даже в письменности изображалось тем же самым клинописным значком-иероглифом, что и рыба. Достаточно для людей: Иона отсутствовал из Иудеи потому, что его съела «рыба». Какая? Конечно, самая огромная, значит — кит.
Такие народные этимологии не сдерживаются никакой логикой. Село БЕКТЯШКА на Волге возводится к сочетанию слов «ох, бег тяжкий», хотя на самом деле связано с тюркским словом «бекташи» — дервиш, через фамилию Бекташевых.
Имя города КИНЕШМЫ объясняется при посредстве выражения «ты кинешь мя», «ты бросишь меня в Волгу»: так будто бы какая-то княжеская жена или наложница кричала, когда разъяренный муж в гневе схватил ее на руки и понес на расправу. А немного дальше она стала взывать: «Режь мя!» — вопреки всякому человеческому естеству, и тут был основан городок РЕШМА.
По сравнению со всем этим милое объяснение Замоскворечья из «скворечник» представляется почти научным. Макс Фасмер, наверное, написал бы: «остроумно, но сомнительно»…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |