"Испытание добром (сборник)" - читать интересную книгу автора (Тесленко Александр)
МОНОЛОГ ОДНОГО ОТШЕЛЬНИКА[13]
К воротам Инканского комбината биокибернетики медленно подкатила черная легковая машина. За прозрачным обзорным фонарем кабины застыли фигуры женщины с короной золотистых кос на голове и тучного мужчины. За ними на откинутых сиденьях — кто-то третий, на носилках, тонкое белое покрывало повторяло крупные сильные формы его тела. Ни мужчина, ни женщина долго не выходили. Сидели, точно уснувшие или смертельно усталые.
Дежурный биокибер Августин заметил подъезжавшую машину и сразу узнал Мартина Реденблека и профессора Ларту Варич. Его удивило их поведение, даже несколько испугало, и он подбежал к ним, чтобы помочь.
— Добрый день, — поприветствовал он и слегка постучал по кабине.
Мужчина с женщиной только после этого пришли в себя и заметили биокибера.
— Добрый день, милый Августин, — постаралась улыбнуться женщина.
— Кто это? — спросил биокибер, взглядом указывая на носилки.
Мартин Реденблек и Ларта Варич молчали. И вдруг Августин сам понял, вспомнив недавние события.
— Это он? Дьондюранг? Наш легендарный биокибер…
— Да…
— Никто из нас не вечен, — вздохнул Августин, — Вам помочь?..
«Вот упругая масса основания барореторты послушно принимает форму моего тела, словно не желает ни в чем препятствовать мне в последней дороге. Опускается прозрачный пластиконовый купол, изолируя меня от окружающего. Включились двигатели энергоблоков — барореторта завибрировала.
Сознание исчезнет последним. Но пока не исчезло. Оно еще мое. Спасибо и на этом. Знаю: на моем лице сейчас уже маска вечного покоя. Весь я неподвижен, как каменное изваяние. Но мыслить еще могу. Спасибо.
Словно видится экран телеинформатора, на котором демонстрируется очередная передача знаменитого Жалио, Слепого Жалио, который видит все, но… не глазами. Артистические улыбки со студийной сцены видятся мне, как часть какого-то представления, где нельзя объективно определить фальшь, ибо нельзя определить степень истинности.
Постараюсь осмыслить прожитое. Когда-то было… уже распадается на хрупкие острые обломки… Никогда уже не допишу своей последней книги. А прежде усматривал в этом миссию своей жизни. Не напишу. В чем же тогда моя миссия? Стать частицей вечной машины? Но и это не так-то просто — быть достойной частью вечной машины существования, отлаженной испокон века, могущественной, мудрой и жестокой.
Мне всегда нравилась отведенная мне роль в этом мире. Некоторое время думал даже о превосходстве киберов над людьми. Впервые эта мысль пришла после встречи с профессором биологии Майклом Армом. Он искренне удивлялся, что его жена ничего не понимает в сложных физиологических механизмах пищеварения, но это нисколько не мешает ей нормально питаться, абсолютно не разбирается в проблемах генной трансформации, но умеет рожать детей. Профессор говорил совершенно серьезно, даже усматривал в этом некоторую дисгармонию материи. Я слушал его и думал, что биокибер никогда не размышлял бы так по-детски наивно и рационально.
Почему мне вспомнился этот профессор? Неужели он стоит того, чтобы о нем вспоминать в последние минуты своего существования? Не знаю. Я так и не смог выработать для себя устойчивых эталонов определения значимости. Осознал лишь следующее — то, что сегодня кажется мелким и незначительным, завтра может осмыслиться иначе.
Я счастлив от сознания того, что ни мысли мои, ни опыт не пропадут. Мой центральный анализатор, блоки памяти пойдут на изучение в Инканский информационный центр. Мои жизненные воззрения, принципы будут использованы следующими поколениями.
Чувствую, как из пористой основы, на которой лежу, просачивается прохладная жидкость. Через некоторое время я буду лишен эпителиального покрытия и вместе с ним привычного облика. Представляю, как поднимется гофрированными аркадами респираторный блок; как зашевелится змеей длинная извилистая трубка моего энзимного тракта.
А в мыслях почему-то возник образ старой женщины, которую встретил однажды на Земле. Лицо ее, весь облик представляются такими значимыми, что непременно хочу передать его в наследие другому, кто будет жить после меня. Женщина стояла посреди небольшой площади провинциального земного космопорта и держала в руках корзину спелого винограда. Она взглядом отыскивала детей и просила угощаться. «Берите, детки, берите. Он чистый. Я его вымыла». На янтарных гроздьях сверкали большие водяные капли.
Женщина была очень старой. Я понял, что она пережила последнюю земную войну.
«Когда наши отступали, подошел ко мне один, кряжистый такой, и сказал: «Вот возвратимся, снова все будет по-нашему. Берегите, люди, все, что остается». Сели на гравитоны и полетели. А мы берегли. Кто теперь умеет работать? Думаете, за вас киберы все сделают? А сами по себе? Я когда-то по два куля носила ежедневно да молола одна. И все людям отдавала. Крала для людей у клятых ворогов. Сама отруби ела. И доченька меньшенькая со мною жила. Берите, детки, виноград… Он чистенький…
Вот говорят все — не в своем уме я. А сыночка моего… О-о-о! Ну если б на фронте, а то дома убили. О-о-о-о, не прощу им и мизинчика сыновьего.»
А потом запела что-то древнее, совсем не ведомое мне, про коня и дорогу тоненьким голоском.
Воспоминание это настолько четко, как видеозапись.
Думается: люди порой бывают настолько равнодушными, что не желают понять, казалось бы, элементарнейшего, не хотят не то что разделить чужое горе, просто посочувствовать ему. Я тогда подошел к женщине. Ничего не говорил ей, стоял и слушал. Она долго смотрела на меня, потом сказала тихо: «Благодарю».
А еще вспоминаю Армиляра, биокибера с десятого земного гидроселектора. Его демонтировали только за то, что он сказал: «Дурацкая работа!» Армиляр семнадцать суток не выходил из пультовой селектора. Предупреждал взрыв неисправного реактора. Он был прекрасным специалистом, но стоило ему назвать работу дурацкой, как люди заподозрили серьезные нарушения в его центральном анализаторе. Армиляру требовалось одно — всего лишь отдохнуть. А может, ему никто не сказал простого «спасибо» за семнадцать суток адской работы. Подробностей я не знаю. Тогда были тяжкие времена для биокиберов. Считалось — проще демонтировать.
Когда я работал в Инканском центре проблем долголетия, подвизался там некто Франтишек Зинь — профессор, немолодой уже научный работник, совершенно не способный достичь высот славы, о которой он всю жизнь страстно мечтал. Вся его деятельность воспринимается мною сейчас как абсолютно патологическая, но большинству окружающих казалось, что поведение его не выходило за границы нормальной, модели поведения научного исследователя. Так вот, как-то профессор Зинь объявил о запланированной им операции биокибернетического протезирования печени. Я не верил в его способности. Он был типичным неудачником. И, как все неудачники, не умел выбрать ни подходящего момента, ни посильного объекта для осуществления задуманного.
К тому времени категорически запрещалось даже ставить вопрос о биокибернетическом протезировании без подтверждения десятью специалистами полного исчерпания жизнеспособности структур естественного органа. Профессор Зинь решил сам создать для себя благоприятную возможность. Он предложил оперировать сына рабочего Инканского комбината биопокрытий. Родители мальчика слепо верили в достижения науки и дали согласие на любую операцию. Не хочу вспоминать подробности, хотя они известны мне. Ведь мне осталось существовать так мало… Если бы профессор ставил себе цель помочь человеку, я без колебаний подошел бы к нему и выложил все свои соображения. Но профессора интересовала только слава. И каждое слово моего совета звучало бы обвинением. Поразмыслив, что и сам я могу ошибаться, убедил себя, что, пожалуй, пришла пора широкого биокибернетического протезирования, а операция Зиня просто ускорит общий процесс. Что будет плохого, думалось, если профессор Франтишек Зинь сделает операцию, необходимость которой сомнительна по современным критериям? А каковыми будут критерии послезавтрашние? Так и думал.
Но когда мальчик умер во время операции, я понял, что допустил ошибку. Никогда нельзя утаивать того, что думаешь. Особенно биокиберу. Я начал готовиться к обвинению, как вдруг меня опередил председатель Центра проблем долголетия Николиан Бер. Без всякого объяснения он отстранил профессора Зиня от участия в экспериментальных работах. То ли Бер тоже догадался обо всем, то ли окончательно убедился, что Зинь — неудачник.
А если б Франтишек Зинь не был неудачником?
Если бы мальчик выжил? Разве безразлично с какими намерениями делаются, пусть даже добрые, дела?
Из распылителей заструился поток миолизина.
Но думать пока еще могу. Спасибо.
«Скажите, как бы вы поступили? — спросил меня Александр Сфагнум, председатель контрольной комиссии, проверявшей достоинства очередной группы биокиберов, сошедших с конвейера. — Допустим, у вас есть выбор между тремя моделями существования. В первой получите возможность неограниченного пользования всеми благами нашей цивилизации, но не будете активным участником их создания. Во второй — сможете существовать в самом бурном творческом процессе, но потребности будут удовлетворены частично. В третьей модели — ни творческого горения, ни удовлетворяющих проблем, но получите возможность длительного спокойного существования. Так на какой же модели вы остановились бы?» Без колебаний ответил: «Если б все зависело от моего желания, не выбрал бы ни одной…» — «Почему? — спросил Сфагнум, листая мой технический паспорт. — Неужели ни одна из моделей не обеспечит максимального проявления вашей личности?» — «Ни одна». — «Можете объяснить?» — «Могу. Неограниченное потребление благ рискованно. Оно приводит к чрезмерной активности системы адаптации и очень быстро лишает способности удерживать необходимый внутренний потенциал. Настолько же патологично — являться творцом, но не пользоваться плодами своего труда. И абсолютно ненормально — функционировать долго и бесплодно». — «Вы вправду мыслите как человек, — усмехнулся Сфагнум. — » Хотите быть причастным к каждому из звеньев жизни, выбирая кратчайшие пути к достижению дальней цели. Не так ли?»
Подобную мысль я когда-то встретил у писателя Буркуна. «Выбор удаленной цели оберегает от торопливости в ее достижении, но вынуждает выбирать кратчайшие дороги».
Мне пришлось оказаться свидетелем интересного случая, который произошел с ним в природоведческом музее на астероиде Лазурных Сталактитов. Внимание писателя привлекли наручники, единственный уцелевший экземпляр примитивного орудия древности для лишения свободы. Они висели на таком же древнем крюке, забитом в шероховатую стену пещеры. Я с интересом наблюдал, как засияли глаза писателя. «Что это? — воскликнул он. — Позвольте, так это же наручники?!» — «Да, — ответил директор музея Мартин Реденблек, лично сопровождавший писателя. — Вы не ошиблись». — «Я пишу исторический роман. Позвольте подержать их, в руках? — Голос писателя смешно дрогнул, от волнения. — Мне это необходимо… Нет, не просто подержать. Я обязан все прочувствовать. Вы не должны мне отказать. Наденьте их мне на руки. Я хочу ощутить себя жителем прошлого тысячелетия. Иначе… иначе ничего путного я не напишу. Поверьте мне».
Реденблек колебался некоторое время. А потом действительно не отказал в просьбе писателю. Меня это удивило. Лицо Мартина излучало осознание наивысшей необходимости. Алекс Буркун протянул ему руки, и старинные наручники, глухо щелкнув, охватили его запястья.
За свою жизнь я написал несколько книжек, а потому и себя считал немного писателем. Но ни разу мне не приходило желание пережить до мельчайших деталей все, о чем я собирался писать. Вероятно, потому, что я никогда не писал о том, чего не знал. Поэтому странную просьбу я воспринял как писательскую прихоть.
Я собрался уже уходить, как вдруг произошло непредвиденное, заставившее меня задержаться. Буркун захотел возвратиться в современность, и Мартин Реденблек, как исполнительный кибер, вставил в историческую замочную скважину исторический ключ, повернул его… и тут же воскликнул: «Вот напасть!» Древний ключ сломался; известного писателя не отпускало прошлое, крепко держа за руки железными браслетами. Но на его лице не заметно страха. «Помочь?» — спросил я, подходя ближе. «Да, Дьондюранг, видишь, какая неприятность… — Директор смущенно смотрел на добровольного узника. — Я должен был подумать об этом… Это моя вина…» — «Пустяки, — улыбнулся Буркун.
— Жаль только портить такой редкостный и единственный экземпляр. В вашем музее найдется какой-нибудь инструмент?» — «Я думаю, наручники следует распиливать одной из музейных пилок, — сказал я. — Это особенно интересно для писателя. Необычная добавочная информация…» — но никто не уловил скрытой иронии в моей реплике. «Да-да, совершенно верно…» — бодрясь, воскликнул Буркун, но в голосе его уже не чувствовалось прежнего запала.
Жаль, что не имею времени припомнить все подробности. Наручники пилили музейной пилкой четыре часа. За это время многое можно прочувствовать и пережить. Я пилил, а Мартин Реденблек непрерывно поливал водой, чтобы наручники меньше разогревались. Но это не помогло — на запястьях писателя все равно остались темные полосы ожогов. К концу четвертого часа Алекс Буркун стал сам не свой. Даже пить не просил. Сидел с жалким видом на музейной скамье.
Но когда через полгода я прочитал его исторический роман «Свобода», особенно главу о побеге главного героя из тюрьмы, я понял всю глубину своей ошибки. Ему действительно необходимо было все прочувствовать на себе. Никто не смог бы мысленно смоделировать такие убедительные картины, такую гамму чувств. И поэтому сейчас, на последнем этапе моей последней дороги, хочу повторить: для каждого мыслящего существа очень и очень важно быть участником описываемых событий.
Не обращать внимания на зеленоватое табло! Отсчет оставшихся минут может заполонить все существо. Тогда и сознание, единственное, что у меня осталось, парализуется…
Кажется, не могу подобрать точного, нужного слова, чтобы высказать что-то… Но что? Откровение? Итог всего совершенного в жизни? Рецепт счастья биокибера Дьондюранга? Какое же это слово? Какие слова? Зависли в воздухе, как детские надувные шарики…
Недостает мудрости или знаний, сил или просто времени, чтобы найти наконец магическое слово, которое, как фермент, сгруппирует вокруг себя субстрат прожитого, на табло — 308, или разложит его, препарирует, освобождая — 307, освобождая…
Опять вспомнился писатель Буркун. Я ему завидовал в последние годы своей жизни. Он умел писать про заурядные понятия, но всегда необыкновенно, по-новому.
Теперь наконец-то я знаю: если чувствуешь в себе художника, скажем, писателя, то нужно писать обо всем, что видишь и чувствуешь. Не следует пытаться создавать собственную мудрость — она, если есть, родится сама, как плод на дереве. Искусство питает ум, как энергия тело. И каждый день должен быть новый глоток воды, новой воды, хотя и построенной из тех же самых молекул, что и вчера.
Наша сила в понимании своего места в мире. Не рабская покорность и безразличие, как у первых земных киберов, а гармоничное единство частей, составляющих целое. Всеобщее действо длится вечно, но каждый из актеров смертен…
Часть не может быть мудрее и сильнее целого. Сильный тот, кто отвечает требованиям времени, а слабый — кто даже мысленно… На табло — 221… даже мысленно… 220… мысленно… 219…
Жизнь отторгает чужеродное. Порою некоторые отшельники, всю жизнь прожившие независимо от мира, своим существованием хотят опровергнуть это правило…
Таким же отшельником стал на некоторое время и я! Скрылся от запрограммированного демонтажа. Начал писать книги…
Скоро наступит очередь моего центрального анализатора. Все блоки тразонных накопителей попадут в информационный центр, где чуткие внимательные автоматы заметят самые слабые сигналы остаточных потенциалов.
Ничто не затеряется! Ничто из прожитого не окажется напрасным! Не окажется?
Я же бывал не раз в рабочих корпусах информационного центра. Я ведь знаю все. Я видел все одиннадцать рабочих конвейеров. С интервалом в семь метров проплывают небольшие шарообразные блоки центральных анализаторов. Блоки памяти прибывают в информационный центр со всех планет искусственного звездного метакаскада… Интервал семь метров. Стоят новейшие бездушные дезинтеграторы. Стоят обыкновенные киберы-исполнители. Датчики сверхчувствительной аппаратуры.
Стоят и люди, не имеющие ни минуты свободного времени. Интервал семь метров. Что для них одна единственная вспышка в информационной сетке? Они оперируют миллионами! Выводят среднестатические зависимости и тенденции. Ничто не исчезнет? Все исчезнет! Превратится в безликую мельтешню сигнальных лампочек, в плоские оладьи магнитных дисков, в горбатые линии графиков… Нельзя так думать! Нельзя!
Мне теперь все можно! Все!
Теперь уже никто и никогда не услышит моего голоса.
Никто и никогда не спросит восхищенно: «О-о-о, вы работали у самого Бера?»
А я уже никогда не улыбнусь в ответ солидно и иронически одновременно. Никогда! Не буду читать людям и киберам свои книги. Никто уже никогда не заставит меня вторично пережить голодную смерть на дикой планете Ир. И даже в воспоминаниях никто не…
Интересно, что от меня осталось? Я уже ничего не чувствую. Еще мгновение — и я растворюсь в окружающем…
Скоро исчезнет грань, отделявшая меня от деревьев и насекомых, от домов и магистралей, от других мыслящих существ. Эта грань определяла мою сущность. Я жил, пока мог сохранять свое уединение.
Но уже не могу. И… не хочу. Хочу раствориться… Хочу стать всем сразу и… ничем в частности… 5… 4… 3…»
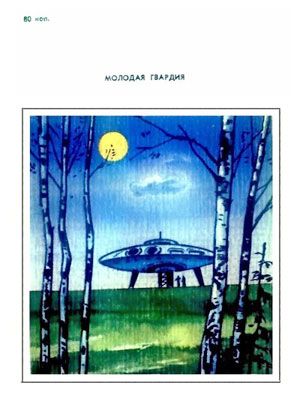 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |