"Разорванный рубль" - читать интересную книгу автора (Петрович Антонов Сергей)
8
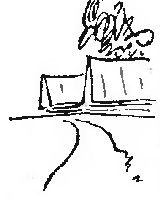 |
Вчера вечером пришла телефонограмма — просят наш хор в дом отдыха на выступление в порядке культмассовой работы среди отдыхающих. И даже не просят, а требуют. В конце сказано: «Просьба не опаздывать».
У меня сердце упало.
Последние дни наши певицы работали не разгибаясь. После дождей запарило, и сорняк стал душить кукурузу. Надо бы сразу полоть, а Пастухов дня два тормозил — решил поставить руководство перед фактом и добиться разрешения пустить культиватор на скоростях. Но приехали уполномоченные из райкома и такой нам дали нагоняй, что пришлось принимать чрезвычайные меры. Весь четверг, всю пятницу и субботу от зари до зари пололи мы поля второй бригады.
До того доработались наши актрисы — не разогнуться. В перекурах становились попарно, спина к спине, цеплялись под локотки и перевешивали товарка товарку, разгибали друг дружке хребты.
Председатель все дни был с народом. А вчера, когда девчонкам вовсе стало невмоготу, велел объявить по бригаде:
— Если сегодня кончите, завтра объявляю выходной. Полные сутки спать будете.
Девчата обрадовались, принялись из последних сил и дальние сотки пололи уже в темноте, на коленях.
Как теперь быть, ума не приложу. Я наших девчат знаю, объявили выходной — никто не поедет.
Решила применить крайнюю меру.
Перед поездкой в Москву всем участникам хора за счет отдела культуры были пошиты шелковые платья и сделали кокошники с блестками, а юношам — шелковые русские рубахи и широкие штаны без ширинок. Кроме того, каждому по мерке были сточены из красной кожи мягкие, как чулки, сапожки. Девчата очень хвалились своими нарядами и берегли их пуще глаза. И вот другого ничего не осталось делать, как пригрозить: кто откажется ехать — отберем костюмы.
На основную массу мое предложение по действовало. Но главные, захваленные, певицы и танцоры только отмахнулись: забирай, мол, у нас своего хватает!
Что делать? Побежала к Ивану Степановичу. На мое счастье, «Москвичок» стоял у ворот — хозяин был дома.
Когда я вбежала, он дозванивался до райцентра.
Пока он звонил, я обрисовала положение: Расторгуева Лариса даже не стала разговаривать. Сказала: «Хватит народ обманывать» — и заперлась. А она ведет песню «Все зеленые лужаечки». Песня разноцветная — без Лариски не получится. Рудакову Таню не пускает муж. Денисова Дарья, которая в паре с Таней, запевает одну из наших лучших самодеятельных песен «Ни с ветру, ни с вихря», белится и красится — настроилась на гулянку. Сизову Ритку (она у нас пляшет под частушки) и ругать неловко, у нее мать помирает. К Митьке Чикунову приехали в гости братья. А он главный тенор, без него вообще хор без головы.
Председатель слушал меня и кричал в трубку:
— Алло! Алло! Евсюковка! Дочка, почему коммутатор молчит? Разбуди ты их там, пожалуйста!.. Евсюковка! Да что вы там, заснули или померли?..
Он бросил трубку и сказал:
— Тугая у нас молодежь. Ладно, поедем. Не таких сгинали.
Время было обеденное, весь народ дома.
Сперва заехали к Чикуновым.
Митька сидел за столом с двумя братьями. Братья давно откололись от деревни, женились на городских и приезжали изредка за картошкой.
На днях кто-то пустил слух, будто станут отрезать огороды и отбирать скот. Митька занервничал, решил продавать избу и ликвидировать хозяйство. Вызвал братьев — посоветоваться. С самого утра они считали на бумажках, пересчитывали, спорили, куда девать бабку.
Бабка лежала на печи и покорно слушала, кому достанется.
В избе было грязно, только на стенке откуда-то взялась картинка: нарисована женщина, немного похожая на Груньку Офицерову, и подписано: «Неизвестная».
Братья неприветливо уставились на нас. Были они все трое одной породы, скуластые, и челюсти у них крутые, как предплужники.
Увидев чужих, Иван Степанович принял официальный вид. Шут их знает, что за люди, где работают. К тому же один в галстуке.
— Садитесь с нами, Иван Степанович, — сказал Митька. На столе в миске была капуста с брусникой. Мокрые круги от бутылок доказывали, что была водка, да спрятали.
— Чего садиться, когда бутылки под лавкой, — сказал председатель. — Чего ж ты, артист, выступление срываешь?
— Я, Иван Степанович, решил подаваться из колхоза. Ищите тракториста на штатную должность.
— И заодно — тенора, — добавил тот, что в галстуке.
— Лапти, значит, на семафор решил вешать?
— Придется лапти вывешивать. На сапоги я у тебя не заработал. Год вкалывал, а денег нет. Хоть вой!
— А в хору небось велите петь: «Ах ты, радость невозможная», — добавил тот, что в галстуке.
— Тебе все рублей не хватает? — спросил Иван Степанович, накаляясь. — Подымай колхоз, будут и рубли.
— А как его подымешь, когда вы норовите платить докладами? — мрачно спросил старший брат, до этого молчавший.
— Какими докладами?
— Поясняю. Я тоже с этого колхоза. Первоначально, когда мы назывались «Смерть кулакам», еще жить было можно. Жрать давали. А потом, когда переименовали в имени Ежова, стали колхозника приучать вкалывать задаром. За так. Посеем — за это нам доклад прочитают. Уберем — за это еще доклад прочитают. А жрать не дают. Так вот, дорогой директор колхоза, учти: дурака за доклад работать ты еще найдешь. А земля задаром тебе рожать не станет. Ей тоже кушать надо. Она назем просит. Удобрение.
— Закон сохранения энергии, — строго прибавил тот, что в галстуке.
Я смотрела на Ивана Степановича и переживала за него. Ну чего он теряет время? К чему биться с этими лобачами? Разве можно их убедить.
— Я не случайно задал вопрос про деньги, — проговорил председатель задумчиво, как бы взвешивая, стоит ли входить в объяснения. — Не случайно.
Все трое уставились на него.
А он подумал, махнул рукой и пошел к двери.
— Обожди, — задергался Митька, — Иван Степанович!
— Чего ждать? — председатель ухватился за скобу. — А с твоими дезертирами говорить нечего…
— Мы, к вашему сведению, рабочий класс, — угрожающе сказал старший. — Не обзывайте.
— Вы меня хотите в дискуссию втравить? — Иван Степанович грустно вздохнул. — Не выйдет! А ты, Митя, принял решение — твое дело. Только гляди не просчитайся. Не знаешь ты еще всего.
Митька насторожился: не скажет ли председатель чего нового про огороды.
— Многого ты еще не знаешь.
Братья тревожно смотрели, не ушел бы председатель — старались догадаться, что у него на уме.
— В такой ответственный момент и так себя ведешь, — продолжал Иван Степанович с укором. — Ничего ты не понял, ничему не научился.
— Да ведь я почему не еду?! — взвился Митька. — Мне в Москве велели горло беречь! У меня ценный тенор! А меня в кузове возят! Лариска в кабинке, а я в кузове!
— Устыдил бы ты их, — зашумела с печки бабка, — Мыслимое ли дело затеяли!.. Отец всю жизнь наживал, а им бы только по ветру пустить.
— Ты читал в центральном органе статью: «Людям — значит себе»? — грустно спросил Иван Степанович.
— Нет, — насторожился Митька.
— А почитал бы… Я тебя давно предупреждал… Не знаешь ты всего. Недопонимаешь.
— Так они в кузове возят! И на бис вызывают! Горла не напасешься за так на бис петь!
— Ай-яй-яй! — покачал головой Иван Степанович и вышел.
— Ну вот! — закричал Митька братьям. — Говорил — сбиваете с толку. Не знаете ничего! Машина будет?
Я сказала, что будет.
— Ладно. Если в кабинке — поеду. Хрен с ним. Только уговор — на бис петь не стану! Хоть пол простучите — не стану.
Мы вышли.
Я спросила председателя, что за статья в центральном органе.
— А ты думаешь, я читал? — ответил он. — У меня за две недели газеты лежат не читаны. Где оно, время-то?
И мы поехали к Денисовым.
У них живут мать без отца и шестеро дочек. Бабье царство, а в избе постели не прибраны, на полу тряпки. Двери целый день настежь. По столу ходят куры.
Старшей дочери Денисовых лет тридцать. Она девушка, на лицо страшная, как война. Вдобавок — злющая, все кидает. Болтали, что замуж она не вышла из-за имени. Звать ее Фекла. Но у них ни одна дочка не нашла еще постоянного мужа, так что дело тут не в имени.
Вся семья отчаянная, бесшабашная. Как соберутся вместе, так и давай лаяться и между собой и с матерью. А меньшие — двойняшки, хоть им и десяти нету, довели учительницу до истерики. И понятно: отвечают одна за другую, а отличить их нет никакой возможности.
Когда мы вошли, мать гладила ворох белых халатов, Фекла в бигудях калила семечки, двойняшки перебирали картошку и баловались.
— А ты вроде похудела, мать! — весело зашумел Иван Степанович с порога.
— Похудела! — отозвалась хозяйка. — Восемьдесят кило было, девяносто осталось!
Иван Степанович спросил, где остальные дочки.
Мать сказала — на ферме.
— А Дарья?
— Шут ее знает, где ее носит. Загуливает, язва! Они у меня все бедовые — с молошных зубов гуляют.
— Чего ж ты ее ругаешь? В мамку! — смеялся председатель. — Небось и сама обожала, когда тебе мужики пятки чесали.
— А я и сейчас обожаю. Мой сезон еще не прошел!
Она звонко расхохоталась, большая, здоровая, загорелая, как шоколадина.
— При детях не совестно, — проворчала Фекла. — Какая вы, мама, право, чудачка аморальная!
— А кому вы нужны, моральные? — весело отозвалась мать.
За переборкой пугалась и хлопала крыльями курица. Я поняла, что Дарья прячется там, и только подумала, как ее выманить, а председатель уже закричал:
— Вон она где! А ну — на выход!
Дарья появилась в сережках с подвесочками, в красных хоровых сапожках. Среди дня наладилась на свидание.
Лицо у нее было пухлое, как колобок, глаза узкие, сонные.
Она сердито пнула курицу сапожком и сказала:
— Петь не поеду, хоть зарежьте.
— Не поедешь — скидай сапоги, — припугнул председатель.
— А пожалуйста… Мама, вас что, на коленях упрашивать, чтобы вы платок погладили. Мне же идти!
— У тебя тут, — председатель кивнул на ее пышные груди, — совесть есть?
— А вы пощупайте, — предложила Дарья.
Мать взвизгнула и захохотала.
— Небось к павильону собралась? Шоферов улавливать?
— А вы, товарищ председатель, обеспечьте постоянного ухажера — не стану улавливать. Полные сутки петь буду.
— Ты на бюро обещала не бросать хор, — напомнила я.
— На словах она тебе на борону сядет, — смеялась мать, отглаживая яркий фестивальный платок. — Ей недосуг! Днем на ферме, вечером целоваться идти.
— А вам, мама, завидно, — сказала Дарья.
— Нешто не завидно! — откликнулась мать.
— Дура, — оказал Иван Степанович. — Гляди, сбалуешься. Какой тебе прок, когда у тебя каждый день другой водитель? Смотри — он тебя доведет!..
— Обожди-ка, Иван Степанович, — остановила его мать. — Обожди похабничать. Лина идет.
Третья дочь — Лина, на ходу скидая кофту, быстро прошла за перегородку. Потом вышла в халатике, стала пудриться.
И мать и Дарья перестали шутковать, а глядели на нее с нежностью и грустью. И двойчата притихли.
— Ну чего вылупились? — капризно спросила Лина.
— К нему? — спросила мать уважительно.
— А к кому же? — Она вдруг улыбнулась, будто солнышко из тучки. — Мочи нет — стосковалась. С мая не виделись. Все работа и работа, шут бы ее взял…
— Значит, хороший человек, если стосковалась.
— Уж какой хороший!.. Целовать не насмелится. В ручку чмокает — и все…
— Где же вы стоите? — спросила мать.
— На бережке или в роще. Цветочки объясняет, травки разные от каких болезней. Малина — от простуды, зверобой — от живота, ландыш — от сердечного волнения.
Сестры слушали с завистью.
— И подушиться нечем! — закапризничала Лина. — Сколько просить — купите «Белую сирень».
Фекла отомкнула свой личный сундучок и достала граненый флакон.
— Чего же ты духи прячешь? — спросила Лина. — Ровно Плюшкин.
— На всех не напасешься.
— Платок-то у тебя сиротский, — сказала Дарья. — Не к лицу. Бери мой. Хочешь?
— Давай! Надо бы за первотелками Марьи Павловны поглядеть.
— Я сбегаю, — сказала Фекла. — Иди уж. И гостинца ему снеси.
Она подала сестре кулек семечек.
Лина вышла, и все смотрели в окно, как она вышагивает по тропке в красивом фестивальном платке, в белой кофточке под ремешок.
— Полетела к своему залеточке, — проговорила мать нежно. — Так у них хорошо! Так по-чистому! Ах, как хорошо, — и, вернувшись к утюгу, добавила: — Залетка-то живет на кордоне, а каждый раз провожает.
— Доведет до околицы, а дальше идти не смеет, — задумчиво сказала Дарья. — Станет и стоит. Любуется на ее походочку.
— Ну вот, — сказал председатель. — Любовь — штука обоюдная. Вот поедешь с хором…
— Сказала, не поеду значит, не поеду.
— Не перебивай! Мы тебя в центре поставим, в первый ряд, на самую середину. Встанешь в лентах, в красных сапожках: неужели ни один не позарится? Барышня сочная. Вон какой ромштекс! — Он шлепнул ее. Она взвизгнула и засмеялась. — А на тебя глядят скульпторы, полковники…
— Да они все женатые…
— То-то и дело, что нет! Семьдесят три процента холостых и разведенных. Возле павильона все тебя знают. Ты там все одно, что бюст Тургенева. А в доме отдыха — другое дело. Там ты артистка.
— Не поеду! — сказала Дарья нерешительно.
— Смотри, останешься на семена, как Феклуша.
— Слушай, Дарья, — сказала мать. — Тебе дело говорят.
— Да вы-то хоть молчите, мама. — Дарья сморщила облупленный носик и спросила: — А верно меня на виду поставят? Не зря говорите?
Председатель взглянул на нее, скривился и сказал:
— Поставим, поставим.
Дело и тут было сделано. И Иван Степанович, уходя, сказал весело:
— А не хочешь, не езжай. Плакать не станем.
Таню Рудакову мы застали во дворе. Она развешивала белье: хлориновое исподнее мужа, свое рванье, ребячьи выцветшие трусики.
Недавно Тане сровнялось двадцать четыре года. А муж Авдей Андреич много старше. Сколько я себя помню, он бессменно работает счетоводом. От первой жены остался у него дошкольник Ефимка. С ним Тане и приходится воевать.
Девчонкой Таня была звонкая, заводная. А как свадьбу сыграла, будто удивилась. Стала тихая, как гармошка в футляре. Вот что значит выходить за чужого мужа.
Иван Степанович подошел к Тане и спросил:
— Отдохнула?
Она молча развешивала белье.
— Тебя спрашивают или нет?
Таня опустила голову и стала теребить фартук мокрыми руками. Была она длинная, тощая и плоская.
— С хором поедешь?
— Не знаю.
— А кто знает?
Таня помолчала немного и сказала тихо:
— Хозяин не пустит.
В это время хлопнула дверь, и на крыльцо выбежал Авдей Андреич, в валенках и в галстуке, прикрепленном к сорочке скрепкой для бумаг. Был он небритый, и волосы, наполовину черные, наполовину седые, как говорят — соль с перцем, торчали у него во все стороны.
— Танька! — закукарекал он. — К вечеру луковицу испеки! Мозоли сводить буду! — Он вынул часы, щелкнул рышкой. — К семи давай!
На Ивана Степановича он и не поглядел, будто его не было.
— Вечером ей некогда, Авдей Андреич, — оказал председатель. — Вечером ей с хором ехать.
Он ничего не ответил, бросился в избу и стал бегать по дому, хлопать дверьми. Сердился.
Немного обождав, мы прошли в горницу, которая у них называлась «зал». В зале висел портрет Ворошилова в тяжелой раме. На столе, выдвинутом по-городскому на середину, лежали штабеля бумаг и подшивок. Рудаков готовился к полугодовому отчету.
Похлопав дверьми, Авдей Андреич внезапно выскочил со стороны кухни и, не успел Иван Степанович открыть рот, закричал:
— В мае на фабрику ездили! Дунька воротилась без пяти одиннадцать, а моя — в одиннадцать сорок! — Он выхватил из кармана часы и щелкнул крышкой. — Где сорок пять минут была? Гуляла? Молчит!
— Обожди, Авдей… — начал было председатель.
— Пришла — губы распухлые, как у трубача! Что она там, на трубе играла? Из Москвы со смотра воротилась — от волос табаком несет. Дорогими папиросами.
Председатель снова попробовал прорваться в разговор, но и на этот раз не вышло.
— Вы что, из моей бабы обратно девку хотите сотворить? Вот вам!
Он снова побежал сердиться, и снова вся изба затряслась от хлопающих дверей.
— Шли бы вы, — сказала Таня. — Ничего у вас не выйдет.
— Почему не выйдет? — усмехнулся председатель и сел на стул. — Очень даже выйдет. Добывай из укладки красные сапожки.
Авдей Андреич, постучав дверьми, немного отвел душу, уселся к своим бумагам и начал стрелять на счетах. Председатель поглядел, как стучат и бешено крутятся костяшки, и спросил:
— Долго ты намерен общественную работу разваливать?
Хозяин не отвечал, будто никого тут не было.
— Общественную работу разваливаешь — это раз. Равноправия не признаешь — два. Ты что? Против закона?
— Я законы лучше твоего знаю, — сказал хозяин, придерживая цифру пальцем так крепко, словно боялся, что уползет. — Жена она мне или кто?
— То-то и есть, что жена. Поэтому должен дать ей возможность повеселиться. Не век же ей на латаные валенки глядеть.
— На валенки? На латаные? — Авдей Андреич рванулся со стула, не выпуская, впрочем, цифры из-под пальца. — Это как понимать?
— Так и понимать. Ты пожил, погулял. Старый. А она молодая. И спеть ей охота и потанцевать.
— Молодая… Старый… Валенки латаны… — Авдей Андреич извивался от ехидства и вредности, припаянный пальцем к цифре. — А вы ее там еще подрумяните? Ленточки на нее повесите?
— Надо будет — повесим.
— Да я в этих валенках десяти председателям отслужил! — закричал вдруг Авдей. — Десяти отслужил и тебя переживу!
Он выбежал через кухню, погромыхал дверьми и прибежал через спальню.
— Я еще твоими костями в бабки играть буду! «Равноправие, общественная работа»! Заморочили людям голову!
— Это кто заморочил? — спросил председатель. — Советская власть?
— Все вы хороши!
— Ну, если так, тогда, конечно, говорить нам с вами не об чем.
Иван Степанович встал и принял положение «смирно».
— Давно я наблюдаю за вами, Рудаков. Ночная у вас душа. Власть его не устраивает!
Как только председатель назвал его по фамилии и на «вы», Авдей Андреич страшно перепугался.
— Ты мне контру не шей! — закукарекал он. — Сейчас культа нету! Она там где-то будет петь, а ты сиди переживай!
Мы вышли во двор, а из зала доносился крик:
— А ты чего встала? Чего молчишь? Тебя зовут или меня? Твое дело — не мое!
Мы остановились. На крыльцо вышла Таня.
— Ну? — спросил председатель.
— Не поеду я, Иван Степанович.
— Да ты что?
Она молчала, пригорюнившись, перебирая красными руками фартук.
— С ним бился, теперь с тобой?
— Жалко, — тихо сказала Таня,
— Чего тебе жалко?
— Авдеюшку… Зачем же за валенки над ним смеяться? У него ревматизм. На ногах шишки. А вы смеетесь. Он в войну застудился. Нехорошо, Иван Степанович. — Таня оглянулась на дверь с опаской и подошла ближе. — Когда я петь уезжаю, он на картах гадает про меня… Правда. Ефимка видал.
— Тогда так, — сказал председатель. — Бери с собой Ефимку. Пускай он глядит за твоим поведением. Заместо шпиона.
— А можно?
— Дам указание.
Когда мы садились в машину, по всему дому Рудаковых хлопали двери.
Следующей была Маргарита Сизова. У нее отец — водитель электровоза. А мать, Мария Павловна, лежит больная. Хворь схватила ее еще осенью, но она долго скрывалась от докторов. Зимой нашли ее без памяти на ферме. Отправили в больницу. Стали резать, ничего не вырезали, зашили и отправили домой.
Муки довели Марию Павловну до того, что она лечится любыми порошками и любым снадобьем, какое посоветуют. И никому не секрет, что жизни в ней осталось мало.
Рыжая красивая Маргаритка встретила нас на улице с заплаканными глазами. Ночью матери было совсем плохо, а отец, как на грех, в рейсе.
Председатель не решился ругать Маргаритку. Он еще на пороге снял кепку и вошел, как в церковь. Мария Павловна лежала высоко, в мужской сорочке с воротничком. Я тихонько подняла ее руку, пожала и так же тихонько положила на стеганое одеяло, на прежнее место. Ой, какая легкая ручка! Ученые сосчитали: чтобы надоить один килограмм молока, надо сто раз сжать и разжать пальцы. Попробуйте сами, легко ли сжимать кулак сто раз подряд. А у Марии Павловны было двенадцать коров, и давали они не меньше ведра каждая. Просидела она под коровами полжизни, и, пока не ввели «елочку», Марии Павловне приходилось сжимать и разжимать кулаки самое малое пятнадцать тысяч раз в день. Однажды, поспорив в шутку с командированным, она сдавила ему руку так, что он присел и целый день потом шевелил пальцами, будто натягивал перчатку. Такая у нее выработалась железная кисть.
И вот теперь эта рука лежала на одеяле, легкая как перышко. С лица Марии Павловны сошел багровый загар, стало оно чужое, перламутрово-бледное. Только синие глаза, как всегда молодые, милые, поблескивали, словно васильки после дождя.
Мария Павловна обрадовалась, что зашли проведать, затрепетала вся:
— Сейчас я вам… Самоварчик сейчас… На стол соберу… Я сейчас…
— Да ты что! — кинулась к ней Маргарита, видя, что мать всерьез собирается подниматься. — Лежи! Сама уважу!
— Да что ж это такое!.. — хозяйке было ужасно совестно лежать при гостях. — Ты сперва постели скатерку-то, Риточка, да не эту! Ту, которую отец из Харькова привез. Да стол оботри. Крошки там, молоко — мало ли… Не так ты все делаешь, дочка. — Она снова попыталась встать, но мы ее удержали.
— Лежи, Маруся! — сказал Иван Степанович. — Поправишься, тогда будем чаи гонять.
— С вами поправишься! Мне бы коровушку подоить или так что-нибудь поделать, и сразу станет легче. Вся хворь выскочит. Глупенькие вы, — продолжала она покорно. — Говорила, не надо в больницу, нет, повезли… Линка-то с первотелочками справляется? Уважают они ее?
— Уважают. Да у Линки ухватка не та. Аврора, бывает, капризничает.
— Аврора известная привередница. Стиляга… Вчерась стадо гнали, встала тут возле окна и мычит. На Линку ябедничает. Насилу согнали… Что затужил, Иван Степанович? Невесело тебе с хворой бабой?
— Умаялся, Маруся.
— Как не умаяться. Сколько делов.
— Сегодня просыпаюсь, гляжу, в сапогах. А на часах уже шесть утра. Представляешь? Всю ночь обутый проспал. Хотел газеты проглядеть — три речи еще не читаны, — да вот с утра гоняю…
— Вон зеленый какой! Тебе бы прилечь.
— Хватит. В бригадиры буду проситься или в кладовщики.
Иван Степанович накрыл глаза рукой, уронил голову и словно задремал.
Мария Павловна взяла бумажку, написанную под копирку, и, лукаво взглянув на председателя, стала читать:
— «На аспида и василиска наступиша и попереши льва и змея».
— Чего, чего? — встрепенулся председатель, но спохватился и снова принял измученную позу.
В избе было сыровато после дождя, промозгло. Чтобы белье не плесневело, все ящики в комоде были чуть выдвинуты, а все дверцы в гардеробе чуть приоткрыты. Ритка сказала, что надо бы протопить, да дров нет. А на зеркале уже темные пятна.
— Зашла бы в правление. Председатель выпишет.
— Да к нему разве проберешься. Возле него всегда цельная стена народа.
— Попроси сейчас.
— Дайте отдохнуть человеку, бессовестные! — зашептала Мария Павловна. — Вон ведь как укатался.
Я сказала, что он переживает, — девчат надо собрать на шефский концерт, а они не едут.
— Батюшки! Кто да кто?
— В частности, твоя рыжая, — сказал председатель, но спохватился и принял позу.
— Да ты что, Рита?
— Как же я от тебя поеду? Я уеду, а ты на ферму побежишь.
— Куда уж мне бегать! Поезжай, Риточка. Неужели поплясать неохота? Я, бывало, где бы ни была, что бы ни делала, а гармошку услышу, сейчас каблучками подыграю. Нипочем было не удержать… И не жаль тебе председателя? Вишь, до чего довели — сомлел совсем…
— Ладно, поеду, — сказала Маргарита. — Только лежи гляди.
Иван Степанович вскочил, будто того и ждал.
— Чего это ты читала? — Глаза его сверкали от любопытства.
— Тоже снадобье, только божественное. Таиська принесла.
— Шуганула бы ты ее. — Он схватил бумажку и пропел по-поповски: — «Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телести твоему».
Мария Павловна принялась было смеяться, но завела глаза и застонала. Смеяться ей было больно.
— Велела раз в день читать, — проговорила ослабевшим голосом. — А я ей: «От меня молитву боженька не примет. Я комсоргом была». — «Тогда, — говорит, — читай два раза в день».
А председатель уже не слушал ее и кричал в дверях:
— Поехали в Закусихино! А ты, рыжая, давай собирайся!
В Закусихине живет Лариса Расторгуева, после Груни — лучшая наша певица.
Отец Ларисы пропал на войне, и как память о нем на стене висит дорогая двустволка, которую мать, Анна Даниловна, сберегла в голодные военные годы.
Лариса лежала на никелированной кровати, отвернувшись к стенке. Анна Даниловна, нацепив очки, вышивала. Она, как прибежит с птицефермы, так и кидается либо полы скоблить, либо печку белить, либо вышивать скатерки, которых и так в избе видимо-невидимо.
Иван Степанович вежливо поздоровался и сел.
— Здравствуйте, — тихо сказала хозяйка. — Нельзя Лариске ехать. Спину у ней ломит. Умаялась.
— Если нужно, значит можно, — сказал председатель. — Вы мать. Надо уговорить.
— Как же я стану ваши приказы отменять? — возразила Анна Даниловна мягко.
— А вы не шутите. Шутить не время. Не первый май.
— Разве я шучу? — она сняла очки и внимательно посмотрела на председателя. — Вы же сами обещали девочкам сегодня отгул. Они вчерась на коленках пололи. Зачем же народ обманывать? Некрасиво. Один раз обманешь, другой — обманешь, а на третий — правду скажи, все равно не поверят.
— Выбирай выражения, — прервал ее Иван Степанович.
— А зачем выбирать? — спросила она, считая иголкой стежки. Она говорила с председателем без всякого поклонения, как с каким-нибудь рядовым колхозником. А Иван Степанович привык и не обижался. Анна Даниловна со всеми такая. — Полоть кончили? — спросила она.
— Кончили… Что я ее — на кукурузу гоню? В хору петь одно удовольствие и развитие грудной клетки.
— А отдыхать когда?! — обернулась верхней половиной тела гибкая сероглазая Лариса. — Ни кино, ни танцев. Вовсе культуры не видим.
— Тебе культуры мало? Целый день радио тебе играет, а ты его и чуять перестала. Дорогу тебе асфальтом залили, автобус тебе пустили, а ты — как будто так и надо! Бюст писателя Тургенева возвели, чтобы ты вспоминала, каких людей создает наша земля, да к ним бы подравнивалась и не срывала бы мероприятий.
— Памятник хороший, — вздохнула Анна Даниловна, — Приятный. Беленький.
— Миллионы вкладывают в культуру. А где наша благодарность? Где наша отдача? Нас окружают вниманием и заботой, бюсты нам возводят, а мы на койках разлагаемся…
— А за горушкой, в ельнике, оленя поставили! — сказала Лариса, позабывшись. — Как живой стоит на камушке. Словно из леса выбежал и принюхивается… Надумают же!
— В чем Иван Степанович прав, так это в том, что заботы об нас много, а мы ее плохо ценим и быстро привыкаем к хорошему, — сказала Анна Даниловна. — Спина все гудит, доченька?
— Учить их надо! — проговорила Лариса, поняв, к чему вопрос. — Кто их за язык дергал — выходной объявлять?
— Ну ладно, он ошибся, его одного и проучишь. А других зачем обижать? Люди там не хуже нас с тобой. Им, видать, скучно.
— Правильно! — подхватил Иван Степанович. — Там, я слышал, художник отдыхает, который претворил этого оленя!
Анна Даниловна сняла очки и с укором поглядела на председателя.
— А что? Вполне возможно… — и он немного смутился.
Лариска встала, ладная, статная, и не пошла, а поплыла к зеркалу, словно у нее на голове стакан с водой.
— Ты у нас не командировочный, Иван Степанович, — сказала хозяйка. — Никакого смысла тебе нас обманывать нет.
Председатель спорить не стал.
Дунув широкой юбкой, Лариска быстро пошла умываться. В дверях сказала:
— Хоть бы нашелся дурачок, взял бы замуж да увез куда-нибудь!
Мы вышли на улицу и сели в «Москвичок».
Иван Степанович положил руку на рычаг и опустил голову.
— Ну, всех собрала? — спросил он.
— Всех.
— А все-таки самого лучшего артиста вы проглядели, — сказал он.
Я спросила, кого он имеет в виду, но он не ответил. Лицо у него было серое, бугристое. Он был унылый и злой на себя.
— Чего сидишь? Вылазь. В Евсюковку поеду. Старух агитировать картошку разбирать.
Я вышла.
— Да, вот что! — крикнул он из окошка. — Одно дело: беги на свиноферму и первую машину с дровами, какую увидишь, повороти к Сизовым. Другое дело: сбегай к Анне Даниловне и накажи ей — пусть печку Маруське протопит и переночует у них. Претворяй!
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |