"Крылья беркута" - читать интересную книгу автора (Пистоленко Владимир Иванович)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
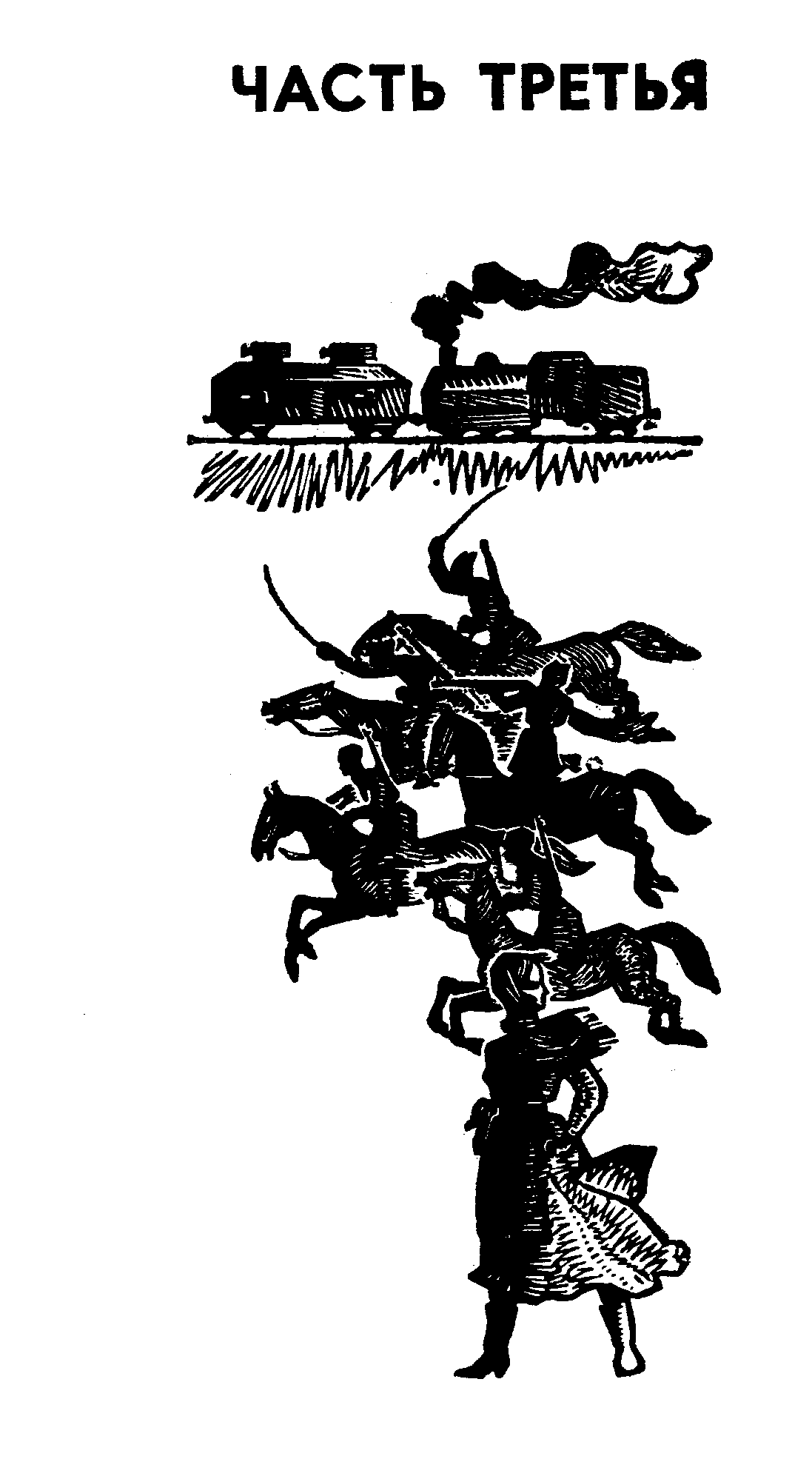 |
Во время крестного хода Иван Никитич не выходил из своей комнаты. Спрятавшись за шторой, он напряженно следил за тем, что происходило на улице, а когда толпа ворвалась во двор, он перебежал к другому окну и, радостно потирая руки, зашептал:
— Жми, любезные, жми, православные!
Он не ожидал, что дело может дойти до большого, но его радовало и то, что толпа готова была расправиться с комиссарами и всякими там ревкомовцами; значит, таких, как он, в городе сотни, а может, тысячи; сидят они до поры до времени да помалкивают, а придет час, снова все вокруг закипит, забушует!
Хотя толпа и отступила перед пулеметом, настроение Ивана Никитича не ухудшилось. Само собой понятно, в крестном ходе почти одно бабье; а были бы мужики, тоже вряд ли поперли бы на верную смерть: любой человек спасует перед пулеметом.
Ничего, посидят еще малость с пустыми животами, полезут и на пулемет.
Появление Нади встревожило и обеспокоило Стрюкова. Почему она не вместе с монашками? Зачем сюда явилась из монастыря? Что ей нужно?
Вскоре двор опустел. Стрюков решил выйти на улицу, но его позвали к комиссару.
В кабинет Иван Никитич вошел степенно, стараясь не выдать своего волнения.
На краешке письменного стола примостился Кобзин и, горячо жестикулируя, что-то говорил сидевшей напротив Наде.
— Игра окончена, гражданин Стрюков, — резко сказал комиссар, едва купец перешагнул порог. — Нашли ваш хлеб.
— Нашли, так и слава богу...
— Прятали пшеницу в монастыре?
— Ежели нашли, то чего же вы меня спрашиваете? Исстари так ведется, нашел — бери.
Вопрос Кобзина показался Стрюкову подозрительным. Возможно, не только не нашли, но даже ничего определенного не знают, а пытаются выудить у него.
На всякий случай, он решил немного поводить Кобзина.
— Только я вам должен сказать, товарищ комиссар, что я ничего не терял, и, стало быть, никто не мог найти. Вот так.
— Я сама видела в монастырских амбарах ваше зерно, пшеницу, — сказала Надя.
— А как же ты узнала, что это мое? Печать там на каждом зернышке или еще что заметила? — издевательски спросил Стрюков и, обратившись к комиссару, решительно заявил: — Моего зерна в монастыре нет.
— Странно! — Кобзин подал Стрюкову исписанный чернилами лист. — Монастырские хозяева совсем другое показывают, читайте. Мне только что доставили.
Стрюков нерешительно взял бумажку. Это была расписка Евпраксии в том, что монастырский хлеб ссыпан в деревянном амбаре, а в каменных хранится зерно, принятое на хранение от купца Стрюкова.
— Ну, что еще скажете? — спросил Кобзин.
Стрюков молча положил на стол ненавистную расписку.
— Так что теперь говорить, — невольно вздохнул он и с горечью подумал: «Вас я понимаю, а вот монастырских, язви их в душу!»
— Так, значит, вы врали, когда я спрашивал о запасах продовольствия? Помните?
Стрюков угрюмо глянул на комиссара.
— Отнекиваться не стану, было! — нехотя сознался он, потом проговорил торопливо и сбивчиво: — Только вы и то поймите — купцу не пристало рассказывать про свои дела. Ну, есть у меня в городе... хлеб. Есть. Вот этот, в монастыре который.
— Сколько там всего вашего хлеба?
— Да так пудов... тысяч с двадцать.
— До возвращения атамана берегли?
— Зачем? — возразил Стрюков. — Торговые дела. Думал, цены могут подняться. Прикажете, велю открыть торговлю. В любой момент.
— Да нет уж, спасибо, — с иронией улыбнулся Кобзин. — Сейчас мы сами как-нибудь распорядимся.
— Или забрать хотите?
— Конфискуем... Нет! — возмущенно сказал Кобзин, обращаясь к Наде. — Хватило же совести скрывать, когда кругом стон стоит!
— Не я этот голод устроил, — буркнул Стрюков.
— А кто же? Кто? — набросился на него Кобзин. — И вы и такие, как вы. Я уверен, что хлеб припрятан и у других купцов. В общем довольно разговоров, — решительно встал он. — Даем вам двадцать четыре часа. Поговорите с кем надо. Если за сутки не укажут, где еще спрятано продовольствие, завтра утром вы будете расстреляны на городской площади как враг революции.
Эти слова, произнесенные жестко и непримиримо, прозвучали для Стрюкова как приговор.
— Так при чем же я? — взмолился Стрюков. — Каждый за себя отвечает.
— А при том при самом. И скажите своим дружкам: если будут саботировать, всех переберем! Ясно?
— Воля ваша, товарищ комиссар, только я не могу отвечать за других, поймите это.
— А вы понимали, когда к вам обращались по-человечески? Идите, не теряйте времени зря.
Стрюков, сгорбившись, вышел.
— Неужто расстреляете? — спросила Надя, когда за купцом закрылась дверь.
— Без всякой жалости! Такие, как он, заслуживают самого жесткого наказания. Я не могу избавиться от мысли — сколько людей осталось бы в живых, если бы Стрюков и ему подобные не скрыли хлеб? Э, да что говорить!.. А ты растерялась? Смутилась?
— Нет, я просто спросила.
— Очень хорошо, — добрея, улыбнулся Кобзин. — Значит, вопросов больше нет?
— Нет.
— Тогда продолжим наш разговор. Как я понял, в тех краях ты никогда не бывала. А мне доводилось. Дорога очень трудная, в особенности сейчас. До станции Айдырля придется ехать поездом, а поезда нынче — одно наказание: в вагонах холодина, паровозы простаивают, топить нечем... Но и это не самое главное. Трудность и, скажу прямо, опасность в том, что по пути почти всюду беляки. Наши только в Заорье да на золотых приисках. Путь очень опасный. Я не к тому говорю, чтобы напугать тебя и отговорить от поездки, я хочу, чтоб ты знала, какие неожиданности могут тебе встретиться в пути. Конечно, возможно, все сойдет благополучно. И я уверен, так оно и будет, но все же надо быть готовым к худшему. Самое страшное — это, конечно, беляки. Они просто зверствуют. Да ты сама знаешь, как они обошлись с нашим продотрядом.
— А если ехать не поездом?
— Или пешком хочешь двинуться?
— Где как. Где пешком, а где с попутчиками. Ездят же люди из станицы в станицу?
— Да, конечно... Что касается передвижения пешком, сейчас об этом надо оставить и думать. Зима! Степи без конца и края. От станицы до станицы больше полусотни верст. Прихватит в степи ветер, завьюжит — и конец. Нет, пеший поход отложить. На лошадях и то люди сбиваются с дороги. И опять же, встречи с беляками не избежать, они засели почти в каждой станице, в каждом поселке... Нет, если решила ехать, то двигай поездом.
— А вы мне какой-нибудь документ дадите?
— Значит, едешь?
— Поеду, Петр Алексеевич.
— Ну, что ж, удачи тебе!.. А насчет документа я вот что скажу: у тебя есть какое-нибудь старое удостоверение или справка? Это не для наших, а на тот случай, если придется столкнуться с беляками, чтоб глаза им замазать.
— Что-то осталось. Старый гимназический билет.
— Ну и замечательно! Будешь выглядеть как представительница привилегированного класса, — пошутил Кобзин. — Конечно, справка справкой, но они, кроме всего прочего, могут еще и допрашивать. В таком случае я тебе советую вот что: не придумывай никакой истории, говори, что есть.
— Как? — удивилась Надя. — И об отряде?!
— Вот, вот, — рассмеялся Кобзин. — Только этого и не хватало. Ты говори им о том, что жила у Стрюкова, что жить больше негде, расскажи, куда ты идешь. Если получится, слезу подпусти.
— А что? Так можно... О себе хоть десять раз рассказывай, не собьешься.
— Что же касается встречи с нашими, то тут будет иной разговор.
В дверь несмело постучали, и в комнату вошел Иван Никитич. Это был уже не тот Стрюков, который не скрывал самоуверенности и насмешливо поглядывал на окружающих. Сейчас он был во власти страха, и хотя старался скрыть свое состояние, это ему мало удавалось. Прежде всего выдавали глаза: они шныряли по комнате и убегали от глаз Кобзина.
— Я на два слова. Можно?
— Можно и больше, — сказал Кобзин. — Только на пользу.
— Само собой... Я насчет своего хлеба.
— Какого еще своего?
— Ну... значит, не то чтоб своего, а того самого, монастырского, который в монастыре, — сбиваясь, залепетал Стрюков. — Уж коли так случилось, то, видно, так тому быть: словом, я жертвую тот хлеб на революцию. Конечно, вы его забираете сами, я это понимаю, но я в общем как хозяин бывший — не против. Жертвую специально на голодающих. Чтоб на вас не возводили поклепа. Дарю, и все!
— Эх, раньше бы вот так! — с сожалением сказал Кобзин. — А сейчас ваша доброжелательность никакой роли не играет. Что касается разной болтовни — мы ее не боимся.
— Петр Алексеевич, товарищ комиссар, я же не все сказал, — заторопился Стрюков. — Вот вы мне расстрелом грозитесь, а я, видит бог, ничего не могу и не знаю насчет дел других купцов. Я, конечно, понимаю: нельзя было так. Ну не волк же я, в самом деле. Люди-то голодают...
— Нельзя ли покороче? — прервал его Кобзин. — Чего вы, собственно, хотите?
— Снимите с меня обязанности насчет купцов, а я, под честное слово, помогу вам, чем смогу. Так сказать, совершенно добровольно и без всякого принуждения.
— Вот это деловой разговор, — сказал Кобзин. — Так что вы предлагаете?
— У меня есть табуны скота, в степя их угнали, к киргизским баям. Все отдаю! Жертвую! Для голодного люда.
Чего-чего, а такой щедрости Кобзин не ожидал. Что случилось? Конечно, Стрюков не подобрел и не изменил своего отношения к ревкому. Тут что-то другое. Что же именно? Купец не глуп, раскрыть его замыслы не просто. А надо...
— С чего же это вы вдруг так подобрели? — в упор спросил Кобзин. — Не воображайте, что от радости я пущусь перед вами плясать вприсядку. Давайте в открытую. Чего вы от нас хотите за свой, скажем, благородный поступок? Говорите прямо, не бойтесь.
— Вы грозились расстрелом...
— Отменим. Дальше?
— Потом же насчет чужого хлеба, будьте так добры, не знаю я ничего.
— Временно отложим.
— А почему временно?
— Ну отложим. Совсем. Еще что?
— Чтоб разрешили торговать мясом в моих лавках и моим продавцам.
— Почему?
— Чтоб люди знали.
— Хорошо. Но под нашим контролем.
— Тут я не против. И последняя просьба: без вашего пропуска из города выехать невозможно, а табуны-то не рукой подать.
— Пропуск на ваше имя?
— Зачем же? Приказчика пошлю. Коняхин его фамилия. Он у меня за главного хозяина, можно сказать, всему голова.
— Ну, что ж, Коняхин так Коняхин, пусть приходит. Когда думаете послать?
— В любой день. Хоть и завтра можно.
Выйдя из кабинета, Стрюков довольно потер руки — хотя и дорогой ценой, но все же ему удалось отвести нависшую над головой опасность. А там поживем — увидим. Надо срочно разыскать Коняхина.
А Надя в это время горячо доказывала Кобзину, что неспроста Стрюков затеял эту новую игру.
— Посмотрим, посмотрим, — говорил Кобзин. — Возможно, тут кроется что-нибудь... Но все-таки он правильно меня понял... А умирать никому не хочется. Он хитер, да и мы не лыком шиты. Давай продолжим нашу беседу. И условимся — этот разговор секретный, о нем знаешь только ты да я. Согласна?
— Если это нужно, Петр Алексеевич.
— Нужно, очень нужно! И еще одно условие: прошу быть со мной совершенно откровенной. Ты можешь принять мое предложение, можешь и отказаться. Никакой обиды не будет... Так слушай: пользуясь тем, что ты решила ехать в Урмазымскую крепость, я хочу дать тебе одно серьезное поручение. Суть его вот в чем... Сначала выслушай, подумай. Ответ потом дашь.
Кобзин прошелся по комнате.
— Если согласишься, тебе придется побывать в Заорье и на прииске Синий шихан. Повидаешь там комиссаров и командиров красногвардейских отрядов и передашь им письма... — Он замолчал, задумался. — Письма будут коротенькие, они нужны только для того, чтобы там поверили тебе, что ты от нас, главное же в том, что ты должна будешь передать на словах о телефонном разговоре с товарищем Лениным. Обо всем этом я тебе расскажу подробно. На память не жалуешься? Хорошо, это очень важно!.. Повторяю: поручение не только серьезное, но крайне опасное. Письма ни в коем случае не должны попасть в руки беляков. Ты меня понимаешь?
— Конечно, Петр Алексеевич.
— Пока все. Иди, подумай хорошенько, а завтра скажешь о своем решении.
— Хорошо! — отозвалась Надя и пошла к двери, но вдруг решительно остановилась среди комнаты. — А знаете, Петр Алексеевич, мне особенно долго думать не приходится. Я все поняла и, можно сказать, сразу же решила: если это надо, я согласна.
— А ты не спеши, не спеши, — полушутя прикрикнул на нее Кобзин. — Семь раз примерь, один раз отрежь! С окончательным ответом жду завтра утром.
Во время посадки на поезд Надя неожиданно увидела Коняхина. Он изо всех сил проталкивался к вагону, кому-то что-то кричал, кому-то грозил, но в посадочном столпотворении, где все орали и толпились, ничего нельзя было расслышать и понять, кроме одного — что все рвутся к вагону.
Надя пробиралась совсем недалеко от Коняхина; еще бы усилие — и она вслед за приказчиком проникла бы в вагон. Но она сообразила, что ей не следует ехать со стрюковским подпевалой, и стала выбираться из толпы, чтобы пробиться к другому вагону. Это оказалось не таким уж легким делом. Хорошо еще, что руки у Нади были свободны, вся ее поклажа в котомке за плечами. Выбравшись из толпы, Надя подалась к хвосту поезда и там пристроилась в очередь к другой теплушке. Заснеженный и заиндевевший вагон был битком набит, а у широко распахнутой двери еще стояли около десятка мужчин и женщин с котомками, мешками и сундучками в руках. Надя знала, что это «барахольщики». Собрав дома все, что было ценного из одежды, они ехали в станицы, чтобы поменять это свое последнее достояние на хлеб.
На Надю в очереди зашипели, и какой-то мужчина оттолкнул ее прочь. И к какому бы вагону она ни подходила, всюду была толчея, так что уже стало казаться: с этим поездом ей не уехать.
Жаль, что Кобзин запретил брать провожатых. Будь тут Семен — она наверняка бы одной из первых попала в теплушку, самой же туда, пожалуй, не пробиться, А ехать надо. Надо во что бы то ни стало! Сегодня есть поезд, а через сколько дней пустят следующий — неизвестно.
Надя увидела, что у одной теплушки нет очереди, и ринулась туда. Несколько мужчин пытались задвинуть изнутри дверные створки, но, хотя они старательно подбадривали друг друга и, покрякивая, нажимали плечами, дверь не закрывалась.
— Дяденьки, возьмите меня! — взмолилась Надя, подбежав к ним. — Возьмите, пожалуйста!
Но мужчины, занятые своим делом, не обращали внимания на ее просьбы.
В овчинной шубейке и платке, в чиненых-перечиненых валенках, Надя казалась совсем девчонкой. Видя, что на нее не обращают внимания, она подбежала к теплушке и вцепилась в железную скобу, пытаясь взобраться в вагон.
— Куда лезешь? — закричал бородач в солдатской шинели, с пустым левым рукавом, старательно пристегнутым булавкой. — Давай назад, и без тебя духота.
— Дяденька, так мне же ехать надо! — чуть не плача, взмолилась Надя.
— А конхветки тебе не надо? — послышался из вагона женский насмешливый голос.
— Дома тебе сидеть, на печке, а не в поездах ездить, — беззлобно сказал однорукий.
— Так дома с голоду помру. Подсадите!
— Ну, держись!
Однорукий подхватил ее под мышки и, как чурку, зашвырнул в вагон.
Надя даже не успела сказать ему спасибо.
В теплушке народу было битком набито. Те, кому удалось попасть пораньше, как-то пристроились на нарах, многие же сидели прямо на полу, а те, кому не досталось места, стояли. В открытую дверь врывался ветер, и, хотя в вагоне было многолюдно, стоял крепкий мороз. Наконец мужчинам удалось сдвинуть с места словно прикипевшую створку двери. Стало совсем темно, но зато сразу потеплело.
Прокричал паровоз, и поезд тронулся. Оказалось, что среди пассажиров были люди опытные, путешествующие в таких поездах не первый раз и знавшие, что нужно брать с собой в дорогу. Благодаря им вскоре появился зажженный фонарь и запылала чугунная печка. Сразу стало веселее. Когда разместились, то оказалось, что вагон не так уж и переполнен, досталось и Наде местечко в дальнем углу.
Рядом с ней сидела пожилая женщина.
— Откуда ты, доченька? — спросила она.
— Здешняя, городская.
— А едешь куда?
— К тете.
— Далече ехать-то?
Надя рассказала.
— Барахлишко везешь менять?
— Нет у меня ничего. Что на мне, то и все.
— Бедняжка ты, бедняжка, — посочувствовала женщина. — Не больно-то твоя тетка обрадуется. Она ничего живет-то, хлебушко есть?
— Должно быть, есть.
— Звали? Или же сама надумала?
— Письмо пришло.
— Тогда, бог даст, все хорошо обойдется.
Сдержанность и скромность Нади понравились соседке, и она сказала:
— Плохо, что одна едешь. Одну любой может обидеть. Ты держись меня, вдвоем будет поспособнее.
Надя с радостью согласилась.
Поезд двигался медленно, часто останавливался; на каждой остановке в вагон стучали, ломились, но дверь изнутри крепко окрутили проволокой, и ворваться было невозможно.
Утром в вагоне стало просторнее: на каждой большой остановке, собрав свои пожитки, «барахольщики» компаниями покидали вагон.
К вечеру здесь осталось только шесть человек. Все они ехали в степной край за городом Заорье. Среди них был и однорукий солдат. Он снова разжег печку, вскипятил воду в жестяном чайнике, заварил кипяток сушеной морковью.
— Пейте, — приглашал он, — мой чай аппетитно щами припахивает.
Наде показалось, что вкуснее морковного чая она никогда ничего не пила.
Стемнело. Вагон освещался скудными бликами огня из печурки. Наступающая ночь грозила быть холоднее минувшей: стены вагона настолько поостыли, что казались ледяными.
Все шестеро уселись вокруг печки. Однорукий солдат оказался добродушным и разговорчивым, он без устали рассказывал о своей фронтовой жизни, о госпитале, откуда недавно выписался и, вот уже больше месяца, пробирается к себе домой.
Слушая его, Надя не заметила, как уснула. Проснулась от толчка и громкого окрика.
— Проверка документов!
Посреди вагона стояли два офицера в погонах и с кокардами на шапках.
«Белые!» — узнала Надя.
Один держал фонарь, а другой просматривал документы. Однорукому его бумаги вернули сразу.
— Все в порядке. Можешь ехать.
Надя протянула гимназический билет.
— Это еще что?
— Мой документ.
— Документ?! — подозрительно хмыкнул офицер. — Давай сходи!
Надя начала было объяснять, что это удостоверение заменяет удостоверение личности, но ее не стали слушать.
— Расскажешь там, где спросят!
Из шестерых пассажиров вагона задержали только Надю.
На платформе было холодно, натужно посвистывая, крутил ветер. От других вагонов вели по нескольку человек. Надя не могла сообразить, где находится. В черной мгле виднелось небольшое станционное здание, слабо освещенное качающимся на ветру фонарем. Всех задержанных вели к этому зданию. «Разъезд Крутогорино», — прочла Надя над входом. «Так это же совсем рядом с Заорьем», — подумала она, вспомнив рассказ однорукого, жившего неподалеку отсюда.
Задержанных набралось немало, станционный зал оказался набитым до отказа.
«Что же они дальше с нами будут делать? — с беспокойством думала Надя. — Не станут же держать на разъезде?»
Среди задержанных Надя увидела Коняхина. Он держался спокойно, и было похоже, что его нисколько не тревожит создавшееся положение.
— На допрос! — крикнул офицер.
Из зала стали выводить по нескольку человек. Надя старалась не попасться на глаза Коняхину. Ей удалось пристроиться в одну из первых групп. Арестованных повели куда-то в темноту, и Наде показалось, что ведут в степь, и она забеспокоилась: куда? Зачем?
Вскоре из темноты вынырнули неясные очертания построек.
— Поселок Крутогорино! — сказал кто-то.
Нигде ни огонька. Даже в доме, к которому подвели арестованных, на первый взгляд тоже было темно, однако Надя заметила свет, пробивавшийся сквозь щели ставен.
У крыльца стояли подседланные лошади.
— А ну, давай входи! — приказал конвоир.
Арестованных затолкали в сени, скудно освещенные керосиновым фонарем. Когда конвоир открыл дверь в комнату, оттуда донесся чей-то крик, будто там пытали человека. В сенях наступила тишина.
Внезапно страшная дверь широко распахнулась. Два казака вывели полураздетого мужчину. Лицо его было залито кровью, на белой рубахе тоже кровавые пятна; он был или без сознания, или настолько ослаб, что не мог идти, и его волоком тащили казаки.
Кто-то из арестованных тяжко вздохнул.
— А ну не распускать нюни! — прикрикнул конвойный. — Всем краснюкам такое будет.
Их продержали в сенях около часа, Наде же показалось, что прошло очень много времени. Хотя ей было страшно до того, что болели скулы, ныли зубы и тело стало бесчувственным и невесомым, все же хотелось, чтоб скорее кончилась эта пытка ожиданием.
— Давай входи! — пригласил казак, приоткрыв дверь.
Никто не двинулся с места.
— Ну! — крикнул казак. — Или плетюгов захотели?
Тогда как-то само получилось, что Надя, стоявшая крайней, сделала шаг вперед. Казачина схватил ее за воротник шубейки и втащил в комнату.
Здесь было светло, с потолка спускалась большая лампа, от ее яркого света Надя невольно прикрыла глаза; в короткое мгновение она успела заметить, что здесь находятся несколько казаков и солдат, лица у всех хмурые и злые.
— Давай вот в энту горницу, — сказал казак и открыл перед ней другую дверь.
Надя увидела у стола двух офицеров. Один из них был пожилой, с седоватыми длинными усами, второй совсем еще молодой, не старше Семена или Сергея Шестакова. Над верхней губой у него чуть заметно чернели усики.
На столе перед офицерами стоял самовар, чашки, на тарелках лежали куски свиного сала, белый хлеб, нарезанный большими ломтями. Картина казалась совсем мирной: офицеры пили чай, слегка посмеивались, о чем-то дружелюбно разговаривали, курили... Своим видом они не внушали боязни и страха, казалось, что два приятеля собрались почаевничать и что не в этой комнате только что кричал истязуемый человек и не отсюда вывели его, окровавленного, полуживого.
Но Надя знала, что все это было, и что именно эти люди пытали человека, и что именно их, этих людей, ей надо бояться и остерегаться, быть настолько осторожной, чтоб не дать им повода для малейшего подозрения.
— Ну-с, — добродушно спросил седоусый, — будем говорить?
— Пожалуйста, — сказала Надя. — Только я не знаю — о чем?
— Почему задержали?
— Я не знаю. Мне не сказали. Я показала свое удостоверение, а оно почему-то не понравилось. Почему — не знаю.
— Давай сюда.
Надя отдала.
— О! Гимназистка, — неопределенно протянул седоусый и передал Надино удостоверение младшему.
Тот тоже внимательно прочитал его и положил на стол перед старшим.
— Надо полагать, жительница Южноуральска?
— Да.
— Корнеева, Корнеева, Корнеева, — зашептал старший, словно стараясь вспомнить что-то. — Кто родители?
— Мои родители казаки, отец хорунжий, георгиевский кавалер.
— Вон что!
— Где он сейчас? — спросил молодой.
— Убит на войне. Мамы тоже нет. — Как-то так получилось, что голос у Нади дрогнул. — Мы с бабушкой жили у дяди. Фамилия моего дяди Стрюков. Иван Никитич Стрюков, купец; он, правда, не родной мой дядя. Когда не стало отца и умерла мама, он забрал нас к себе — меня и бабушку.
— Подожди, — прервал ее седоусый. — Значит, ты родственница известного купца Стрюкова и жила у него? — видимо не совсем доверяя Наде, переспросил он.
— Да.
— И куда же ты держишь путь? — спросил молодой.
— В Урмазымскую крепость.
— Зачем?
— Там моя тетя.
— Ничего не понимаю, — сказал молодой. — Жить у купца-миллионера Стрюкова и дойти до такого рубища! — Он подошел к Наде и презрительно дернул за рукав шубейки.
Надя поняла, что наступил самый ответственный момент: или она заставит поверить ей, и ее отпустят, или же найдут подозрительной и тогда... Что тогда будет — Надя старалась не думать.
— А что делать? У дяди отобрали дом, дали ему всего одну комнату, а меня выгнали; Ирина, родная дочь Ивана Никитича, и моя бабушка живут в монастыре; я тоже хотела в монастырь, но меня не приняли, боятся тифа.
— В городе тиф? — спросил седоусый.
— Тиф. Народ мрет. И голод. Вот я и поехала. Иван Никитич неохотно отпустил меня. Конечно, у него много знакомых, помогли бы, но за ним следят красные... Подозревают в связи с атаманом.
— Что в сумке? — спросил молодой.
— У меня? Ничего. Кусочек хлеба.
— Покажи.
Надя развязала котомку, достала небольшую краюшку черного, как земля, хлеба.
— Больше ничего?
— Ничего.
— И ты с этим куском хотела добраться до Урмазымской? — спросил седоусый.
Надя ничего не ответила.
Седоусый офицер поднялся, молча взял два ломтя хлеба, на один сложил несколько кусочков сала, прикрыл другим ломтем и, подойдя к Наде, протянул ей.
— На. И счастливой дороги.
Надя растерялась.
— Ну, что вы, что вы!.. Спасибо. Не надо...
— Бери, бери! Своих не обижаем.
— Дают — бери, а бьют — беги, — добродушно улыбаясь, подал голос молодой.
— И быстрее беги на станцию, — посоветовал седоусый. — Может, еще захватишь поезд, а то как бы не пришлось здесь ждать несколько суток. Встретится необходимость — милости просим, поможем, чем сможем.
Надя положила хлеб в котомку, еще раз поблагодарила и, собрав все свои силы и выдержку, направилась к двери не спеша. А как ей хотелось броситься во всю прыть, чтоб скорее исчезнуть из этой комнаты!
— Корнеева! — окликнул ее седоусый.
Надя вздрогнула.
— А удостоверение? Откровенно говоря, мадемуазель, документ у вас не очень убедительный, но кому не известно имя Стрюкова, да и вообще, мне кажется... — Он так и не сказал, что ему кажется. — Возьмите ваше удостоверение и вот пропуск.
Наде и верилось и не верилось, что все закончилось так благополучно и то страшное, чего она боялась, осталось позади.
«Выбраться, скорее выбраться из этого дома!» В передней, где находились казаки и солдаты, ни к кому не обращаясь, она показала пропуск.
— Давай жми, — сказал солдат.
— Да смотри больше сюда не попадай, — хохотнув, добавил другой. — Жаль, что уходишь, а я собирался тебя плеточкой маленько пощекотать.
Надя вышла в сени. Со света ей показалось, что там тьма кромешная и уж очень много людей, гораздо больше, чем было.
К ней кинулась с расспросами какая-то женщина, но конвоир прикрикнул:
— Проходи, проходи, нечего рассусоливать. А ну, пропустите, — добавил он и подтолкнул Надю к выходу.
И тут лицом к лицу Надя столкнулась с Коняхиным. Эта встреча была так неожиданна, что Надя даже остановилась.
— Надежда! Ты чего здесь? — сказал Коняхин, и Надя увидела, как округлились и беспокойно забегали его глаза.
Надя не сразу нашлась, что ответить ему, и промолвила первые попавшиеся слова:
— Да так, по делу...
— И куда, куда сейчас?
— К родне... Родня здесь.
— Разговоры! — крикнул конвойный, и перед лицом Коняхина свистнула плеть.
Конвойный вытолкнул Надю на крылечко и закрыл за ней дверь.
Радости как не бывало. И принесло же этого Коняхина! Сейчас она побежала бы к поезду, а теперь что делать? Хорошо, если Коняхин промолчит. Но нет, надеяться нельзя. А если он скажет — конец! Надо спасаться...
Коняхин не собирался молчать. Встреча с Надей его ошеломила: поразило то, что ее выпустили. Как же это могло быть, ведь она — красная? Выходит, сумела обвести! Теперь она и уйти сможет. Определенно уйдет!
Коняхин рванулся в дверь.
— Мне нужно к начальству, понимаете, к начальству! Очень важное дело, — заговорил он, обращаясь к конвойному. — Можно сказать, разговор о самих красных.
Его пропустили.
Ворвавшись в горницу, где только что была Надя, Коняхин, захлебываясь от торопливости, завопил:
— Держите! Красную держите, только что тут была! Выпустили!
— Что за чушь? — отодвигая стакан с чаем, недовольно спросил седоусый. — Ты кто?
— Я?.. Коняхин моя фамилия. Из Южноуральска, главный приказчик купца Стрюкова! — прокричал Коняхин и, выхватив из кармана свои документы, шлепнул их на стол.
— Чертовщина какая-то! — хмыкнул седоусый офицер. — Опять Стрюков! Вас сколько там еще едет от купца Стрюкова?
— Я один! Истинный господь! А сейчас была у вас красная... Корнеева ее фамилия. Это племянница господина Ивана Никитича Стрюкова, только пошла против него. С красными снюхалась! Она, можно сказать, совсем разорила своего дядю. Все его имение краснюкам спрудила. Она в Красной гвардии состоит. Гляжу сейчас — Надька! Ну, думаю, попалась, гадина! А ее взяли да выпустили!
— Распорядитесь вернуть! — приказал седоусый.
Молодой выбежал из комнаты.
Пока седоусый расспрашивал Коняхина, куда да зачем тот едет, вернулся молодой.
— Словно сквозь землю провалилась. Нигде нет!
— Найти! Она, должно быть, на станции.
— Я послал туда верховых.
Седоусый крутнул ручку полевого телефона.
— Станция. Крутогорино? Контрразведка. Задержите поезд до особого распоряжения. Что? Ушел? Прекрасно. — Он повесил трубку. — Никуда она не денется. Не ускользнет. Надо немедленно оцепить поселок, перекрыть все дороги!
После встречи с Коняхиным Надя заметалась, не зная, куда податься.
У крыльца по-прежнему стояли оседланные казачьи кони. Недолго думая, Надя отвязала одного, вскочила в седло и галопом пустилась к станции. Вдали она увидела свой поезд. Скорее, скорее!
Но тут же сообразила, что в поезде, если он будет стоять, ей не спастись — ее сразу найдут в полупустых вагонах, да и скакать на станцию рискованно, там белые казаки и солдаты. Увидят на коне — придерутся... А куда деться? Куда?.. Надо в степь. Знала бы дорогу, ударилась бы прямиком на Заорье. Конь добрый, бежит резво.
Тут Надя спохватилась — дорога-то в Заорье проста! Надо ехать вдоль железнодорожной линии, и она приведет прямо в Заорье.
Надя натянула повод, конь послушно зарысил. Уже подъезжая к полотну железной дороги, она заметила, что поезд двинулся и медленно пополз в сторону Заорья.
Это спасение! В контрразведке подумают, что она уехала поездом... А если и в самом деле попытаться? Коня отпустить... Опасно садиться на ходу? Вдруг да не удастся? Зато если удастся, ей никакая контрразведка не страшна.
Надя спрыгнула с коня, взобралась на насыпь.
Не спеша, шумно пыхтя, мимо прополз паровоз, за ним вагон, другой... И тут Надя услышала выстрелы, крики. Невольно оглянулась и увидела: к ней мчались двое верховых. Погоня? Должно быть, Коняхин!
Надя припустила, стараясь не отстать от поезда, и с ужасом заметила, что двери вагонов закрыты. Она бежала рядом, что-то кричала, а вагоны, один за другим, проплывали мимо. И вдруг она увидела вагон с тамбуром: сама не зная, как это удалось, Надя ухватилась за поручни тамбура, хотела подтянуться на руках, но не смогла. Еще попытка, еще — и все безуспешно. Руки ослабевали, и она чувствовала: еще несколько мгновений — и пальцы ее разожмутся, она сорвется, упадет, и тогда — конец. Но тут какая-то сила подхватила ее и потянула вверх.
— Тебе что — жизнь надоела? — уже очутившись в тамбуре, услышала Надя грубоватый голос и увидела громадного человека в солдатской шинели; на плечах его были погоны, на шапке кокарда.
«Беляк?»
Отдышавшись, Надя стала благодарить своего спасителя.
— Чем богаты, тем и рады! — шутливо ответил он.
А верховые не отставали, видя, что паровоз с трудом преодолевает крутой подъем, нахлестывали лошадей. Они заметили, в каком вагоне укрылась Надя, и снова открыли стрельбу.
— Гады! — буркнул Надин спаситель и тоже несколько раз пальнул из револьвера.
Его выстрелы как бы отрезвили преследователей, они начали отставать, затем повернули коней и ускакали назад.
— Вот и отбились, — пробасил Надин спаситель.
— До Заорья еще есть станция? — помолчав, несмело спросила Надя.
— Нет. Крутогорино последний полустанок.
Вскоре показались слабые огоньки и поезд прибыл на станцию Заорье.
Надин спаситель снял погоны и кокарду и спрятал их в карман. Поезд еще не остановился, а он уже спрыгнул вниз.
На платформе стояли вооруженные люди, было видно, что они пришли встречать поезд.
— Наши! — радостно вздохнула Надя, увидев на шапках солдат алую ленту.
Не вдаваясь в подробные расспросы, комендант станции взял телефонную трубку, попросил соединить его с комиссаром красногвардейского отряда города Заорья Дробышевым.
— Тут с поездом прибыла девчушка из Южноуральска. Рвется к вам, говорит, будто бы с поручением от комиссара Кобзина... Хорошо... Сейчас. — Он повесил трубку. — Едем, — сказал он Наде. — Ты, видно, замерзла? — спросил он, увидев, как Надя растирает руки.
— Вся дрожу.
— Сейчас согреемся.
Комендант налил из жестяного чайника кружку кипятка и поставил перед Надей.
— Пей.
Она не стала отказываться. Кружка жгла руки, и Надя то и дело перекладывала ее из одной руки в другую, тепло от кружки растекалось по всему телу.
— Ты пей, пей. К сожалению, ничего другого нет.
Надя с жадностью отхлебывала маленькими глотками припахивающий котлом кипяток. Она вспомнила, что в котомке есть хлеб и сало, но у нее была такая жажда и ей было так приятно непрерывно, глоток за глотком, отхлебывать горячую воду, что она тут же забыла о хлебе.
Комендант станции молча посматривал на девушку. И когда заметил, что кружка опорожнена, улыбнувшись, спросил:
— Ну как, еще? Или уже согрелась?
— Спасибо. Согрелась. И трясучка прошла.
— Ну, а коли так, давай двинемся. — Он взял стоявшую в углу винтовку. — Пошли!
За станцией они сели в розвальни.
— В штаб, — коротко приказал комендант.
Красногвардеец натянул вожжи. Лошадь с ходу взяла рысью, полозья зашуршали по снежной колее.
Впереди ни построек, ни огонька.
— А куда мы едем? — спросила Надя.
Она почему-то считала, что город Заорье находится рядом со станцией, и не понимала, зачем им понадобилась лошадь.
— В степь! К волкам! Их много тут бегает, — пошутил красногвардеец.
— Никогда здесь не бывала? — спросил комендант. — Заорье верстах в пяти-шести отсюда. Небольшой городок, а знаменитый: настоящая крепость — место ссылки, тут отбывал ссылку украинский поэт Тарас Шевченко. Слыхала о нем?
— Да.
У моста через реку их остановил патруль, комендант сказал отзыв, и они двинулись дальше.
— Это какая река? — поинтересовалась Надя.
— Оря. Потому и город — Заорье.
Въехали в город. Сани то и дело сворачивали либо в одну, либо в другую узкую улочку.
— Вот это и есть наше Заорье, — сказал комендант станции.
Остановились возле двухэтажного дома, над дверью которого трепетал на морозном ветру красный флаг. На тротуаре стоял пулемет, рядом с ним пулеметчик. Несколько лошадей было привязано у коновязи; там же топтались красногвардейцы.
— Прибыли, — сказал комендант. — Прошу за мной.
Поднялись на второй этаж.
Комендант распахнул дверь в помещение, откуда доносились голоса.
— Входи, — сказал он и пропустил Надю вперед.
Надя увидела большую комнату. Вокруг стола сидели, может, десять, может, двадцать человек. Наде показалось — множество народу. Видимо, у них шел о чем-то горячий разговор или спор, вдруг прервавшийся с их приходом. Из-за стола навстречу Наде поднялся пожилой худощавый человек.
— Вот она, гостья, — сказал комендант станции, обращаясь к нему, и отошел в сторону.
— Значит, из Южноуральска?
— Да, — коротко ответила Надя и пояснила: — Мне нужно комиссара Дробышева.
— Я и есть Дробышев, — приветливо улыбнувшись, отрекомендовался он.
Как на единственного знакомого, Надя вопросительно взглянула на коменданта станции.
— Так точно! — кивнул он, поняв ее молчаливый вопрос. — Комиссар Дробышев, без подделки.
— Вам письмо. От Петра Алексеевича Кобзина.
Надя сняла шубейку, осторожно отодрала заплатку, пришитую к карману, и достала оттуда свернутую в трубочку бумажку.
— Вот!
Дробышев внимательно прочитал.
— А на словах что-нибудь он велел передать?
— Я скажу...
— Пожалуйста, давай к столу. Вот тебе стул.
Надя смутилась.
— Петр Алексеевич... велел, чтобы я лично вам.
— Ничего, ничего, говори при всех, это все свои люди: командиры и комиссары, все члены партии. Ты тоже партийная?
Надя почувствовала неловкость.
— Нет. Я не...
— Ничего, ничего, тушеваться не надо, — успокоил Дробышев, — у тебя все еще впереди. Ну, давай рассказывай.
Надя подошла к столу.
Если вначале ей показалось, что здесь собрались люди пожилые, то сейчас, окинув быстрым взглядом присутствующих, она увидела, что среди них много молодых ребят, таких, как Семен Маликов, Алибаев, Сергей Шестаков...
Надя смущенно помолчала, не зная, с чего начать. В памяти встала последняя беседа с Кобзиным, его наказ, его слова... Вначале нерешительно, потом все смелее, она заговорила о Южноуральске, рассказала все, что знала: что он со всех сторон окружен белыми, что горожане бедствуют, что голод, холод и тиф прямо-таки косят людей. Рассказала о том, что в отряде нет оружия, что каждый патрон на учете.
— Недавно Петр Алексеевич разговаривал по телефону с товарищем Лениным. Товарищ Ленин сказал, что в Петрограде и в Москве тоже голодают, и просил помочь революционным рабочим. Он советовал отобрать хлеб у кулаков и у тех, кто умышленно его прячет. Красногвардейцы нашли хлеб купца Стрюкова, в монастыре нашли. На днях в Москву будет отправлен эшелон с зерном. — Надя помолчала. — И еще просил Петр Алексеевич передать вам, что товарищ Ленин советует и даже требует, чтоб местные красногвардейские отряды еще до весны перешли к активным действиям против белых, чтоб перехватили у них инициативу, не только не дали им наступать, а повели сами решительное наступление. И это очень важно.
До центра дошли слухи, будто белые хотят разбить на месте красногвардейцев и двинуть казачьи полки на Москву и на Петроград, а этого никак нельзя допустить... Вот обо всем этом и просил передать Петр Алексеевич. И еще просил он красногвардейцев Заорья собраться с силами и ударить по белякам отсюда — с Заорья, потому что, похоже, они стягивают войска и собираются захватить Южноуральск.
Надя говорила около часа.
Во время ее рассказа в комнате стояла полная тишина. И на кого бы Надя ни взглянула, она видела внимательные и сосредоточенные лица, напряженно следящие глаза.
— Вот и все, — наконец сказала она и села.
Посыпались вопросы. Их было столько, что Надя еле успевала отвечать.
— Ну, а как же ты пробралась к нам? — спросил Дробышев. — В Крутогорине беляки, у них там отряд контрразведки.
— Я знаю. Они меня забирали, потом выпустили.
— Да не может быть! — удивился Дробышев.
— Как же ты вырвалась?
— Ну молодчина!
— Допрашивали? — спросил Дробышев.
Надя все рассказала, вспомнила, как напугалась Коняхина, а вспомнив о нем, сообщила, зачем послал Стрюков своего приказчика.
— Поздно спохватился господин Стрюков, — не скрывая радости, сказал Дробышев. — Вот товарищ Алимзянов со своим отрядом весь стрюковский скот реквизировал. Мясцо теперь в надежных руках.
— Все забирал, — сказал молодой бритоголовый казах. — А этого Коняхина мы знаем, Стрюкова хорошо знаем. Табунщиком я работал у господина Стрюкова. А Коняхин плохой человек, он мог тебя кончать. Говоришь, бежал от него? Якши! — Он подошел к Наде и похлопал ее по плечу. — Молодца, ай молодца!
— А не заметила, в Крутогорине много их, беляков? — спросил кто-то.
— Нет. Не заметила... Ведь меня прямо с поезда — и в контрразведку. Ночь. Темно. Там, в контрразведке, — человек двадцать, наверное. Казаки и солдаты.
— Ты долго была в Крутогорине?
— Долго, мне показалось — вечность.
— Сколько суток? — спросил Дробышев. — Сутки, двое?
— Да нет. Меня ссадили с поезда, и с ним же я опять уехала.
— Это, братцы, и есть та самая деваха, моя спутница. Это она с коня да на поезд, — сказал широкоплечий командир с кудлатой головой и пышными усами. В отличие от других у него не было красной ленты.
Надя давно заметила его. Он пристально посматривал на нее, и под его усами таилась добрая улыбка.
Кто он? Откуда ее знает? Спутница? В тамбуре был один, но тот — белогвардеец... А этот очень похож на него.
Слова командира произвели на всех сильное впечатление. Задвигались стулья, и люди потянулись к Наде с рукопожатиями, а она не понимала, за что же ее хвалят, с чем поздравляют.
— Ты, соседка, меня узнаешь? — громогласно спросил богатырь.
И только сейчас, по этому могучему грудному голосу Надя окончательно убедилась, кто он.
— Так мы же вместе ехали! — обрадовалась она.
— Вместе. Вместе отбивались от беляков.
— Это я-то отбивалась? — засмеялась Надя. — Спасибо вам. Если бы не вы... — начала было она.
— Теперь я понимаю, к какой тетке ты ехала, — подмигнул богатырь.
— Если бы вы только знали, как я вас боялась.
— Что? Больно страшный?
— Да нет, погоны на вас были и кокарда. Думала, беляк.
Надя освоилась и чувствовала себя словно среди давно знакомых людей.
— Ты когда же собираешься домой? Когда тебе велел вернуться Петр Алексеевич? — поинтересовался Дробышев.
— Мне дальше надо ехать.
Тут она рассказала о своем брате Косте.
— И еще надо повидать командира шахтерского отряда Звонова, он где-то на Айдырле.
— Подожди, подожди, а как твоя фамилия? — спросил Надю ее спутник.
— Из документа явствует — Корнеева, — сказал Дробышев.
— Да, я Надя Корнеева.
— Ну, так я тебе вот что скажу, — усмехнулся богатырь. — Нечего тебе мотаться на Айдырлю, я и есть тот самый Степан Звонов. Твой братишка Костюха Корнеев тоже здесь, у меня вестовым. Лихой парень растет!
— Значит, он живой? Живой? — обрадовалась Надя.
Костя лежал на лавке, по-мальчишески свернувшись калачиком, и крепко спал. Хотя из-под тулупа видна была только часть лица и комнату слабо освещала жировая коптилка, Надя с первого взгляда узнала братишку.
Костя спокойно и глубоко дышал, слегка всхрапывая во сне. Наде хотелось броситься к нему, обнять крепко-крепко, да жаль было будить. Но будить надо.
— Костя! — тихо позвала она.
У него чуть шевельнулись губы.
— Костенька, проснись. Слышишь, проснись!
Надя осторожно провела ладонью по его черным волосам.
Костя приоткрыл сонные глаза, уставился в одну точку, зачем-то сбросил с себя тулуп и сел на лавке, спустив на пол босые ноги.
— Костя! Это я, слышишь?
— Слышу, — ответил Костя, но веки его медленно сомкнулись, и он снова опустил голову на лавку.
— Да проснись ты. Слышишь? Это же я, Надя! Или не узнал?
Только теперь, кажется, до сознания Кости дошли эти слова. Он приподнял голову, пристально взглянул на сестру.
— Нет, правда? Это ты, Надь?
— Ну, конечно, я.
Сна как не бывало.
— Откуда ты взялась?
— Откуда? Из Южноуральска, конечно. К тебе ехала, да вот чуть не разъехались в разные стороны.
— А кто тебе сказал, что я здесь?
— Твой командир Звонов.
— Разве ты его знаешь? — ревниво спросил Костя.
— Знаю.
Надя поведала, что они со Звоновым вместе ехали в одном тамбуре из Крутогорина.
— Это он, понимаешь, в разведку туда ходил, — не без гордости сказал Костя. — Знаешь, какой Звонов человек? Ну, ничего не боится! Вот завтра увидишь.
— А я уже видела.
— Это в тамбуре-то? — чуть насмешливо сказал он. — Ты днем погляди на Степана Константиновича.
— Я в штабе видела, у Дробышева.
— А как ты туда попала? Или зацапали?
В глазах брата Надя заметила беспокойство и коротко рассказала, что привело ее в эти края. Лицо Кости посветлело.
— Значит, ты с нами?
— Ну, конечно, с вами, — рассмеялась Надя. — С кем же мне еще быть?
— Это очень, понимаешь, здорово! — сказал Костя. — А то я думаю, не дай бог с белыми. Что тогда? Знаешь, Надь, они, сволочи, дядю Гришу расстреляли. Понимаешь?
— Я знаю. Письмо от тети было.
— А знаешь, за что? Дядя Гриша ведь не казак. Из мужиков. Станичники ему земли не давали. А знаешь, сколько там земли? Просто сказать — прорва! Едешь, едешь по степи, и все ковыль, и все непаханая земля. А мужикам, таким, как дядя Гриша, даже ни чуточки не давали, жадюги. На войне дядя Гриша был недолго. Вернулся без руки. Пасли скот мы с ним вместе, чужой, понятно. Ребята у них маленькие, и дядя Гриша все говорил, что вот, мол, будет перемена и землю ему обязательно дадут. А потом, когда революция пришла, его в ревком выбрали, и он сразу всем мужикам землю нарезал. А там, знаешь, какая казара? Такие богачи живут — вот, веришь, по табуну коней. Один раз ночью к нам пришли, морды платками позавязаны, — чтоб никто, значит, не узнал, — увели дядю Гришу. Со двора вывели и за воротами расстреляли. Три раза выстрелили. В грудь. И тетя видела, и я тоже... Вот какие они гады! Многих они так перебили. Ну, за то и мы их — будь здоров! Но то уже потом, когда Степан Звонов Красную гвардию организовал...
Надя слушала его, знала, что это ее братишка Костя, а ей казалось, будто перед ней не тот малоразговорчивый и несмелый парнишка, какого она помнила, а совсем другой человек, уже взрослый, у которого в груди бушует ненависть, да такая неуемная, что распирает ему грудь, с каждым словом прорывается наружу.
— Ты давно в отряде? — спросила Надя.
— С первого дня, как налетел Степан Звонов на станицу. Тогда и записался... Спервоначалу он меня не больно-то брал — по возрасту, мол, не подхожу; а я ему тогда и отлил пулю: не возьмете, говорю, я сам оружие достану и один буду гадов бить. Принял. Потом привык ко мне, и мы всегда с ним вместе. Ты знаешь, какой он? Ничего не боится, всегда напролом идет!
Судя по тому, как сверкали его глаза, Надя поняла, что Звонов для брата является тем человеком, из-за которого он готов на все.
А Костя рассказывал дальше:
— Степан Звонов отсидел в тюрьме десять лет. Ни за что! Кто-то сказал, что он против царя выражался... Вернулся из ссылки, как только началась революция, и сразу организовал красногвардейский отряд. В отряде у него всякий народ: и шахтеры с золотых приисков, и мужики, конечно, и казаки; башкир много и киргизцев. У него, можно сказать, целая армия. Звонова в отряде все любят за то, что он такой смелый, храбрый. Осенью надо было перебраться на другой берег Урала, это возле станицы Покровской, а беляки не дают, засели на колокольне и бьют из пулемета, подступу нет. Так он, знаешь, что сделал? Сторонкой переплыл Урал и пошел себе как ни в чем не бывало в Покровку. Проскочил там на колокольню, где беляки с пулеметом, выхватил из кармана гранату и — руки вверх! Их много там было, а он один. Перевязал всех и начал ихним пулеметом косить беляков. А нашим только того и надо! Кинулись в реку и выскочили в Покровскую... А позавчера я в разведку ходил.
— Ты? Один? — ужаснулась Надя.
— Да ты, Надь, не пужайся. Не первый раз.
— И куда тебя посылали? — не в силах преодолеть волнения, спросила Надя.
— Опять же в Крутогорино. Хожу себе по улице и ничего. На станцию потопал. Сел на товарняк — и сюда. Я так понимаю, скоро наступать будем. Мы им, гадам, дадим жизни!
— Ты тоже будешь в наступлении?
— А что я, хуже других? — обиженно спросил Костя.
— Я просто так спросила.
— Ясно, буду! Все пойдут!
— Все же, Костенька, ты бы поберег себя!
— А знаешь, как наш Степан Константинович говорит? Береженого пуля любит. У нас в отряде нет таких, чтоб за спину другого прятались. Красная гвардия! Понимаешь? Боишься — уходи. Никому ты такой не нужен.
— А вот тетя писала, что ты очень болен.
— Ну, это когда было!
— Тиф?
— Не знаю. Говорят, горячка.
Лицо Кости стало таинственным:
— А знаешь, Надь, я умирал. Ей-право. Не веришь?
Надя оторопело глянула на него.
— Как это — умирал?
— Ну, совсем, напрочь. На печке у тети отлеживался, и вроде без памяти был: то вижу свет, то — ничего... И никакой памяти нету! А один раз совсем вроде куда-то в яму провалился. Не знаю, что там было. Только лежу — мне вроде маленько холодно — и слышу разговор возле себя. Бабы говорят обо мне. Тетя плачет, причитает: «Костенька ты, Костенька, сиротинушка ты мой, помер в чужедальней стороне, никто тебя больше не увидит — ни сестрица, ни бабушка» — и еще там слова всякие... А я слушаю и думаю: «Ну, значит, я помер». А тела своего совсем не чую. «Вот, — думаю, — все мертвые, должно, такие». А мне так холодно сделалось, что начало подзыбливать. «Может, — думаю, — голый лежу?» На печке-то было тепло, а тут — спасу нет. Хочу попросить, чтоб маленько прикрыли, силюсь сказать, а голоса у меня и нет. Значит, и вправду я неживой. Тут, слышу, подошла тетя и еще одна шабренка, рубашку на меня стали примерять, приподняли меня под плечи, натягивают и тоже талдычут: хорошая, мол, смертная рубаха получилась. А я возьми да и открой глаза — вот сам не знаю, как это случилось. Ну, все напугались, крик подняли да из избы вон! Огляделся я, оказалось, не на печке, а на столе лежу, обмытый уже, и на мне всего только скатерочка, потому и холодно было. Вот так я и умирал...
Надя не выдержала, бросилась к Косте, обняла его.
— Братик ты мой!
Он шевельнул слегка плечами.
— Обошлось. Все говорят: теперь я до ста лет жить буду.
Видимо решив, что он много болтает, да и без толку, Костя посерьезнел и спросил
— А теперь ты куда? В Южноуральск вернешься или у нас останешься?
— Мне обратно ехать.
— А чего там делать? Оставайся в нашем отряде.
— Нет, я должна вернуться. По правде сказать, я думала и тебя забрать с собой.
— Меня? — удивился Костя. — Ну, нет! До лета, пожалуй, прикончим беляков, и я снова пастухом буду. Тете-то надо помочь? Что она теперь одна с детишками? Или, по-твоему, бросить ее? А потом вот еще что: никуда я отсюда не уеду до тех пор, пока не изничтожу всех, кто убивал дядю Гришу, — они ведь живые! Ты только подумай, Надь, пришли к человеку домой, убили, и им хоть бы что! Можно так? Нельзя. Дух из них долой!
Надя хотела было сказать, что не его это дело — заниматься белобандитами, что найдутся люди, которые сведут с ними счеты, но не сказала, поняла: за такие слова Костя может обидеться. А в общем он, конечно, прав...
— Верно, Костенька. А насчет того, чтоб помочь тете, тоже правильно.
— Не знаешь, придет сюда Степан Константинович? — спросил Костя.
— Сказал, чтоб до утра не ждали.
— Тогда давай будем спать. Ты ложись вон там, на кровати. Это его место, чего будет зря пустовать?
— Степан Константинович тоже так велел, но на мне такая сейчас распрекрасная одежда, что только по кроватям валяться. Я лучше на лавке пристроюсь.
— Можно и на лавке, — согласился Костя.
Надя стащила валенки, потрогала голландку — она была еще теплая.
— У меня валенки совсем сырые.
— А ты поставь к печке, высохнут, — посоветовал Костя.
Надя свернула в несколько раз свой платок, положила на лавку вместо подушки. Одну полу шубейки подстелила, а другой укрылась.
— Надь, а как бабаня? Живая?
— Ничего, жива-здорова, только постарела, прямо вся сгорбилась. Лицо — одни морщины.
— И с кем она там?
— В монастыре живет. Костя приподнял голову.
— Это как же ее туда занесло?
Надя рассказала.
Хотя они уговорились спать и Костя погасил коптилку, в темноте еще долго слышался шепот.
После нескольких суток без сна Надя настолько устала, что еле брела по заснеженным улицам Южноуральска: шубейка казалась ей тяжелой и тянула вниз; чтобы избавиться от этой тяжести, хотелось опуститься прямо на снег. Мучила жажда, и Надя взяла горсть снега, сжала его в комок и с жадностью принялась сосать. Скорее бы добрести до дома!
Из ворот штаба выехали два конника. Да это же Кобзин и Семен Маликов! Куда они? Вдруг проскочат мимо и не заметят ее?
Но Семен увидел.
— Петр Алексеевич, Надька! — радостно вскрикнул он, и конь его взвился на дыбы. — Надь, ты?! — во весь голос вопил он и, очутившись рядом, на всем скаку спрыгнул с лошади. — Здорово! — Он крепко сжал ее мокрую и холодную руку.
А рядом уже был Кобзин. Он спешился и, накинув повод на руку, шел к Наде.
— Вот уж нежданно-негаданно! Сказать откровенно, я не надеялся увидеть тебя так скоро.
— Она у нас, Петр Алексеевич, знаете, какая быстрая? Как ласточка. Глазами не успеваешь следить.
— Ну, как, все обошлось благополучно? — стараясь не выдать своей тревоги, ласково спросил Кобзин.
— Ничего, Петр Алексеевич.
— Трудно пробираться?
— Трудно, Петр Алексеевич, — созналась Надя. — Как остановка — проверяют документы. Арестовывают, мужчин почти всех забирают.
— Ты не заболела? — спросил Кобзин, всматриваясь в побледневшее и усталое лицо Нади.
— Спать хочется.
— Долго не спала?
— Негде было.
— Ну, иди отоспись.
— Нет, я вам сначала расскажу, что велели передать Дробышев и Звонов.
— Да разве ты их видела? — удивился и обрадовался Кобзин.
— Ну да, видела... А как же?
— Надя! — Кобзин обнял ее и расцеловал в обе щеки. — Коли такое дело, пошли назад, в штаб.
— Ну, рассказывай, как же ты успела так быстро обернуться? Ведь отсюда до Айдырли более пятисот верст! — сказал Кобзин, когда они вошли в кабинет. — По нынешним временам поезд туда идет около недели, а тебе надо еще было и в Урмазымской побывать. Тоже более сотни верст.
— А мне повезло, — похвалилась Надя, — в Заорье всех повстречала. Туда как раз Степан Звонов с отрядом прибыл. У них, Петр Алексеевич, неплохие дела. Они там по всей округе власть захватили. Так и вам велели передать. В станицах у казаков отобрали все оружие. Им помогли уральские рабочие, прислали и патронов и снарядов. Дробышев велел передать, что на первое время у них оружия хватит и теперь они будут наступать в нашу сторону. Я рассказала, как у нас плохо с продовольствием, говорят: поможем. Между прочим, они забрали весь стрюковский скот. И табуны лошадей забрали. Еще просил передать Дробышев, что прошел слух — атаман собирается мобилизацию объявить. Да не только казаков, а вообще всех мужчин. Говорит, это неспроста.
— Значит, и там ходят такие слухи? Видно, атаман готовит наступление, вот и накапливает силы.
— Петр Алексеевич, так у них же стрелять нечем, — сказал Семен. — Нам хоть Самара маленько подкинула.
— Да, конечно. Но мы, возможно, и не все знаем. У белых тоже не дураки сидят. Что еще передавали товарищи из Заорья?
— Они хотят пробиться сюда на бронепоезде.
— У них и бронепоезд есть?
— Есть
— Эх, нам бы его сейчас! — восторженно сказал Семен.
— Не завидуй, скоро и у нас будет.
Кобзин подошел к Наде, опустил ей руки на плечи.
— Ты, Надюша, очень важные вести привезла! И вообще преотлично справилась с заданием. Я сейчас больше тебя не буду задерживать, иди отдыхай. Потом встретимся, и ты расскажешь более подробно о своем путешествии.
Надя поднялась.
— Ну, а что с братишкой? — спросил Кобзин. — Жив?
— Жив! Только ранен. В Заорье он.
— Костя ранен? — спросил Семен.
— Да, в ногу.
— Вот сволочи, даже детей бьют!
— Это в бою случилось. Он в отряде Звонова.
— Да не может быть! — воскликнул Семен. — Он же совсем махонький, вот такой. — Семен рукой показал чуть повыше стола.
Надя невольно улыбнулась.
— Был такой. Теперь он у Звонова ординарцем. Когда я приехала в Заорье, на другой день они наступали на Крутогорино. По железной дороге, впереди, пошел бронепоезд, за ним обыкновенный поезд с пехотой. Это дробышевский отряд. А Звонов конницей ударил из-за горы, там гора есть, у Крутогорина. Так вот, он из-за этой горы и влепил. Видали бы вы, как заметались белые. Бегут — кто куда! Почти и не отстреливались. Наши много оружия там захватили.
— Подожди, подожди... а ты откуда все это знаешь? — спросил Кобзин.
— Ей-богу, Петр Алексеевич, она была там, — восторженно сказал Семен. — Была, Надька?
— Ну, была...
— Значит, с первым боевым крещением!
— Там вот и поранили Костю. Хотела было остаться с ним, но врач сказал: не опасно.
— Гляди ты, что на свете делается, можно сказать, сопляк и тот воюет!
— Если бы ты с ним поговорил, вряд ли назвал бы сопляком, — усмехнулась Надя.
— Лихой?
— Не то что лихой, а злой. Даже бледнеет, когда говорит о беляках.
В соседней комнате послышались громкие голоса, рывком распахнулась дверь, и в кабинет стремительной походкой вошел Джангильдек Алибаев. На нем — лисий малахай, черный полушубок с белой оторочкой подхвачен ремнем, добротные расписные валенки. Все лицо его сияло радостью. Под тонкими черными усами веселая улыбка. За спиной у Алибаева винтовка, слева клинок, справа у ремня наган. Алибаев круто хлопнул плетью о голенище и, приподняв руку над головой, крикнул:
— Салям! — и бросился пожимать руки. — Дорогой комиссар Кобзин, дорогой Петр Алексеевич, здравствуй! Корнеева, мое почтение! Семен Маликов, салям!
С его появлением комната наполнилась шумом и, кажется, во много раз стала меньше.
— А мы тебя совсем заждались, — сказал Семен, довольно потряхивая рукой после крепкого пожатия Алибаева.
— Каким ветром? Поездов-то вроде нет? — спросил Кобзин.
— Попутным, конечно. На этот раз обошелся без поезда. Везде, понимаешь, казачьи разъезды, так я решил обмануть беляков. Думаю: шайтан с ним, с этим поездом! Хотите меня поймать? Лучше я вас поймаю! Плюнул на поезд, перебрался на лошадку, мало-мало кружил по степям, по аулам — со мной набралось полсотни джигитов, они здесь у ворот... И решил ехать открыто. Надели мы погоны, кокарды нацепили и благополучно проехали. Врага всегда полезно обмануть. Так я думаю, и товарищ Ленин такого же мнения.
— У Ленина был? — не без зависти спросил Кобзин.
— А как же! — воскликнул Алибаев. — Был в Смольном! Вы понимаете, какой это человек? Он со мной, как с братом, как я с тобой, Петр Алексеевич! Товарищ Ленин назначил меня к тебе в помощники, товарищ Кобзин! Я тоже теперь комиссар Степного края. Вот смотрите! — Алибаев достал из нагрудного кармана кожаный кисет, одним движением расшнуровал его, осторожно достал и развернул бумажку со штампом и печатью. — Во! Заместитель. Комиссар по национальным вопросам. А подпись? — Он осторожно приложил палец. — Ленин! Понимаете, товарищи?! Теперь баи завоют, как голодные волки! Я сейчас немного в степь завернул — их уже меньше стало, этих шакалов.
Не переставая улыбаться, Семен не сводил восторженного взгляда с Алибаева.
— Правильно! — сказал он, хлопнув рукавицей об рукавицу.
— Правильно-то правильно, — сказал Кобзин, — но торопиться не стоит, как бы дров не наломать.
Алибаев крепко обнял Кобзина.
— Дорогой Петр Алексеевич, из бая дрова не получаются. Ты, помнишь, говорил, какая твоя любимая песня? «Это есть наш последний и решительный бой». Вот и моя тоже. Она как раз против бая. Так я понимаю?
Алибаев, вдруг посерьезнев, остановился посреди комнаты и заговорил так, будто перед ним было не трое, а большая масса людей:
— Слушайте меня, товарищи! С Лениным я говорил недолго, очень недолго! Но хорошо! Как я с ним хорошо поговорил! Вот чувствую, я Джангильдек Алибаев и не Джангильдек Алибаев. Я стал какой-то другой человек. Он сказал, что революция не терпит топтания на месте...
— То же самое он и мне сказал по телефону, — заметил Кобзин.
— Очень хорошо! Надо вести революцию по всей степи, наступать, чтобы атаман места себе не находил, как бешеная собака. Меня товарищ Ленин спросил: как у нас с оружием? Понимаете, — Алибаев ударил кулаками в грудь, — мне было стыдно сознаться, что плохо, а соврать не смог. Да все равно у Ленина такие внимательные глаза и так пронзительно смотрят, что он сразу узнал бы и сказал: Алибаев, врешь! И я сознался: плохо у нас с оружием. Ленин приказал дать нам оружие. Патроны дать, снаряды! На первое время, конечно... Надо отбирать у белых оружие, сказал Ленин. И еще сказал — к нам скоро прибудет отряд кронштадтских моряков, двести человек, они доставят оружие и останутся у нас, чтобы помочь бить атамана. А?! — Алибаев смачно прицокнул языком. — Был я и в городе Самаре с запиской от Ленина. Там Куйбышев — голова у него вот такая, кудрявая, большая, — он обещал на днях прислать пролетарский отряд.
— Ну, друзья, — сказал Кобзин, — сегодня у нас счастливый день: что ни весть — то радость! Скорее бы оружие, подмога!
— Начнем громить? — спросил Семен.
— Начнем, Маликов, — решительно сказал Кобзин,
— Подожди, Петр Алексеевич, — перебил Алибаев. — Я не все сказал. И плохие вести привез. Совсем плохие. Атаману из Англии послали много оружия. Разное... Обмундирование тоже.
— Из Англии? — удивился Семен. — А чего Англия лезет?
— Шайтан ее знает! — зло сплюнул Алибаев. — Начхать, не в этом дело. Верные люди в степи сказали — получил все это атаман. Понимаете, что это все значит?
— То есть как — получил? Быть не может! Откуда? Вернее, каким способом? — всполошился Кобзин.
— Я слышал, через южную границу, потом степью. Караван, а может, и больше. Много доставлено. И знаете куда? В Соляной городок.
— Да, это весть тревожная. — Кобзин задумался. — С той стороны степь открыта. Свободно мог пройти караван. А Соляной городок — почти крепость. Теперь становится понятно, почему атаман собирается объявить мобилизацию. А мне этот слух казался просто вздорным.
— Выходит, проморгали мы, Петр Алексеевич? — спросил с сожалением Семен. — А я еще подумал, неужто беляки вместо винтовок палками воевать будут? Хоть бы весна поскорее!
— Товарищ Семен Маликов, при чем тут весна? — укоризненно сказал Алибаев. — Не можем мы ждать весны! Время дорого! Знаешь, Ленин как говорил? Он серьезно предупредил: враги хотят в кольцо взять революцию!
Вытянув вперед руку и взмахивая ею то в одну, то в другую сторону, Алибаев горячо продолжал:
— Дон! Кубань! Терек! Урал! Сибирский Колчак! Понимаешь?! Товарищ Ленин сказал; дело чести местных большевиков рвать кольцо! Каждый день дорого стоит, а ты, Семен Маликов, говоришь — весна.
— Так я между прочим... — попытался оправдаться Семен. — Весной-то ведь способнее, к тому и сказал!
— Надо сорвать мобилизацию! Но прежде всего проверить Соляной городок, — решил комиссар.
— Правильно, Петр Алексеевич, — подхватил Алибаев.
— Если заморский гостинец еще там, — продолжал Кобзин, — надо его захватить, а не удастся — взорвать. Словом, обезоружить атамана.
Стремясь опередить решение Кобзина, Семен поднял вверх руку и сказал:
— Я!
— Что ты? — спросил Кобзин.
— Пойду в Соляной!
Комиссар помолчал. Он понимал, что на это ответственное дело нужно послать лучшего разведчика. У Семена не было ни одного провала, и если его куда посылали, то он всегда возвращался, точно выполнив задание. Но Семен только вчера вернулся из поездки по станицам, где засели белоказаки, и не отдохнул как следует.
— Посмотрим, — сказал Кобзин. — Посоветуемся. Надо будет — позову. — И с сочувствием добавил: — Мне кажется, ты и не отоспался?
— Что вы, Петр Алексеевич, да я как штык, хоть за тысячу верст! Я как тот ванька-встанька.
— В общем потребуешься — позову. Идите. А то у Нади совсем глаза посоловели.
— Это я раскисла от тепла, — сказала Надя.
Она сидела и слушала, а сама не могла отогнать навязчивого беспокойства: где Сергей Шестаков? Вернулся ли из своей поездки? Ведь она отправилась в Заорье, так и не дождавшись его возвращения.
— Двинулись, Надь! — позвал Семен.
Кобзин вдогонку им крикнул:
— Ты, Надя, отдыхай. Чайку попей, согрейся. А наша поездка, Маликов, сегодня вообще отменяется. — Взяв телефонную трубку, он попросил: — Командира отряда, товарища Аистова.
Когда они вышли из кабинета Кобзина, Семен, словно угадав, о чем думает Надя, сказал:
— А у нас в городе за эти дни прямо перемена: хлебушек в лавках появился, стрюковский. Между прочим, молодец и Серега, пригнал целый обоз с зерном.
Надя чуть было не бросилась обнимать Семена, но вовремя сдержалась.
— Значит, он хорошо съездил?
Семен заметил, как при имени студента вздрогнули ее ресницы.
— Сергей может! — ответил Семен.
И, пытаясь скрыть от Нади неприязнь к студенту, добавил:
— Он вообще-то парень ничего, Петр Алексеевич его в начальство двигает.
Семен рассказал, что из Самары прислали малость патронов и снарядов, что все это сложили в стрюковском подвале.
— Только знай — это секрет. А Сергея Шестакова Кобзин назначил караульным начальником, — добавил он.
— С благополучным возвращением! — послышался сверху приветливый голос, и студент, проворно сбежав с лестницы, протянул Наде обе руки. — А мы с Семеном каждый день тебя вспоминали! Трудная была поездка?
— Да как сказать, — уклончиво ответила Надя.
— Ей Петр Алексеевич приказал спать, — пояснил Семен и слегка подтолкнул Надю. — Иди, иди, у тебя в комнате, между прочим, натоплено.
— А я спать не хочу, — решительно заявила Надя. — Для сна и ночи хватит. Пойдемте посидим.
— Ну, как знаешь. Мы с удовольствием чайку попьем, побеседуем. Ты иди, а мы с Сергеем через минуту нагрянем.
Надя ушла, думая о Семене, какой он все-таки заботливый. Вот хотя бы и сейчас. Почему он задержал Сергея? Хочет, чтобы она привела себя в порядок после дороги. Когда она пригласила их, то тут же спохватилась: лучше бы сначала ей одной зайти в комнату, но она не решилась сказать им об этом. Сергей промолчал, а Семен догадался и выручил.
Когда Надя ушла, Маликов сказал:
— Я тебе, Сергей, вот что хотел... Помнишь — был промеж нас разговор насчет Надьки?
— Помню...
— Так вот что, Серега. Насчет своей невесты можешь говорить, можешь молчать, делай так, как хочешь. Я не настаиваю. Что касаемо меня — воздержись! Понял?
— Не совсем.
— Ну, ты говорил, что собираешься расписать Надьке все обо мне, о моем к ней... Ну и так далее. Так вот, этого и не надо.
— Ну, пожалуйста, — согласился Обручев. — А почему ты заговорил на эту тему?
— Видишь, в чем дело. Я, наверное, сегодня уеду... Ну вот и решил... опередить тебя, что ли. Одним словом, не надо, и точка. Она и без того все знает.
— Пожалуйста! Как угодно. А куда ты собираешься? Ведь только вчера вернулся.
— Думаю прогуляться в Благословенку, за сеном, — схитрил Семен. — А может, еще и не пошлют. — Желая прервать разговор, он предложил: — Ты меня подожди, я сбегаю наверх, у меня там есть ошметок сала кулацкого и хлеб, а то Надя, я так думаю, голодная.
— А у меня мед! Устроим пир, идет?
— Давай. Потопали!
За разговорами время шло незаметно. Вскипел чайник, и началось чаепитие. Надя и вправду была голодна и обрадовалась, увидев, какое богатое угощение выставили ребята. Кто же это из них придумал? Семен?
Чаепитие было в разгаре, когда вошел дежурный красногвардеец и сказал, что Маликова вызывают к комиссару.
Семен многозначительно взглянул на Надю, чуть заметно подмигнул ей, как бы желая этим сказать, что теперь у него все в порядке, и вышел.
— Значит, посылают, — решила она.
Хотя Обручев доподлинно и не знал, о чем шел разговор, но, помня слова Семена о Благословенке, сказал:
— А он почему-то сомневался... Хороший он парень. Живу я с ним в одной комнате и все больше убеждаюсь: Семен Маликов — настоящий человек.
— Я знаю, — сказала Надя. — Мы с детства вместе.
— И мне кажется... — Обручев немного помолчал, словно мысленно решая, продолжать начатый разговор или же прервать его. И, не глядя на Надю, закончил: — Мне кажется, он любит тебя.
— У меня почему-то неспокойно на душе, — сказала Надя. — Он же мне как брат родной... Правда, Семен смелый и ловкий. Сколько раз бывал в переделках и всегда выкручивался... Скажи, а если бы сейчас не его, а тебя посылали в Соляной городок — пошел бы?
— А разве он — в Соляной?
Обручев случайно узнал о том, чего не подозревал и что было для него очень важным.
— Туда. Там ведь штаб контрразведки.
— Да. Штаб. Если надо, значит надо... Я тоже пошел бы.
Он стал расспрашивать Надю, как она съездила, что видела. Помня наказ Кобзина, Надя отвечала неопределенно, односложно. Заметив, что она неохотно говорит о своей поездке, Обручев вскоре попрощался и ушел.
И почти тут же прибежал Семен.
— Договорились! Все решено и подписано! Еду, Надь! В самое гнездо.
Наде вспомнилась контрразведка в Крутогорине, крики истязуемых, окровавленный человек, которого тащили казаки, и ей стало жутко. Она протянула Семену руку.
— Сень, береги себя! В контрразведке... страшные люди, зверье. Когда едешь?
— Да оно можно было бы и сегодня тронуться. Понимаешь, Надь, не могу я сидеть сложа руки. А ехать сегодня нельзя. Вечером Петр Алексеевич собирает молодых бойцов — не всех, а, как бы тебе сказать, самых надежных, что ли... Тебе тоже велел приходить. И ты не позабудь.
— А куда идти?
— К нему. Так что до вечера! Ты поспи тем временем.
Надя проснулась, когда за окнами уже стемнело; помня, что ей предстоит какое-то важное дело, зажгла лампешку и в недоумении остановилась посреди комнаты. Чем же она должна заняться? Кажется, что-то неотложное. И вспомнила: надо идти к Кобзину.
Интересно, зачем приглашает Петр Алексеевич?
Надя торопливо причесала волосы, заплела косы. «Не опоздать бы! Сколько сейчас времени? Может, уже глубокая ночь? Или только чуть завечерело?»
— Есть кто у Петра Алексеевича? — спросила она у дежурного.
— Полным-полно. Разве не слышишь? Как пчелы, гудят. Давай двигай. Не начинают, тебя дожидаются, — пошутил он.
— Я, понимаешь, проспала, — призналась Надя, — и не знаю, идти или нет?
— Иди! Только сейчас вошли трое.
Надя открыла дверь.
В кабинете было тесно и душно; кто сидел на стуле, кто примостился на подоконнике, а кому не досталось и таких мест, расположились прямо на полу. Семен оседлал стул у самой двери и отмечал входящих в списке.
— Явились, товарищ Корнеева? Пожалуйста, проходите, — весело встретил он Надю. И, отчеркнув в списке ее фамилию, добавил: — Садитесь на чем стоите. — Тут же сообразив, что шутка получилась грубой, поднялся со стула и предложил его Наде. — Давай садись. Для тебя берег.
Надя села.
— А ты?
— Не беспокойся, на гвозде как-нибудь примощусь, — сказал Семен и направился к столу, где, окруженный молодыми бойцами, стоял Кобзин.
— Петр Алексеевич, по списку все.
— Если так, то будем начинать. Товарищи, занимайте места, где кто сможет. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Надя окинула взглядом собравшихся. Многих она знала в лицо, с некоторыми была знакома. Все это были молодые ребята, такие же, как и она, или чуть постарше. Но девушек не было ни одной.
За столом сидел Джангильдек Алибаев, чуть в стороне — его брат Джайсын, а рядом с ним — студент Сергей Шестаков.
Кобзин постучал карандашом.
— Дорогие товарищи! — заговорил он. — Вас всех, наверное, интересует, зачем мы собрались здесь. Я сейчас объясню, в чем дело. Вы, конечно, знаете, что у нас в городе есть организация большевиков. Я член этой партии, так же как и комиссар Алибаев и командир нашего отряда Аистов. Нас еще называют коммунистами. Всего в Южноуральске нас набирается около ста человек. Вы не обижайтесь, что я говорю так просто, словно учу вас азбуке. Дело в том, что не все знают об этом. Мало нас, правда? Город такой огромный, больше пятидесяти тысяч людей живут в нем, а нас всего около сотни. В отряде, скажем, тоже не одна тысяча бойцов, а коммунистов — все та же сотня.
Нас пока мало, это верно, но коммунисты есть в каждом городе и во многих станицах, селах. С фронта пришли солдаты, они уходили беспартийными, а там встретились с большевиками и тоже вступили в партию. И хотя наша партия пока еще не большая, она очень сплоченная, она словно из стали вылита. Вот если бы вы меня спросили: а каждый ли может быть в нашей партии? Я бы вам ответил: нет, не каждый, а только тот, кто всего себя, всю жизнь свою отдал революции.
Ведь многие не понимают, какое большое событие произошло у нас в России, я имею в виду революцию. Мир огромный, на земле много стран, всюду живут люди, а революция произошла у нас. Так почему, почему такое исключение? Может, это случайность? Посмотрите-ка: у царя были войска, солдаты, казаки, черная туча офицерья — не помогло, сбросили его с трона. У Временного правительства тоже были отборные полки, ему помогали из-за границы и деньгами и оружием, буржуазия не жалела капиталов, миллионы тратила, чтоб поддержать это свое правительство, а его все-таки прикончили. Почему, спрашивается?
Потому победил народ в революции, что его вела партия большевиков-коммунистов, готовых на все! Много можно рассказывать о коммунистах, о Владимире Ильиче Ленине — ведь это он создал нашу партию, — так вот, много можно говорить и о нем и о борьбе других большевиков, которым на каждом шагу грозили ссылка, смерть, казнь, а они бесстрашно шли вперед, многие погибли, а те, что выжили, довели дело до конца... Так вот, в нашей партии состоят люди, которые не считают, что их жизнь принадлежит одним им. Друзья мои! Что у человека самое ценное? Ну, конечно, жизнь! Не каждый готов отдать ее за общее дело.
Беляки тоже знают, за что дерутся: они защищают свои поместья, фабрики, заводы, рудники, свою сытую, богатую жизнь. Но многие из них понимают, что у них нет будущего, и они живут по пословице: «Хоть день, да мой!»
А мы? Что мы защищаем? У нас даже хлеба нет вдоволь. И сегодня и завтра будет то же... И до тех пор так, пока не прикончим буржуазию — беляков-живоглотов, пока не закопаем в землю всех врагов революции и не вобьем в их могилу осиновый кол! А тогда начнем создавать свою жизнь. Будет у нас и хлеб, конечно, и о нем сейчас помечтать можно; но не хлеб предел нашей мечты. Мы разрушим норы, в которых живут люди, все эти землянки, построим для всех людей без исключения красивые дома, светлые, с балконами и стеклянными галереями, создадим машины, каких еще нет; все люди будут грамотными, да не только грамотными, а образованными, не будет больше господствовать человек над человеком: равноправие для всех людей — вот что мы завоюем, вот чего мы добьемся! Об этом говорил и писал товарищ Ленин. Я, конечно, передаю все это своими словами. Общественный строй, который мы хотим установить и установим, в первую очередь у нас в России, будет называться коммунизмом. Конечно, все это придет не сразу, и если бы вы меня спросили, когда, в каком году, — думается, я не назвал бы точный срок. Нет. Решиться на такое может только болтун. Я лишь одно могу ответить на вопрос: это время придет! Обязательно придет! Но путь к нему труден и опасен. Не всем под силу идти этим путем. Мне уже около сорока лет. Дойду ли я? Очень хочу, ох как я хочу дожить до того времени, но не знаю, удастся ли... А вот сын мой, Пашка, вон он сидит в углу, да и все вы, его ровесники, вы дойдете! Вам придется доделывать то, что не успели мы. Я разговаривал по телефону с товарищем Лениным... В разных городах — в Питере, в Москве создаются молодежные организации, коммунистические молодежные отряды. Это молодые помощники коммунистов, помощники нашей партии. Это те, кто своими делами доказывает, что они тоже смогут быть коммунистами, что они тоже готовы идти до конца за народное счастье, за дело революции... Ленин посоветовал и нам создать такую организацию.
Мы, большевики Южноуральска, собирались уже и говорили об этих указаниях Ленина. И решили: будет у нас отряд коммунистической молодежи! Мне партийная организация поручила собрать вас, рассказать обо всем и помочь создать такой коммунистический отряд. Само собой понятно, дело не в названии. Так вот, товарищи, пусть каждый спросит себя: сможет он или нет? Не скрою, это серьезное дело и очень ответственное. Быть может, придется вам вместе с коммунистами идти туда, куда другой не решится. А ведь положение у нас, товарищи, сейчас очень тяжелое, вы знаете, что мы в кольце, что перехвачены все дороги, что по станицам уже очень нагло стали действовать беляки. Трудное для нас наступило время. Правда, у нас есть и надежда: товарищ Алибаев привез из центра хорошие вести, но война есть война, пока об этих новостях говорить не будем. По той же причине я не могу рассказывать вам о тех добрых вестях, что принесла Надя Корнеева. Она пробралась через белогвардейские заслоны, белую контрразведку и блестяще выполнила данное ей поручение. Скажу прямо — ей угрожала большая опасность, она знала это и пошла.
На какое-то мгновение Надя стала центром всеобщего внимания и почувствовала, как запылали ее щеки. А Кобзин уже говорил о другом...
Надя ловила каждое его слово. Ей нравилось, как он говорит. Она понимала, что комиссар верит в то, о чем говорит, и, действительно, если потребуется, не пожалеет жизни во имя своих идей. Вот какие они, большевики! И Джангильдек Алибаев такой же — вон он, сидит у стола, а из глаз словно искры брызжут. А Дробышев? А Звонов? И Аистов! Все, все, кого знала Надя из коммунистов, были в чем-то похожи. Внешность у них разная, разные характеры, разная одежда на них, и все-таки они похожи! И раньше Надя замечала это сходство, но как-то не задумывалась, не придавала ему значения, а сейчас, сию минуту, вроде бы пришло прозрение: сходство им придает общность цели, то, что они добровольно объединились, понимают друг друга и готовы идти вместе до конца.
Кобзин приглашает ребят записаться в молодежный союз коммунистов. Станут ли они такими, как Петр Алексеевич? Ну, что ж, Надя знала многих, которые пошли в красногвардейский отряд не шутки шутить. На кого ни взгляни в этой комнате, все они уже бывали в боях и встречались со смертью. Ну, а ее братишка Костя? Разве не такой? Наде приятно было думать, что ее брат, хотя он еще мальчишка, — смелый, решительный и так предан революции, что о нем не стыдно было рассказать и самому Петру Алексеевичу. Вот она, Надя, не такая, хотя Петр Алексеевич и похвалил ее. Ей вспомнилось, как в Крутогорине она бежала рядом с поездом и кричала, просила, чтоб взяли ее, и плакала...
У стола очутился комиссар Алибаев.
Если Кобзин во время своей речи с виду казался спокойным, лишь глаза горели да временами от волнения срывался голос, то Джангильдек Алибаев все время был в движении — он не мог спокойно стоять на месте и кидался то в одну сторону, то в другую, жестикулируя обеими руками и страстно бросая короткие фразы.
— Ребята! Дорогой малайка! Верно сказал Петр Алексеевич? Верно! Очень! Ленин так велел! Понимаете? Я сам видел Ленина, вот эти глаза мои видели. Он и мне говорил о молодежи. Что такое молодежь? Вы думаете, малайка — да и все? Ошибаетесь! Без молодежи — жизни нет. Не будет молодежь — жизни абтраган!.. Старик — хорошо! Старик — большая голова, перед стариком сними шапку, поклонись ему. Он мудрец! У аксакала ума много, а силы где? Старик — осень, молодежь — весна. Вы знаете беркут-орел?! Орлов много, разные, беркут — царь! Над орлами! Самый сильный. Волк боится беркута, а почему? У него крылья, как ни у одной птица! Сильные крылья! И клюв, конечно, и когти! А главное — крылья! Сидит беркут, крылья сломаны, на него вонючий шакал может напасть, растерзать может и скушать, а когда раскроет беркут крылья, конец шакалу придет, и волку тоже. Вот и у людей так. Что такое у людей — молодежь? Это крылья! Молодежь — самая большая сила, и ей все делать, как говорил Петр Алексеевич. Он очень хорошо говорил. Я так думаю, надо коммунистический отряд! Семен Маликов, у тебя бумага и карандаш, пиши! Пиши тех, кто пожелает. Так, Петр Алексеевич?
— Я хочу еще раз подчеркнуть, — сказал Кобзин, — что запись исключительно добровольная. Если есть хоть маленькое сомнение, может быть, робость, не торопись, придешь завтра, тоже не будет поздно.
— Такое время сейчас настало, — снова заговорил Алибаев. — Нельзя держать крылья сложенными. Пишись, не бойся! Сейчас тебе страшно? Пройдет страх, головой ручаюсь! Шакал тебя хочет кушать? Кончать его надо!
Первым метнулся к столу брат комиссара Джайсын Алибаев. Он что-то горячо произнес по-казахски, обращаясь к Джангильдеку.
Комиссар Алибаев ответил односложным гортанным вскриком, обеими руками хлестнул себя по щекам и закрыл ладонями глаза. Из груди его вырвался стон, он качнулся из стороны в сторону. И хотя между братьями разговор шел не по-русски, все поняли, о чем они говорили. Еще свежа была в памяти страшная расправа белоказаков с продотрядниками, когда был зверски замучен Джулип Алибаев.
— Пиши меня! — сказал Джайсын. — Сколько буду жить на белом свете, столько кончать буду эту сволочь. Клянусь памятью малайки!
Семен записал и протянул ему карандаш:
— Распишись!
— Могу палец приложить, я неграмотный.
К Маликову подошел парнишка в гимназической шинели.
— Меня запиши. Пашка Кобзин. — и поправился: — Кобзин Павел. Клянусь, что я так же, как Джайсын, буду мстить за его брата Джулипа. Я всю свою жизнь буду бороться за революцию. Всю жизнь!
За гимназистом выстроилась очередь; один за другим подходили молодые красногвардейцы, и каждый, хотя об этом никто никому не говорил, перед тем, как поставить свою подпись, произносил клятвенные слова.
— Погодите, дайте и мне записаться, — сказал Семен Маликов. — Я вот что хочу сказать. Все мы здесь красногвардейцы. Нас Петр Алексеевич в отряд не тянул, мы сами пошли, добровольно... А почему пошли? Потому что в жизни нам ничего хорошего не дадено, а мы люди. Я человеком себя считаю и хочу жить человеком, а не как ползучий раб. Понятно? И вы, Петр Алексеевич, если придется снова говорить с Лениным, передайте, что мы за революцию будем сражаться до последней капли крови... Куда прикажет партийная организация пойти, туда и ударимся. И мне, например, лестно, что я буду в отряде коммунистической молодежи. Пускай меня посылают куда нужно, все выполню, клянусь!
Обручев тоже стал в очередь к столу.
Взглянув на Семена, Обручев злорадно подумал, что на челе его уже стоит печать смерти. Судьба Маликова решена, он произносит здесь свою последнюю речь. Просто повезло, что Корнеева проболталась, куда направляется Маликов. А о своем походе она говорит неохотно. Вот ее бы в контрразведку Рубасова! Ну, ничего, скоро, скоро наступит день, когда студент Сергей Шестаков поднимет на воздух весь этот дом, со всей партийной компанией Кобзина, вместе со всем их самарским оружием.
Думая так, Обручев медленно подвигался в очереди к столу, а там то и дело над листом склонялись головы и слышалось:
— Клянусь!
— Клянусь!
— Клянусь!
Кобзин стоял в сторонке и тепло смотрел на ребят, словно вдруг повзрослевших и возмужавших; комиссар думал о том, что ему выпало большое счастье выводить их на дорогу, и о том, что вот она — та сила, с которой можно идти на штурм, и атаману перед ней не устоять!
Скоро начнутся решающие бои. Кто-то из этих, едва начавших жить молодых людей погибнет в боях. Кобзин всматривался в лица, и сердце его сжималось. Чего бы только не отдал за то, чтобы все они, эти мальчишки, остались живы и увидели ту жизнь, ради которой клянутся сейчас не жалеть себя.
...После окончания собрания Семен уехал.
На станцию Соляная защита он добрался с товарным поездом, когда совсем уже стемнело, на что Семен и рассчитывал. Теперь до Соляного городка оставалось всего около пяти верст, дорога вилась по заснеженной равнинной степи, и если днем просматривалась на всем ее протяжении, то ночью тонула во тьме.
Довольный первой своей удачей Семен зашагал в Соляной городок.
В минувшем году ему довелось побывать в этих краях. Вместе со своим напарником по цеху, Николаем, он приезжал сюда на рождественские праздники. Они гостили тогда около недели.
Отправляясь в это опасное путешествие, Семен намеревался прежде всего зайти в знакомый двор.
На Семене была простая казачья одежда: полушубок, перехваченный кушаком, стеганые штаны, заячий малахай, на ногах валенки. Все это было изрядно заношено, но не говорило о бедности, наоборот, каждый, взглянув на этого подобранного молодого казака, мог подумать, что он рачительный и крепкий хозяин.
До Соляного городка Семен добрался благополучно.
Поплутав по переулкам, он с трудом нашел нужную ему присадистую избу-землянку. Огня уже не было, должно быть, хозяева улеглись спать.
«Стучать или не стучать? Если бы знать, что посторонних там нет, можно бы действовать без сомнения... А вдруг на постое белоказаки? Сам в лапы напросишься!»
Постояв в нерешительности, Семен бесшумно приоткрыл калитку и проскользнул во двор. Осмотрелся. Все на старом месте. В глубине двора небольшой сарай, рядом стожок сена.
«Может, забраться в сарай да и пересидеть до утра? Там, где находится скотина, всегда тепло, конечно, не как в избе, но терпимо».
Семен уже совсем было решил направиться к сараю, но в соседнем дворе тявкнула собака, неподалеку откликнулась другая, и вскоре уже разноголосый хор собачьих голосов будоражил ночную тишину.
Семен тихонько постучал в окно. Уголок занавески приподнялся, показалось знакомое бородатое лицо. Затем послышался стук двери, и из сеней мужской голос спросил:
— Кого надобно?
— Вас, Петр Фомич. Я Семен. С Николаем приезжал минувшей зимой. Помните?
Дверь отворилась.
— Давай, входи быстрее, а то мороз сокрушает, — сказал хозяин и ввел Семена в избу.
— Кто там? — спросил женский голос.
— Семен. Гостенек наш. Николашкин дружок.
— Батюшки! — не то удивилась, не то испугалась женщина.
— Давай-ка раздевайся, — сказал хозяин. — Только огня я зажигать не буду, от греха подальше.
— Да как же это без огня? — забеспокоилась женщина. — Ты, старик, хоть коптилку вздуй.
— Чтоб непрошеные нагрянули? — отозвался хозяин.
— Не сидеть же человеку в потемках!
Семен успокоил, сказав, что ему огонь совсем без надобности.
— Мне бы переночевать у вас, и все. Что на это скажете?
Женщина вздохнула.
— Места в избе не перележишь, — ответил хозяин. — Только у нас такая оказия, что и человека в свой дом пустить не моги. Облава за облавой. Вчера дважды охранники заглядывали и наказ такой дали — никого стороннего не принимать, а если кто зайдет, тут же знак подать. Иначе, мол...
Хозяин не закончил фразы, но Семен и без слов его понял, что может грозить тому, кто не выполнит приказа контрразведки. Он понял и то, что хозяева напуганы его приходом, но стараются этого не показать.
«Надо уходить. В летнее время можно бы найти укромное место, летом каждый кустик ночевать пустит, а сейчас где спрячешься?»
Не ожидал Семен, что в Соляном городке введены такие строгости... Старается полковник Рубасов!
Конечно, хозяева не откажут, разрешат переждать хотя бы до утра. И скорее всего все обойдется благополучно... Ну, а если нагрянут белоказаки? Тогда этим добрым людям несдобровать. Надо немедленно уходить.
Он поднялся, еще не решив, куда же ему направиться.
— Извиняйте, пойду я...
— Ты на нас не серчай, — приглушенно сказал хозяин, и в его голосе Семен услышал смущение, просьбу и боль.
— Так ночь же, — вступила в разговор женщина. Она успела одеться и уже стояла посреди комнаты.
— До утра-то уж как-нибудь... А? Отец! — нерешительно сказала она.
— Так я разве что? — ответил хозяин. — Сам понимаю. — И с горечью вздохнул: — Эх, жизнь! Не жизнь, а жестянка, на белый свет смотреть не хочется... У тебя документы-то какие есть?
— Совсем пустой, — усмехнувшись, ответил Семен.
— Ох, ребятушки, ребятушки, буйные головушки, — сказал хозяин. — И как же ты думаешь, не дай бог чего?..
— А что мне? Я форштадтский казак, и вся недолга.
— Давай раздевайся, — предложил хозяин. — Бог даст, все обойдется. Как там Николай? Живой, здоровый?
— Живой! Вот вытурим беляков, в гости явится.
— Плохо у вас там в городе? Голодно? — спросила хозяйка.
— Хорошего пока мало, — сдержанно ответил Семен. — Ну, а все ж, можно сказать, дело пошло на улучшение. Казачни белой много накопилось в Соляном?
— Как саранчи, — ответила женщина. — В каждой избе полно. У нас тоже были на постое. Ушли. Изба больно холодная.
— А я с морозу и не заметил, — сказал Семен. — Ну, хозяева, спасибо вам за приют да ласку. Пойду я.
— До утречка посиди.
— Не могу. Нельзя.
— Все равно, тебе деваться некуда, — поддержал жену хозяин.
— Хочу на вокзал удариться.
— Никуда мы тебя не отпустим, и разговорам конец.
— Если так, спасибочко. Но в избе я не останусь. В сарае посижу.
Хозяин ничего не успел ответить. На улице снова послышался разноголосый лай, прогремел выстрел. Хозяин припал к окошку.
— Опять облава, — прошептал он. — Айда скорее в сарай!
— Случай чего — вы знать не знаете, — сказал Семен. — Сам забрел. Стучал — не пустили.
— Господи, пресвятая владычица, защити и помилуй! — зашептала хозяйка.
Семен прошмыгнул в сарай.
В дверную щель он видел, как во двор ввалились казаки. Одни пошли в дом, другие направились к сараю.
Семен отступил в угол.
Едва вахмистр успел чиркнуть спичкой, как один из казаков увидел Семена.
— Ваше благородие, глядите! — закричал он.
На Семена набросились несколько человек, скрутили ему руки и потащили в избу.
— Кто таков? — стал допрашивать вахмистр.
— Форштадтский казак, — ответил Семен, — Елизар Чумаков, — назвал он заранее придуманную фамилию.
— Что делал в сарае?
— Так ничего я там не делал, — самым невинным тоном ответил Семен. — Деваться-то мне некуда. На улице ночь, куда ни постучу — не пускают. Совсем промерз. Вот и к ним стучал, говорят — проходи с богом. Я и завернул в сарай. Все ж теплей.
— В Соляной зачем приехал?
— За солью. В городе-то ведь у нас всего в натяжку, а соли и совсем нету.
— Кто тебя послал? — приступал вахмистр.
— Сам поехал, ваше благородие. Тут же она под ногами лежит, и берег у озера весь из соли. Я прошлый раз приезжал, пешней отковырнул вот этакий кус, так у меня на базаре прямо на разрыв.
— Значит, спекулянт?
— Ну, какой я спекулянт, — скромно ответил Семен. — Можно сказать, своими руками соль добываю. Для людей, можно сказать, стараюсь.
— Хорошо, если так. Завтра разберутся, кто ты есть. Шагай вперед! — прикрикнул вахмистр.
Утром его привели к полковнику Рубасову.
Семен повторил все, что ночью рассказал вахмистру.
Рубасов спокойно слушал и, когда Семен замолчал, приказал дежурному:
— Позовите сотника.
В комнату вошел Иван Рухлин.
— Он? — спросил Рубасов, кивнув на Семена.
— Он, господин полковник, Семен Маликов.
— Ну-с, голубчик, Чумаков-Маликов, с благополучным прибытием!
Кобзин возвращался с паровозоремонтного завода, где пробыл несколько дней. Завод стоял, но рабочие-паровозники взялись отремонтировать бронепоезд, брошенный белогвардейцами за негодностью.
Поначалу, когда осматривали бронепоезд, всем казалось, что оживить его невозможно. Кобзину, единственному инженеру в отряде, пришлось самому взяться за дело и немало поломать голову над тем, как из покореженного железного лома сделать боеспособный бронепоезд. Труд его не пропал даром, и уже можно было рассчитывать, что через несколько дней красногвардейцы атакуют станции, занятые белоказаками.
Представляя себе, какую сумятицу внесет у белых внезапное появление красногвардейского бронепоезда, Кобзин благодушно улыбался и не торопил трусившую мелкой рысцой лошадь. Он даже не заметил, как к нему подскакал Джангильдек Алибаев.
Отсалютовав плетью, Джангильдек спросил:
— Петр Алексеевич, ты что так долго пропадал на заводе? Все, можно сказать, соскучились...
— Друг ты мой Джангильдек, бронепоезд у нас будет, как новенький! Если хочешь, поедем завтра, посмотришь,
— С удовольствием! С большим удовольствием.
Вдруг Алибаев тронул Кобзина концом плети и, осторожно показывая вперед, спросил:
— Женщину впереди видишь? Вон та, вся в черном.
— Ну вижу.
— Знаешь, кто такая?
Кобзин внимательно посмотрел на медленно шагавшую стройную, молодую женщину.
— Нет. Не знаю!
— Так это же Ирина Стрюкова! Дочка твоего любезного хозяина. А знаешь, куда идет? К тебе идет. Да, да, к тебе...
— Делать ей у меня нечего.
— Не говори так, Петр Алексеевич, не говори, — лукаво улыбнулся Джангильдек. — Дело у нее большое. И сам увидишь, придет.
— А ты откуда знаешь, какое у нее дело?
— А я много всего знаю. Ты только послушай: мои джигиты на днях перехватили письмо от полковника Рубасова. Ей, Стрюковой, письмо, этой самой. Что ты скажешь? Ждут ее в Соляном городке...
— Ждут? — удивился Кобзин.
— Она должна организовать у них женский батальон смерти, — таинственно сообщил Алибаев. — Понимаешь?
— А где письмо?
— Осторожно заклеили и отдали по назначению. А копию сняли. Вот она к тебе, должно быть, идет.
— Идет, значит, никуда не денется, — сказал Кобзин. — Ты вот что мне скажи, Маликов вернулся?
— И сам не вернулся и вестей никаких! Разведчик он, конечно, опытный, но уж больно долго нет... Почему так?
— Не знаю. Хочу думать, что все благополучно.
Они въехали во двор, остановились у коновязи, спешились и пошли в дом.
На крыльце им встретился Обручев. Он приветливо поздоровался с Кобзиным и в немногих словах доложил, что за последние дни никаких особых событий не произошло, что охрана штаба ведется круглосуточно. Нарушений со стороны часовых не замечено.
В это время у ворот появилась Ирина. Она хотела войти во двор, но ее задержал караульный и потребовал пропуск.
Кобзин и Алибаев молча переглянулись.
— Товарищ Шестаков, если это ко мне, пропустите, — сказал Кобзин Обручеву.
— Пропустите, — издали крикнул часовому мнимый студент и пошел навстречу Ирине. — Вам кого? — безразлично глядя на нее, словно увидел впервые в жизни, спросил он.
— Мне нужно повидать комиссара Кобзина, — сказала Ирина и одними только губами прошептала: — Здравствуй, Гриша.
Обручев ответил ей чуть заметным кивком.
— Вас провести? — спросил он.
— Пожалуйста.
— Прошу за мной.
Ирина следовала за Обручевым и слегка покусывала губу. Она шла по двору, где в детстве бегала, играла; поднималась на крыльцо, с которого когда-то прыгала...
Голова ее кружилась, на глаза навертывались слезы. Ирина вошла в дом, где протекла большая часть ее жизни, но вошла, как чужой человек входит в незнакомое помещение, где никто его не ждет. Она шла по комнатам и не узнавала их. Да, это была скорее всего казарма, а не жилой дом.
Перед кабинетом Кобзина Обручев остановился.
— Пожалуйста, входите, товарищ комиссар здесь. — Он распахнул перед Ириной дверь. — К вам, Петр Алексеевич.
— Прошу! — пригласил Кобзин.
Ирина увидела за столом, на том месте, где она привыкла видеть отца, человека в кожанке, с небольшой бородой клинышком. В стороне, удобно устроившись на диване, сидел молодой киргиз. Ирина на какое-то мгновение позабыла, зачем она пришла и о чем должна говорить.
— Я вас слушаю, — сказал Кобзин.
«Так это, видимо, и есть комиссар Кобзин», — догадалась Ирина.
— Я вот по какому делу... — начала она и замолчала, озлившись на себя за то; что говорит с этим ненавистным ей красным комиссаром, словно просительница.
— Я так полагаю, вы, наконец, решили вернуться домой? — решил подсказать ей Кобзин. — Правильный поступок. Давно пора. Монастырь не дом.
— Дом перестает быть домом, если в нем хозяйничают чужие, — сухо ответила Ирина.
Алибаев чуть подался вперед. Его задели слова этой надменной богачки.
— Извините, но мы здесь не чужие, — как можно мягче сказал он.
— Значит, я чужая, — не взглянув на него, обронила Ирина. И решительно добавила: — Мне необходимо уехать из города. Я пришла за пропуском.
— Куда уехать? И зачем? — спросил Кобзин.
— Это так важно?
— Представьте себе — да, важно, — сказал Кобзин.
— Куда — не знаю. Лишь бы подальше отсюда.
— Значит, не хотите сказать? Но, видите ли, мы и так знаем, куда вы держите путь...
Ирина вздрогнула.
— Документы с собой? — спросил Кобзин.
— Вот мои документы. — Она положила перед Кобзиным на стол бумаги.
Кобзин внимательно просмотрел их.
— Это все?
— Все.
— Теперь прошу сесть к столу и написать обязательство о невыезде из города.
— Как? Я, наоборот, прошу пропуск.
Алибаев любезно пододвинул ей стул.
— Пропуска вы не получите. Временно. Вот бумага, пожалуйста.
Ирина взяла ручку.
— А если я откажусь? — спросила она.
— Арестуем! — ответил Кобзин. — Арестуем сейчас же. А если удерете и вас поймают за городом без пропуска, расстреляем. Без суда, на месте! — добавил Алибаев.
Ирина набросала несколько слов.
— Вот подписка.
Кобзин прочитал.
— Вы свободны.
— А документы?
— Останутся у нас. Они вам пока не нужны. В свое время получите.
Взбешенная Ирина ушла, не простившись. Едва за ней закрылась дверь, Алибаев бросился к Кобзину.
— Надо арестовать! Она ядовита, как гюрза, незаметно укусить может.
— Арестовать никогда не поздно.
Обручев проснулся задолго до рассвета; закрыл глаза и, пытаясь заснуть, стал считать до ста, потом до тысячи, но сон не приходил. Кто-то ему говорил, сейчас уже Обручев не помнил, кто именно, кажется, отец, что, если хочешь отогнать бессонницу, думай о чем-нибудь красивом, ну, хотя бы о деревьях в цвету, о милых сердцу друзьях детства, вообще о том, что оставило в памяти легкие и приятные воспоминания.
Ни один из этих советов сейчас не помогал Обручеву. Веки не могли долго оставаться закрытыми, начинали мелко вздрагивать и совсем раскрывались.
Нет, сегодня ему больше не уснуть. Разыгрались проклятые нервы. А нервничать нельзя, он должен быть, как никогда, спокоен, выдержан... Да, сегодня у него такой день, какие редко выпадают на долю, и то не всякому. Именно из-за этого дня он, поручик Обручев, превратился в Сергея Шестакова, из-за этого дня он опростился и опустился до того, что его стали панибратски похлопывать, по плечу такие, как Семен Маликов. Слава богу, с Семеном Маликовым все кончено. Хорошую службу сослужила Корнеева.
Жанна д'Арк! Он презрительно улыбнулся. Нет, он все-таки везучий, и счастье, видимо, пока еще не покинуло его. И разве это не удача, что Кобзин именно теперь, когда ему, Обручеву, нужно быть одному в этой комнате, чтобы подготовить все к взрыву, именно теперь отправил в разведку Маликова, можно сказать, развязал тем самым руки? Осталось недолго ждать, а время тянется медленно. Скорее бы, скорее!..
Обручев закрыл глаза и увидел отдушник в фундаменте дома Стрюкова, заложенную в нем взрывчатку. Все готово, осталось только поджечь фитиль. Сейчас бы пойти и... Но нельзя, нельзя!.. Надо дождаться утра. Утром соберется к Кобзину все большевистское начальство города — штаб! Вот тогда... Голову отряда отсечь, боеприпасы уничтожить... Да, это будет взрыв, какого не знали еще в этих краях. Возможно, он повернет и ход истории? Это, отец, будет первая по тебе поминальная свеча!
Когда рассвело, Обручев сменил посты, поговорил с часовыми, как обычно, доложил Кобзину, что по штабу — никаких происшествий, и, уточнив, пропускать ли посторонних во время заседания, поднялся к себе.
Его комната была хорошим наблюдательным пунктом, отсюда были видны ворота, и он мог следить за всеми, кто входил во двор. Но окна сплошь покрыл морозный узор. Обручев недовольно поморщился — вот тебе и наблюдательный пункт. Как когда-то в детстве, он продышал небольшое пятнышко, глянул в него — ворота как на ладони. Даже, пожалуй, лучше, что мороз так изрядно потрудился за ночь, снаружи теперь никто не увидит Обручева, а он может спокойно вести наблюдение.
Первым прискакал Джангильдек Алибаев, затем пришел Аистов, комиссар Самуил Цвильский...
Не прошло и четверти часа, как все двенадцать членов штаба были у Кобзина.
Все. Ждать больше некого. Надо действовать...
Обручев хлопнул по карману, торопливо достал коробок со спичками и, хотя знал, что отсыреть они не могли, вынул одну и уверенным движением чиркнул по коробку. Спичка вспыхнула. Хорошо!
Хотя в комнате не было иконы, Обручев глянул в передний угол и перекрестился. Мелькнула мысль, что во время взрыва может погибнуть и Корнеева, а ее надо бы доставить в Соляной городок, она многое могла бы рассказать Рубасову... Но мысль эта промелькнула и исчезла. Ее вытеснила другая, о Стрюкове. Вот кого надо бы предупредить! А его и вчера весь день не видно, и сегодня на стук никто не отозвался. Впрочем, возможно, и лучше, что старика нет дома, еще неизвестно, как бы он отнесся к замыслу Обручева.
У самой двери Обручев остановился, словно его толкнули. Достал из кобуры наган и, хотя знал, что он заряжен, резко крутнул барабан. Сунул наган в карман и, сдерживая шаг, не спеша, как он ходил обычно, вышел во двор.
Кроме часовых, там никого не было. Обручев несколько раз прошелся по двору и, не заметив ничего подозрительного, завернул за угол в узкий коридор между домом и каменной оградой. В это время из погреба с кульком картошки вышел Стрюков. Заметив Обручева, он удивился: что могло привести поручика в такой закоулок? Сам не зная, зачем он это делает — просто из любопытства или по привычке хозяина видеть все, что творится у него на усадьбе, — Стрюков прокрался вслед за Обручевым, осторожно глянул из-за угла и удивился: Обручев наклонился над отдушником и принялся там что-то делать... Потом каблуком сапога прочертил в снегу канавку.
Чего ему надо?
А Обручев вытащил из отдушника тряпичную затычку, в открывшееся отверстие запустил руку, достал оттуда шнур, протянул его по канавке, вынул спички и поджег конец шнура.
Стрюкова охватил ужас! Недаром же он был в свое время военным, да не просто военным, а сотником, чтобы не понять происходящего. Отшвырнув в сторону кулек с картошкой, он бросился к Обручеву.
— Ты что это делаешь, поручик?
— Вот вы где! А я всюду искал вас, — торопливо заговорил Обручев. — Уходите, Иван Никитич. Уходите скорее!
— Куда уходить? Зачем?
— Сейчас будет взрыв!
— Да ты ошалел, что ли?! Убирай все к черту!
— Не могу. Я должен! В подземелье боеприпасы. Взорвем — конец Красной гвардии. Атаман их голыми руками возьмет.
— Дай-то господи! А ты убирай свои бомбы. Слышишь?
Стрюков ринулся к фитилю, но его перехватил Обручев.
— Уходите, Иван Никитич!
Стрюкова охватила ярость.
— Да у меня в подполье золото! Вся моя жизнь, можно сказать, запрятана. Убирай!
Стрюков снова кинулся к отдушнику, но Обручев преградил ему путь. Стрюков хотел ударить его в лицо, но Обручев изловчился, и стрюковский кулак угодил в плечо.
— Уйди, идиот! Оба пропадем, — прохрипел Обручев, изо всей силы пытаясь оттолкнуть Стрюкова.
Почувствовав, что поручик одолевает его, Стрюков повысил голос:
— Я закричу. Кричать буду!
— Тише!
— Эй, люди, сюда! — заорал Стрюков.
Обручев выхватил наган и два раза выстрелил.
Стрюков вскрикнул, пошатнулся и, взмахнув руками, грохнулся на снег.
А в закоулок уже бежали люди, впереди всех Алибаев, за ним Кобзин, Надя, красногвардейцы.
— В чем дело, Шестаков? — резко спросил Кобзин. — Ну?
— Петр Алексеевич... Стрюков вот, — сбивчиво заговорил Обручев. — Видите, что задумал? Я заметил, он пошел сюда... Я следом... Смотрю — он фитиль зажег... и в отдушник... Я к отдушнику, а там заряд, заряд взрывчатки... Он кинулся на меня и за горло... Он сильный, здоровый, сами видите... Ну, я и выстрелил... Вот он, фитиль...
Обручев кинулся к фитилю, выхватил его из отдушника и стал топтать ногами.
— Я же говорил, Петр Алексеевич... от него всего можно ожидать. А я не думал стрелять в него... Честное слово! Невольно все получилось.
— Не волнуйся, Шестаков, правильно поступил! Зачем шел, собака, то и нашел! — сказал. Алибаев.
Хотя комиссар Кобзин видел Василия всего один раз, все же, когда тот вошел в кабинет, Петр Алексеевич с первого взгляда узнал его.
— О, старый знакомый, — приветливо заговорил Кобзин и, поднявшись из-за стола, двинулся навстречу. — Здравствуй, назад вернулся? Давай присаживайся.
— Да я тут барахлишко не все забрал, вот и надумал, — сказал Василий, осторожно устраиваясь на край стула.
— Прямо из Соляного? — спросил Кобзин.
— Оттудова. — Лицо Василия стало хмурым. Он боязливо оглянулся вокруг. — Я к вам насчет Семена...
— Семена? Какого Семена? — будто не понимая, о ком речь, спросил Кобзин.
— Ну, вашего. Маликова.
— Семена Маликова? — переспросил Кобзин, боясь думать о том смертельно страшном, что мог сообщить Василий.
— Да.
— А что с ним? Встречался где-нибудь?
— Ага, — ответил Василий. — В Соляном. Я вам все как на духу... Когда я ударился отселе, то прямо в Соляной. И нанялся там при конторе сторожить и печи топить. Вот так. Там сейчас контрразведка.
— Полковника Рубасова?
— Ага, — кивнул Василий. Он снова с опаской огляделся вокруг, словно боясь, что его могут подслушать, и заговорил шепотом: — Ой, чего они там делают, товарищ комиссар: людей на допрос приводят и бьют их, ну прямо бьют до смерти. А ночью пьянствуют, и опять же стрельба... Третьего дни привели Семена Маликова. Когда вели, был совсем, ну, как бы сказать, целый и здоровый, а обратно выволокли волоком. Даже не дышит... Велели, чтоб я водой поливал. Мое дело сами знаете какое, что прикажут, то и делаю. Ушли они в дом, а Семен очнулся, признал меня. И стал просить: меня, говорит, убьют, а ты проберись в Южноуральск, найди комиссара Кобзина... Словом, он велел ни с кем не разговаривать, только с вами, и рассказать, что я его видел. И еще велел передать, что у вас, стало быть, в вашем отряде, завелся предатель. Семена они там ждали. Больше он ничего не сказал. Потом вышли контры и опять его увели. Вот такие дела. Одним словом, жалко Семена. Вот и все... — Он поднялся. — До свидания вам.
— Как же ты добрался? — спросил Кобзин.
— А пешком, даль-то не больно большая.
— И нигде не задержали?
— Казаки? — спросил Василий. — Останавливали. Так у меня пропуск от самого полковника Рубасова. Ох и змей, глянет на тебя — мороз по коже.
— Значит, с Семеном вот так... — Кобзин на мгновение закрыл ладонями глаза. — Когда ты его в последний раз видел?
— А третьего дни. На допрос вели. И совсем-совсем он плохой. Ну, чуть идет. И такой, даже узнать трудно. А содержат они его в пакгаузе. Меня туда и близко не подпускают, и часовые стоят у ворот и день и ночь напролет.
Кобзин крепко пожал Василию руку.
— Спасибо тебе. Большое спасибо!
— Не на чем, — ответил Василий. — Ну я пойду. Сегодня назад надо.
— Подожди минутку. Скажи, пожалуйста, ты случайно не заметил, не доставляли к вам каких-нибудь больших грузов в ящиках, а может быть, в тюках?
— Нет, чего не знаю, того не знаю, — торопливо отозвался Василий. — Я ж говорю, туда, где пакгаузы, меня не пускают.
Видя, что Василий пугливо озирается по сторонам, комиссар не стал его задерживать.
— Значит, опять в Соляной?
— Туда. До свидания вам. — И Василий ушел.
...Так вот почему Семен как в воду канул... Схватили... Оказывается, в отряде чужак! Быть может, Семен ошибся? Нет, он слов на ветер не бросает. Скорее всего, так оно и есть: предатель в отряде. Это он выдал Семена, предупредил там, в Соляном городке.
Но как он мог узнать о посылке Маликова? Быть может, Семен сам проговорился? Нет, на него это не похоже. Тогда кто? Кто? Надо найти предателя и обезвредить его, иначе можно ждать новых провалов.
Беда в том, что сам Кобзин никого не подозревал. Значит, враг хитер и хорошо маскируется. Где он мог пристроиться? Быть может, покойный Стрюков? Не верится. Его все знали, знали, кто он, и, конечно, не пускались при нем в откровенные беседы. Да, Стрюков... Не распознал комиссар его характера, ошибся... Прав был студент, когда советовал изолировать его. Какую же беду несла отряду ошибка комиссара... Непоправимую... Не прояви Шестаков бдительности, неизвестно, чем бы все кончилось. Впрочем, почему неизвестно? Катастрофа! Для отряда все обошлось благополучно... И все же в этом происшествии есть неясность.
С того момента, как послышались выстрелы и Кобзин, прибежав, увидел убитого Стрюкова, а позже узнал подробности, его стало что-то томить, не давая ни минуты покоя. С виду все было ясным и очевидным, ничто не вызывало недоуменных вопросов: преступник был захвачен на месте преступления и поплатился за него. Все это так! И все же... Какая-то невыясненная деталь во всей цепи событий беспокоила Кобзина все сильнее и сильнее. Не развивается ли в нем вредная мнительность?.. И вот сейчас, только сейчас он понял, что вызывало тревогу: кулек с картошкой! Как он очутился там? Кто его бросил? Понятно, у студента нет картошки и незачем ему было бы ходить по двору с кульком. Вероятнее всего, кулек оставил Стрюков. Да не просто оставил, а швырнул, потому что несколько картофелин валялось на снегу, неподалеку от кулька. Да, вопрос очень и очень серьезный. Нет, в самом деле, если бы Стрюков шел в закоулок, чтобы взорвать штаб, стал бы он тащить злополучный кулек? Впрочем, как знать. Стрюков не настолько глуп, чтобы не маскироваться. Появись он во дворе с пустыми руками и броди там без всякого дела, его первый часовой остановил бы, а здесь — идет человек с кулечком, значит, есть в том необходимость. Нет, надо во всем тщательно разобраться. Между прочим, объяснения Шестакова по поводу выстрелов не очень-то убедительны. Конечно, Шестаков неоднократно показал свою преданность, и кому еще верить, как не ему, но все же убийство Стрюкова кажется странным. Будь на месте Шестакова простой солдат — иное дело, но студент умен, рассудителен, всегда собран... Заняться этим вопросом нужно немедленно и прежде всего освободить Шестакова от обязанностей начальника караула. В конце концов взрыв не последовал не потому, что была хорошо поставлена охрана, а по чистой случайности... А Семена нет.
Кобзин старался не думать об этом. Он не мог себе представить, что больше не увидит своего любимца, не мог допустить мысли, что где-то там, в Соляном городке, лежит он в каменном сарае, окровавленный и истерзанный... Не хотелось верить... Но верь не верь, а факт остается фактом. Не станет же Василий распространять небылицы. А все-таки зачем пришел Василий? За своим имуществом? Версия вероятная; но ведь он должен был отпроситься, получить пропуск. Как могло случиться, что его так легко отпустил матерый волк Рубасов? Василий там пользуется доверием? А чем он заслужил его? Вопросы, вопросы, все туманно, запутанно... А что, если Василий подослан и его рассказ о предателе является пустой выдумкой, сфабрикованной специально для того, чтобы посеять в красногвардейском отряде панику и недоверие?
Кобзин восстановил в памяти весь разговор с Василием и не только слышал каждое его слово, но видел выражение лица, глаз. Нет, Василий не обманывает. Он слишком прост и открыт, чтобы казаться иным, а не самим собой, чтобы заставить себя искренне говорить то, чего нет и что ему противно. Василию можно верить. Попытаться еще раз встретиться с ним? Пожалуй, бесполезно.
Надо срочно что-то предпринять. Необходимо сделать все, чтобы спасти Семена.
Кобзин взял телефонную трубку, вызвал Аистова.
— Случилась беда, — сказал Кобзин. — Приходи ко мне немедленно! Жду.
Совещались они недолго.
Когда командир отряда ушел, комиссар отправился к Наде.
Здесь он был всего один раз, и Надя, увидев Кобзина, сразу догадалась, что явился он неспроста, а привело серьезное дело и оно имеет к ней какое-то отношение.
Лицо Кобзина было строгим и горестным.
Надя предложила ему стул, он поблагодарил, но не сел, а зашагал по комнате, как бы собираясь с мыслями.
— Петр Алексеевич, что с вами?
— Да так, знаешь, всякое...
— Что-нибудь слышно про Семена?
Кобзин тяжело опустился на стул.
— Да, — глухо ответил он.
И Надя поняла: Кобзин что-то знает о Семене, и то, что он знает, — плохое, страшное.
— Схватили? — прошептала она.
Кобзин кивнул.
— Схватили, — с трудом подавив вздох, ответил он.
— У-би-ли?! — еще тише спросила Надя и почувствовала, как деревенеет ее тело.
Увидев, что у Нади побелели губы, комиссар подошел к ней и опустил руку на ее плечо.
— Семен жив, но в тяжелом состоянии.
— Где он?
— Там. В Соляном городке. Успокойся. Ну, успокойся!
Словно маленькую, он стал гладить ее по голове. Боясь заплакать, Надя крепко стиснула зубы и, хлебнув воздуха, сказала:
— Вы ничего не знаете про Семена... какой он человек. Я росла без отца и матери... Он был у меня самый родной на свете.
— Я знаю Семена... Очень хорошо знаю... Не надо, Надя, не плачь.
— Я не плачу, — ответила Надя и смахнула со щеки слезы. — Откуда узнали?
— Из Соляного городка пришел Василий. Он все и рассказал. В общем, какая-то гадина выдала Семена. Это я тебе сказал по секрету. Никому ни единого слова... Похоже, враг среди нас.
— Василий был у меня... Тут его одежда оставалась, забрал и ушел. Вот только что.
— И ничего не говорил о Семене?
— Нет.
Кобзину показалось это немного странным, но, вспомнив слова Василия о том, что Семен поручил передать только ему одному, понял, что Василий поступил так из предосторожности.
— Ты успокойся, Надя, садись и выслушай меня. Сейчас мы советовались с Аистовым. Говорили о том, как быть дальше. Ты знаешь, зачем Семен ушел в Соляной городок? А вообще ты знала, что он идет в Соляной городок?
— А как же, знала. Вы сказали.
— А ты никому не говорила об этом?
— Нет, — не задумываясь, ответила Надя. — Я все хорошо понимаю, Петр Алексеевич. Правда, разговор был и с Шестаковым. Но Шестаков верный человек,
— Да, конечно. Скажи, а ты согласилась бы отправиться в Соляной городок?
— Я? — удивилась Надя.
— Да, ты. Дело в том, что мы должны немедленно послать туда своего разведчика. Человека надежного, крепкого, которому можно бы доверить, я так скажу, революционную тайну. Вот об этом мы сейчас говорили с Аистовым. Остановились на твоей кандидатуре. Ты прекрасно справилась с поездкой в Заорье. Аистов полностью согласен со мной. Поедешь?
— Одна?
— Да.
— Не знаю. Нет, конечно, поеду. А вдвоем нельзя? На всякий случай. Хотя бы с Шестаковым?
— Нет, нет, — решительно возразил Кобзин. — Именно одна! И прямо в штаб Рубасова. Под именем Ирины Стрюковой. Не скрою — это опасно. Понимаешь меня? Сначала подумай.
— Я поеду, Петр Алексеевич.
— Но никому ни слова! Ни единому человеку! Этого требует дело революции. А Ирину у Рубасова ждут. В лицо ее там, кажется, никто не знает.
— Сколько лет дома она не была. Кто знал — позабыл, — согласилась Надя.
— Сейчас ко мне соберутся товарищи, — сказал Кобзин. — Договоримся обо всем. Но ты помни одно: когда ты придешь в Соляной, мы будем рядом. Может, удастся Маликова выручить. И, кроме того, ты должна узнать, там ли английские боеприпасы... В общем подробности уточним. А ты обдумай все и немного погодя приходи ко мне. Еще раз повторяю: никому ни звука, ни одному человеку! Будто ты ничего не знаешь.
— Я поняла, Петр Алексеевич.
Когда Кобзин ушел, Надя заплакала навзрыд и рухнула на койку. Она плакала, плакала до тех пор, пока не стало уже слез. Потом поднялась, подошла к окну и горячим лбом прислонилась к холодному стеклу. Стоя с закрытыми глазами, она не думала о том, что узнала о Семене... Перед глазами мелькали картины детства, ее поездки в ночное, купанье на Урале, скачки на лошадях — и всюду с ней был Семен. Боже мой, он всегда старался быть рядом и никому никогда не давал ее в обиду. Дорогой, самый близкий ей человек попал в беду. Наверное, и там он вспоминал ее... Вспоминал, как она обидела его... И как же это могло случиться?! Ой нет, никого ей не надо, только бы выручить Семена, только бы он остался жив!
И ей снова, будто сквозь туман, видится контрразведка в Крутогорине, казаки под руки волокут человека в белой рубашке...
Василий ничего не сказал. Ушел он или нет? Наверно, ушел, торопился так, что наспех попрощался. А может, он где-нибудь здесь? Не поднялся ли к Шестакову? Но все равно, если бы он сейчас даже пришел сюда, она ни о чем не станет его спрашивать, не может — она дала слово Кобзину.
В дверь постучали. Или ей послышалось? Нет, стук повторился. А что, если это Василий? Хотя Василий так не стучит. Надя догадалась, кто стоит за дверью.
— Входите, — сказала она и почувствовала, что на сердце ее стало еще тягостнее.
Да, вошел Обручев.
— К тебе гость за гостем, дверь не успевает закрываться, — сказал он и, спросив разрешения, сел.
Надя не сразу сообразила, кого еще имеет в виду студент, и недоумевающе посмотрела на него.
— А у меня никаких гостей не было.
— А Петр Алексеевич?
— Да, Петр Алексеевич был, это верно. Только какой же он гость? Заходил по делу.
Обручев обратил внимание на ее припухшие веки, на красные глаза.
— Наденька, ты плакала? А что случилось?
— Так... ерунда, — нехотя ответила Надя, и по ее тону Обручев понял: о причине своих слез она говорить не хочет.
А ему было интересно, ох, как интересно! Не Кобзин ли сообщил ей что-нибудь о Маликове? Раньше Надя была с ним более откровенна.
— Не могу ли я помочь? — участливо спросил он и бережно взял ее за руку.
— Нет, нет... Мне ничего не надо.
Глядя ей в глаза, Обручев сказал:
— Рука горячая. Может, нездоровится тебе? — Он приложил ладонь к ее лбу. — И лоб тоже.
— Пустое. Пройдет!
— Берегись. Заболеть недолго. А Петр Алексеевич, если не секрет, зачем приходил? — Он почувствовал, как дрогнула ее рука.
— Петр Алексеевич просил меня побывать в пункте детского питания, — сказала она первое, что пришло в голову.
И Обручев понял это.
— А я сейчас сидел у себя — такая тоска! Вот и решил тебя навестить. Может, не вовремя?
— Нет, почему же?! — не очень уверенно сказала Надя.
— Устал я как-то... Не знаю, что со мной делается. Иногда такая грусть накатит... Когда мы вот так встретимся, поговорим, я будто свежего воздуха хлебну. Не раз собирался зайти к тебе, но боюсь быть навязчивым.
— Да нет, ко мне и другие люди ходят.
— Я знаю.
Он все еще держал ее руку в своей и бережно, словно хрупкую вещицу, поднес к губам.
Надя растерялась, хотела вырвать, но не было сил, а он целовал все выше, выше, еще раз, еще...
Почти не встречая сопротивления, Обручев вдруг резким рывком притянул ее к себе, поцеловал в губы и стал покрывать поцелуями лицо, глаза.
Надю еще никто так не целовал.
Обручев подхватил ее на руки и прижал к себе.
Она выскользнула и с силой оттолкнула его.
— Уйди...
Он снова пытался обнять ее, бормотал какие-то слова о своей любви...
Надя не слушала.
— Уйди, Сергей... уйди! — твердила она.
По лицу Обручева пробежала хмурь, глаза недобро сверкнули, но Надя ничего этого не заметила.
Она узнала, что Сергей любит ее. Любит! Вместе с тем ее не покидали тревожные мысли о Семене.
— Извини, Надя, — голос у него совсем незнакомый, чужой.
— Не сердись на меня, — просяще сказала она. — Потом я тебе все, все расскажу.
Обручев вышел.
Поднимаясь к себе, он нервно похлопывал ладонью по перилам лестницы и с неприязнью думал, что вряд ли им еще раз придется встретиться, а если эта встреча и состоится, то она будет совершенно иной...
Для прощания с покойником гроб с телом Стрюкова был установлен на катафалке в церкви, построенной Иваном Никитичем и известной под названием Стрюковской.
Молва об убийстве купца Стрюкова разнеслась по всему городу. Много было разных кривотолков: одни говорили, будто Стрюков кинулся с ножом на комиссара, когда красногвардейцы начали нагло приставать к его дочери, и отец встал на ее защиту; другие, что у Стрюкова припрятано золото, комиссар якобы потребовал сдать его, а Стрюков отказался выполнить требование, и комиссар приказал расстрелять купца. Много слухов породила сплетня, но в каждом оставалось одно: красные без всякого суда расстреляли знатного купца и расстреливал его друг и помощник комиссара Кобзина — красногвардеец Шестаков.
Знала об этом и дочь Стрюкова — Ирина, но она знала и то, чего не знали другие; что Сергей Шестаков и близкий ей поручик Обручев — одно и то же лицо, и потому не могла поверить, что он совершил это преступление.
Ирина весь день пробыла в церкви возле гроба отца. То и дело приходили какие-то люди, прощались с покойником, прикладывались к его лбу или руке, и не у одного из них видела Ирина на глазах слезы. Она понимала — это те, для которых ее отец был своим человеком, а может быть, и добрым гением.
Большинство же приходили из любопытства, быстрыми глазами шарили по катафалку, наспех крестились, что-то шептали друг другу и уходили, должно быть, для того, чтобы, очутившись за пределами церкви, посудачить о преставившемся в бозе.
К вечеру церковь стала пустеть. Вначале Ирину радовал людской поток: люди шли к отцу, значит, помнили его; возможно, среди них были и такие, что любили, уважали его. Но чем дольше тянулось время, тем больше Ирина ощущала неприязнь к посетителям, они, словно стена, отделяли ее от отца, а ей мучительно хотелось остаться с ним наедине, не быть мишенью для чужих любопытных глаз.
Наконец в церкви остались только Ирина да монахиня, монотонно читавшая псалтырь.
Дочитав псалом, монахиня подошла к свече у изголовья катафалка, не спеша сняла нагар. К ней приблизилась Ирина.
— Матушка, вы, наверное, устали?
Монахиня перекрестилась.
— Господь посылает мне, грешнице, силы и укрепляет слабый глас мой. Я привыкла.
Послышался бой часов, на колокольне пробило три.
— Ночь идет к концу, — снова заговорила монахиня. — Недолго осталось бодрствовать.
— А вы пошли бы отдохнули, — предложила Ирина.
— Не могу, — возразила монахиня. — Душа убиенного мятется, витает здесь и взывает, чтоб о ней молились.
— Я почитаю псалтырь, — предложила Ирина.
— У вас горе великое. Пускай мой глас идет ко господу и будет им услышан.
Монахиня еще что-то собиралась сказать, но тут заговорила Ирина:
— Я была плохой дочерью и много горя принесла ему... Он и погиб из-за меня...
— Дитя мое, если скорбит душа — поплачьте, — посоветовала монахиня.
— Не могу, нет слез... И прошу, оставьте нас. Хочу последний раз побыть с отцом наедине. Последний...
— Понимаю и сердцем и душою, — сказала монахиня, перекрестилась и ушла.
А Ирина подошла к отцу.
Он выглядел, как всегда, был как живой, и Ирине не верилось, что он мертв. Комок подступил к горлу, но плакать она не могла. И Ирина заговорила с ним, заговорила шепотом, не спеша, как бы боясь, что какое-то слово он не услышит и не поймет ее. Она знала: отец так хотел с ней поговорить... Не удалось. Ну, что ж, можно поговорить теперь... Правда, сейчас отец нем, ничего уже не помнит. А у Ирины в памяти вся ее жизнь. И во всей ее жизни, особенно в детстве, на первом месте он, отец. Сохранилось воспоминание, как когда-то он принес ей громадное яблоко и шутил, говоря, что принес его от зайца... А вот совсем ясно видятся мучительные дни и ночи, когда она болела корью. Все то время он не заснул ни на минуту, носил ее на руках и рассказывал сказку. Одну и ту же сказку, других не знал. Неумело, смешно рассказывал. Куда хуже, чем нянька, но Ирине казалось, что он рассказывал лучше всех на свете... И всегда вокруг отца были люди, много людей. А вот теперь никого не осталось. Хотя они и надоели за день, но оттого, что сейчас ни души, Ирине стало тягостно. Все бросили... И монахиня не пришла бы сюда на ночь, но ей платят... Двое их осталось, Стрюковых. А завтра она останется одна, совсем одна...
Ирина прижалась щекой к сложенным на груди рукам отца.
— Это я привезла твою смерть! Ты все прощал мне! И теперь простил бы... Но я сама себе не прощу, никогда, клянусь!.. И еще клянусь — отомщу убийце, отомщу! Прости меня... Я виновата перед тобой.
Задумавшись, Ирина посидела на ступеньке катафалка, потом подошла к аналою и словно застыла над раскрытой книгой. Она не заметила, как появился дед Трофим, и вздрогнула, услышав стук его деревянного костыля.
— А? Кто? — вскрикнула Ирина.
— Я это, сторож церковный.
— Зачем ты здесь? Иди... Вы все ненавидели его...
— Да бог с вами! Я часы отбивал, ну и зашел помолиться за Ивана Никитича.
— Уйди, уйди, пожалуйста! Оставь мне его.
Старик так же неслышно исчез во тьме, как и появился, но не ушел из церкви. Хотя Ирина накричала на него и приказала убраться прочь, ему все-таки показалось, что он не должен ночью оставлять женщину наедине с покойником. Он отошел к клиросу и сел на ступеньку.
Ирина стала негромко читать псалом.
Чуткое ухо Трофима уловило чьи-то осторожные шаги: кто-то вошел в церковь и, стараясь ступать бесшумно, направился туда, где стоял катафалк.
Ирина шагов не слышала, но ей показалось, что за ее спиной кто-то стоит. Оглянувшись, она увидела Обручева, отшатнулась и заслонила лицо руками, будто отгоняя страшное видение.
— Ради бога... — просяще заговорил Обручев. — Мне необходимо сказать тебе...
Ирина не только не предполагала, что он может появиться, но была уверена: после всего происшедшего, завидя ее, он опрометью бросится в сторону. И вдруг Обручев здесь!
— Что тебе еще надо от меня?
— Молю только об одном, выслушай.
— Выслушать? — голос Ирины задрожал. — Негодяй! Вот дело рук твоих... И ты еще осмелился прийти сюда. Прочь! Я не-на-ви-жу тебя! — Она почти задыхалась. — Я убью! Убью!
— Убей, — покорно сказал он. — Думаешь, я дорожу жизнью? Убей! Мертвые сраму не имут... Ты считаешь, что мне легко? Да мне во много раз горше, чем тебе! С того проклятого часа, как случилось это, я лишился покоя, я готов кричать, биться о стену лбом. Да могу ли я хоть на мгновение забыть, что твой отец... кого ты так любила... Ведь я знаю...
— Не продолжай! — вскрикнула Ирина. — Ничтожество! Спасая свою жизнь, поднял руку на старика.
— Неправда! — прервал ее Обручев. — Неправда это! Но как я могу доказать тебе! У меня нет свидетелей.
— Вот он лежит, свидетель! — не пытаясь скрыть горя и гнева, сказала Ирина. — Взгляни! Или не хватает смелости?
— Моим свидетелем пусть будет бог, — тихо сказал Обручев. — Во дворе нас было только двое, я и Иван Никитич. А за стеной враги — весь штаб!.. Они остались живы только благодаря твоему отцу. В отдушнике уже тлел фитиль, соединенный с динамитом. Понимаешь? Оставались считанные минуты, секунды... А тут он! Я просил, умолял уйти. Он сказал, что в доме спрятано золото. Закричал. Позвал на помощь. Это был почти провал. Я выстрелил. Я должен был! За мной — Россия! Да, конечно, я убийца и готов встать перед любым судом. Но я и без того наказан — я потерял тебя...
— Неужто ты мог еще думать?..
Но Обручев не дал ей говорить.
— Нет, нет, я не безумец! Я все понимаю. Прощения я не прошу. Хочу только одного — пойми: иначе я поступить не мог. Есть чувство, которое стоит выше всего...
— Оставь меня. Уйди!
— Нет, я все скажу, — не сдавался Обручев. — Ненавидеть тех, кто подписал нам смертный приговор, кто заставляет нас вот так стрелять друг в друга, — мой долг. Врагам нельзя давать пощады. Борьба до конца! Да, я дорожу жизнью и буду цепляться за нее до последнего дыхания... Уж если отдам — то большому счету истории. Но ведь и ты, Ирина, в ответе перед ней... Это все, что я хотел сказать. Теперь можешь убить меня. От тебя я приму смерть. Вот револьвер. Или скажи им, скажи, что я не Сергей Шестаков.
Ирина слушала страшный шепот Обручева и чувствовала, как остывает ненависть к нему и вместе с тем приходит какая-то слабость и неприятное головокружение.
— Уйди, — бессильно повторила она. — У меня горит вот здесь, — и приложила руку к груди.
Обручев понял, что его слова не прошли бесследно, что кризис миновал и она способна слушать его.
— Ирина, что ты намерена делать дальше?
— Не знаю...
— Только не оставайся здесь. Ни одного дня. Поедем со мной в Соляной городок.
— А ты разве едешь туда? — удивилась Ирина.
— Да. Сейчас. Нужно срочно предупредить полковника Рубасова о действиях большевиков. Иначе — катастрофа! Едем!
— Завтра похороны. Если завтра в ночь?
— Будет поздно. Только сейчас. Сегодня Кобзин послал куда-то Корнееву. Отправлен отряд красногвардейцев, человек пятьсот. Мне кажется, тоже туда. Их надо опередить и обезвредить. Решай же, время не ждет!
Ирина приблизилась к гробу, еще раз склонилась над ним.
— Прости, отец, — чуть слышно прошептала она. И вдруг всхлипнула, закрыла лицо и, давясь словами, сказала: — Нет! Нет, я никуда... С ним... останусь.
Обручев понял — уговаривать бесполезно. И исчез так же тихо, как появился.
Вслед за ним вышел дед Трофим, немного постоял на церковной паперти и решительно заковылял через дорогу — туда, где у ворот стоял часовой с красной повязкой.
Больше всего Надя боялась первой встречи с Рубасовым. О нем рассказывали столько жутких историй, что ей казалось: глянет он ей в глаза, и тайна ее сразу же будет разгадана.
Но все обошлось на диво благополучно. Действительно, взгляд у Рубасова был цепкий, неприятный, но полковник пытался скрыть это. Он был любезен, внимателен и не выглядел таким страшилищем, как представлялось Наде.
Почему-то она думала, что Рубасов тут же начнет ее о чем-нибудь расспрашивать. Но разговор получился простым и коротким. Полковник посочувствовал гостье в связи со смертью ее отца — Ивана Никитича Стрюкова, сказал несколько лестных слов в адрес покойного и заверил Надю, что здесь, в Соляном городке, она может жить спокойно, без опаски.
Надя отвечала, что если бы она думала иначе, то вряд ли бы пустилась в этот рискованный вояж.
Он поинтересовался, какое у нее военное звание, и, когда она сказала, что в женском батальоне смерти получила поручика, благосклонно улыбнулся, провел в соседнюю комнату, где познакомил с находившимися там офицерами.
— Засим я вас отпускаю, Ирина Ивановна, вы свободны! Виктор, мое дорогое чадо, проводит и покажет ваше временное жилище; к сожалению, ничего лучше предложить пока не могу. — И, обратившись к сыну-поручику, пояснил: — Виктор, я имею в виду комнату, где жил сотник Рухлин.
Услышав эту фамилию, Надя чуть было не вскрикнула. По телу ее пополз холодок. Сотник Рухлин!.. Нет, она не ослышалась, конечно же, это форштадтский! Ведь Семен рассказывал, что оба Рухлина бежали из города. Значит, он тут. И уж если он встретит Надю здесь, то живой ей не уйти. Чуда не будет.
— Прошу вас, мадемуазель... — расшаркался перед ней Виктор, а другой офицер, тоже в форме поручика, опередив его, распахнул перед Надей дверь.
— Зубов, Зубов! — шутя прикрикнул на него Виктор.
Пожилой лысоватый подполковник Викулов, боясь, как бы Надя не обиделась за столь панибратское отношение к ней, вместо извинения сказал:
— Мадемуазель, вы на них не сердитесь. Веселые люди.
— Ирина Ивановна! — окликнул ее Рубасов.
Надя не спеша обернулась.
— Вам нужен пропуск.
— Но у меня же есть...
— Без внутреннего вы не отойдете от порога. Мой друг, — обратился он к Викулову, — выпишите Ирине Ивановне внутренний.
Пока Викулов заполнял бланк, Рубасов вежливо откланялся и, сказав, что рад ее видеть всегда, вышел.
— Господа офицеры, идея! — заговорил поручик Зубов. — Нашего полку прибыло! Я предлагаю торжественно отметить приход единственного офицера-женщины.
— Браво, браво! — поддержал Викулов и протянул Наде пропуск. — Берите его, мадемуазель, такие пропуска не у всех живущих здесь.
Надя поблагодарила.
— Ну, а что вы скажете насчет маленького закусона? — спросил Зубов.
Наде хотелось сказать, что она ни на какие закусоны не придет — ни за что.
— Я немного устала...
— Но, мадемуазель, — голосом, полным сожаления, сказал подполковник Викулов, — вы нас огорчите. Это же в честь вашего благополучного прибытия!
Надя поняла, что отказываться бесполезно, она только напрасно потратит на разговоры время, а ей как можно скорее надо узнать, где же Рухлин.
— Хорошо, господа... Я приду.
Зубов бурно зааплодировал.
— В семь вечера! — предупредил он. — Комната — рядом, там, так сказать, наш вечерний клуб. Для посвященных.
Не в пример своему отцу, Виктор Рубасов оказался веселым, жизнерадостным и разговорчивым. Ему, видимо, надоело постоянное общество офицеров, он был рад свежему человеку и болтал без умолку. Пока они прошли огромный двор, Надя уже знала, что Виктор женат, что его жену зовут Олей, что она живет здесь же и вечером он познакомит со своей женой. Случайно узнала Надя и о том, что сотник Рухлин утром уехал в Южноуральск.
— И знаете зачем? Папа поручил ему доставить вас.
— Меня?
— Да. Это, кстати сказать, уже вторая попытка.
Надя слушала болтовню поручика, старалась не пропустить ни слова и в то же время думала: если Рухлин уехал утром, то уже ночью он может возвратиться в Соляной городок. Привезет ли он Ирину Стрюкову или и на этот раз похищение не удастся — это не имеет значения. Надя знала одно: до появления этого человека ей необходимо разузнать все о Семене, о боеприпасах и исчезнуть из Соляного городка. Как мало времени в ее распоряжении! А тут еще этот офицерский вечер...
— А вон и моя Олюшка.
Из караульной будки у массивных железных ворот вышла невысокая молодая женщина в беличьей шубке и такой же шапочке.
Увидев мужа, она бегом бросилась навстречу. Не обращая внимания на Надю и посмеиваясь, она принялась оживленно рассказывать поручику, как ее задержали в воротах и вот пришлось возвращаться домой за пропуском.
— Поделом тебе, не забывай, — пожурил Виктор.
— Нет, ты понимаешь, говорю часовому: «Вы меня знаете?» Он отвечает: «Знаю». — «И кто же я?» — спрашиваю. «Сноха его высокоблагородия господина полковника». — «Ну и пропустите». А он свое: «Без пропуска не положено».
— Олюшка, познакомься, пожалуйста, с нашей гостьей. Это долгожданная Ирина Ивановна Стрюкова.
Эти слова произвели на жену поручика магическое действие. Лицо Олюшки тотчас преобразилось, исчезла веселость, и вместо нее набежал не то испуг, не то серьезность, а глаза взглянули на Надю с нескрываемым любопытством.
— Вы? Правда? — спросила Оля, взглядом окинув Надю с ног до головы. — Боже мой, вот вы какая!
— Какая? — удивилась Надя.
— Не знаю. Но не такая, как я себе представляла. Мне казалось, что вы очень столичная, модная.
— Ну, что ты, — возразил Виктор. — Ведь Ирина Ивановна — офицер.
— Правда, да? Как это интересно! А вы куда, к нам?
Виктор объяснил, куда они направляются, и Оля решительно увязалась за ними.
В караульной будке первым протянул пропуск Виктор, за ним Надя, потом Оля. Вошли во второй двор, окруженный высокой каменной стеной с башенками, смотревшими во все стороны узкими оконцами-бойницами.
Надя когда-то приезжала в Соляной городок и знала, что в давние времена здесь была крепость. Построили ее, когда местные соляные богатства взяла в свои руки царская казна. Многие века до того жители громадного степного края пользовались соляным богатством бесплатно, но казна решила торговать солью. Степняки поднимали бунты, не раз нападали на соляной прииск. Для защиты от них построили крепость. Это было давно. С течением времени все изменилось. Сама крепость перестала считаться крепостью, в ней не было никакого гарнизона, а огромный двор превратился в соляной склад, и его стали называть пакгаузом. Но и склад не так-то уж долго продержался. Когда невдалеке прошла железная дорога, у станции выстроили новые склады, а крепость была превращена в этапный пункт по пересылке каторжан.
Во дворе Надя увидела высокие бесформенные нагромождения, прикрытые полотнищами брезента.
Местами из-под брезента выпирали углы, словно ребра, и Наде нетрудно было догадаться, что здесь сложены в штабеля ящики. Неужто это и есть тот самый английский «гостинец», о котором ей поручено узнать? И, скорее всего, так оно и есть. На одном из брезентов она прочла надпись по-английски и на другом...
— А вот здесь ваше жилище, — сказал Виктор, когда они подошли к приземистому кирпичному зданию, в окнах которого виднелись массивные железные решетки.
— Не жилище, а тюрьма, — сказала Оля. — Вам не кажется, Ирина Ивановна?
— Пожалуй, вы правы. Хотя нет, тюрьма осталась там, позади. Я так устала от этого ада! У вас мне и простая халупа покажется дворцом.
— У Ирины Ивановны, Олюшка, большое горе. Красные расстреляли отца.
Оля всплеснула руками.
— Боже мой, какой ужас! Но вы не будете у нас одиноки, мы не дадим вам тосковать. Можете располагать мной как хотите. Правда, Виктор?
— Да, да, конечно.
— Вот какие они звери, — продолжала возмущаться Оля. Мне иногда, знаете, казалось, когда наши расстреливали их, ну, после допроса, что все-таки это слишком жестоко. А Виктор всегда сердился и говорил, что смерть для них — благо, они заслуживают самой ужасной казни. И он прав.
Оставшись одна, Надя почувствовала себя страшно усталой. Не раздеваясь, она опустилась на стул и закрыла глаза.
Комната была настолько прокурена, что становилось тяжело дышать. Надя подумала о том, что еще ночью здесь находился один из самых ярых ее врагов. Ей просто повезло. Если бы не случай, не миновать ей встречи с Рухлиным и тогда... Надя не хотела думать о том, что случилось бы тогда. Главное — сейчас все обошлось благополучно, мало сказать благополучно — ее приняли не только внимательно, но даже ласково и заботливо.
Надя невольно улыбнулась: хорошо придумал Кобзин, и эти одураченные контрразведчики встречают ее, как миллионершу Ирину Стрюкову; а как бы хотелось взглянуть на их физиономии, когда они узнают, перед кем расшаркивались, на кого расточали свое внимание и заботу! Но это случится, обязательно случится! Лечь бы, полежать немного, но противно прикасаться к постели, где минувшей ночью спал Рухлин.
Пожилой казак принес вещи и сказал Наде, что ему велено быть у нее денщиком.
Надя хотела было отказаться от услуг, но сообразила, что этого делать нельзя, и приказала распаковать чемодан и привести в порядок ее мундир.
Казак принялся за дело.
Сначала он обращался к Наде хотя и уважительно, но по-свойски, называя ее барышней; когда же увидел мундир с погонами поручика, растерялся, стал тянуться перед ней и, не зная, как называть ее, смущался все больше. Затем, козырнув, сказал:
— Первый раз вижу, чтоб женщина в офицерских званиях ходила. Прямо не знаю, как вас навеличивать, не сердитесь на старика.
Надя хотела было сказать, что ей совершенно безразлично, хоть горшком назови, только в печь не сажай, но спохватилась:
— Обращайтесь, как положено в моем звании.
— Слушаюсь, господин поручик.
— А вы давно здесь служите? — поинтересовалась Надя.
— Да как вам сказать, годы мои такие, что служить я не обязан. Ну, а вот когда в отступ пошел атаман из Южноуральска, и я ударился с им. Приехали мы прямиком сюда, я было прихворнул, а потом оклемался малость, меня и поставили в денщики. Как кто в эту комнату поселяется, так я и прислуживаю.
— Значит, вы из Южноуральска?
— Оттудова. Из казачьего пригорода, из Форштадта. Тут немало нашенских. До вас в этой горнице проживал сотник, тоже наш. Рухлин по фамилии. Куда-то отбыл, говорил, дни на два. Сурьезный он человек, уж после отступа приехал. На красных жалуется. Рассказывает — начисто грабить стали, даже расстрелять его хотели. И диво бы кто, а то, сказывает, шабры — парень с девкой. И надо же такому делу случиться! Я еще отца этого красного бандюка знал, с германской он не вернулся, Маликовы их фамилия. Отец был куда какой геройский да правильный человек, а сына, вишь ты, на легкую наживу потянуло. Ну, я еще так скажу: бог его наказал. Все обернулось, ну, прямо, как в сказке. Попался этот самый краснюк! Приходит, значит, господин сотник и такой радостный и маленько, видно, хлебнувши. «Вражину, — говорит, — сегодня своего видел!» Вот как оно бывает.
— И что с ним? — стараясь казаться безразличной, спросила Надя.
— С сотником-то? Радовался, чего ему!
— Нет, я о том.
— Краснюк? Малик этот самый? Кончали.
— Как кончали?
— Так что забили насмерть.
— Не может быть?!
— Вот как перед богом, ваше благородие... Его мимо на допрос водили. Я сам видел, да и наши все кидались глядеть: краснюка, мол, главного ведут! А особливо сотник этот, Рухлин, значит, во все вникал и страсть как ярился. Тот Малик, как я понял, на поддавки не шел. Вот и забили. Вчера, слыхал я, захоронили, только, можно сказать, похорон-то и не было, закопали — и вся недолга. А парень этот, Малик самый, тоже сурьезный был, скажу вам. Один раз видел, как вели его...
Старик рассказывая, то и дело поглядывая на Надю — не докучает ли своей болтовней? Но, заметив, что она слушает внимательно и даже расспрашивает, остался доволен — не с каждым офицером вот так покалякаешь.
— Так вот, ведут его, ну, прямо скажем, лица на нем человечьего нету, а сотник-то возьми да и крикни: «Сладко, мол, Маликов, живется?» А он, змей нечистый, глянул, ваше благородие, на него, вот как будто пронзил его глазами. «Тебе, — говорит, — еще послаще будет!» А потом обернулся, губы-то все поразбиты, а вроде на них ухмылка произошла, и крикнул: «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил?» Обиделся господин сотник, потому как он тоже, скажем, с рыжинкой.
— И где же его похоронили?
— Сказывают, почти у ворот, под стеной...
Денщик еще что-то рассказывал, но Надя не стала слушать и отпустила его.
Значит, Семена больше нет. И не будет. Шел весь избитый, а сам улыбался, вспомнил ее дразнилку Рухлина. Он такой был, Семен, — бесстрашный, ничего не боялся! Узнать бы, узнать бы, кто? Кто его предал?
Надя присела у стола, задумалась. Ей казалось, что с того времени, как она уехала из Южноуральска, прошла вечность. Как ей хотелось спасти Семена, хоть чем-нибудь помочь! Не успела, а он, наверное, до последнего надеялся. И вот не дождался...
В комнате, и без того не очень-то светлой, стало темнеть. Прошел этот долгий день. Надя с неприязнью подумала о том, что ей пора переодеваться и идти на званую пирушку. Будь она проклята, эта пирушка... Неизвестно, чем она грозит Наде, чем закончится и кто там будет? Вот ведь не знала же она, что здесь Рухлин, так же неожиданно может встретить кого-нибудь из знакомых. Все возможно. А что, если не идти на вечер? Надя постаралась представить на своем месте Ирину Стрюкову. Интересно, как поступила бы Ирина? Могла бы отказаться, не пойти? Вполне! У нее очень веские причины — только что потеряла отца, каждому понятно ее состояние, и потому никто не стал бы обижаться. Надя превратилась в Ирину, и, следовательно, на вечер можно не идти, да, пожалуй, не только можно, а и должно. Дело совсем не в том, что грозит опасность, и Наде страшно встречаться с полковником Рубасовым, что, когда она подумает об этом, начинает кружиться голова. Она же здесь не сама по себе, ее послал отряд, ей доверили большое дело, от которого зависит, может быть, очень многое. Она узнала, что английский «подарок» в Соляном городке, и об этом должна сообщить Кобзину. Поэтому ей необходимо скорее уйти отсюда и вернуться в отряд. Все. Никаких пирушек! Переодеваться — и в дорогу! С такими документами, как у нее, всюду путь открыт. А стоит ли переодеваться? Мундир поручика батальона смерти, прихваченный из шкафа Ирины, взят специально для этих сволочей, а не пойдет она туда — и мундир ни к чему. За час или два, пока кинутся искать, она будет уже так далеко, что никакой Рубасов достать не сможет. «А как же Семен?» — вдруг подумала она. Убили человека, и все остается шито-крыто? А тот, кто выдал его, наверняка жив, притаился в Южноуральске, и еще неизвестно, сколько людей положат из-за него свои головы! Нет, она пойдет на эту вечеринку, должна пойти и постарается все разузнать.
Рассуждать легко, а принять решение не так-то просто. Надя словно раздвоилась: то она доказывала себе, что не должна больше оставаться ни единой секунды, и если уйдет сейчас, этот поступок будет самым верным; то, напротив, уговаривала себя остаться и, терзаясь укорами совести, спрашивала, кто же, как не она, должен узнать имя человека, погубившего Семена. Второй голос становился все более сильным и убедительным, и Надя приняла окончательное решение. «Боишься? — со злостью спрашивала она себя, когда уже, казалось, одолел первый голос и было решено немедленно уходить. — Смерти боишься? Ну, беги, удирай! Но если людей можно обмануть, себя не обманешь. Ты же всю жизнь, сколько будешь существовать на белом свете, будешь помнить этот вечер, свое бегство и никогда не простишь себе, потому что тебя всегда будет мучить совесть — за Семена... Нет уж, чем жить так, то лучше не жить».
Приняв решение, Надя как-то сразу успокоилась. Ей показалось даже немного странным, что она боялась встречи с Рубасовым и робела перед надвигающимся будущим. Не спеша она стала одеваться. Натянула черные бриджи с белым кантом, надела френч с белой окантовкой по верхнему борту и рукавам; у погон тоже была белая окантовка, а в верхней части две скрещенные кости. Хромовые сапоги Ирины были ей впору. Надя прошлась по комнате — хорошие, мягкие сапоги, ступаешь, как кошка, — ни скрипа, ни стука. Надя достала из муфты гранату — подарок Кобзина и опустила ее в карман; в другой карман положила браунинг. Нет, в руки им она не дастся.
Да, все это так, но случись с ней что-нибудь, Кобзин не будет знать об английских боеприпасах. За этим шел сюда Семен, а у нее разве не то же поручение? Встретить бы Василия... А можно ли ему верить? Можно. Все, что он рассказал Кобзину, оказалось чистой правдой. Но как его найти? Он топит печи в помещении конторы, там, где штаб Рубасова. У кого-нибудь спросить? Он бывший батрак Стрюкова... Нет, нельзя. Разве станет Ирина Стрюкова разыскивать конюха? Этот вариант отпадает. Придется положиться на случай. Сейчас вечер, время, когда он должен топить печи на ночь. Ну, а если встреча не состоится и с ней стрясется беда? Что тогда? Все пропало? Нет, тогда выручит граната: ее взрыв будет сигналом для Кобзина.
От раздумий Надю отвлек приход Виктора с женой.
— Боже мой, какая же вы красавица! И как вам идет военная форма, — всплеснув руками, восторгалась Олюшка, со всех сторон осматривая Надю. — Нет, посмотри, Виктор, посмотри, — это же прелесть! Я тоже хочу такой костюм, ты слышишь, Виктор?
— Пожалуйста. Вот Ирина Ивановна организует женский батальон смерти, вступай!
— Да, да, обязательно! Вы меня первой запишите! Только немного цвет не нравится — черный. Посветлее нельзя?
— К сожалению, нельзя.
— А мы за вами, — сказал Виктор.
Надя поблагодарила и крикнула за дверь:
— Денщик! Шинель!
Но к шинели бросился Виктор.
— Нет, позвольте мне.
По тому, как встречные казаки и солдаты поспешно и старательно козыряли, Надя догадалась: они приветствуют не просто двух офицеров, а сына начальника контрразведки. Она решила воспользоваться этим неожиданным, но важным знакомством.
— Знаете, Оля, у меня страшно болит голова. Хочется немного подышать воздухом. Вы не составите компанию?
— С удовольствием. Мне тоже надоедает сидеть в четырех стенах.
— Только недолго, — предупредил Виктор. — Я скажу там...
Он ушел, а Надя со своей спутницей принялись бродить по протоптанным в снегу тропинкам, между заснеженных нагромождений. Наде хотелось разыскать могилу Семена. Она шла и слушала почти неумолкаемое щебетание Оли. И, как нарочно, Оля заговорила о красных, стала рассказывать, что недавно в Соляном городке схватили разведчика из Южноуральска — все это она узнала от Виктора. Хотя Оля и не назвала пленного красногвардейца, Надя догадалась, что речь идет о Семене.
— Вот здесь его закопали. — Оля указала на невысокий, не совсем еще забураненный холмик.
А в это время в кабинет Рубасова вошел подполковник Викулов.
— Почти все гости в сборе, а виновницы торжества нет, — доложил он. — Мой друг, ты будешь с нами?
— Не знаю, — сказал Рубасов и недовольно спросил: — Кто затеял эту дурацкую вечеринку?
— Не в служебное время, — весело ответил Викулов и расшаркался перед Рубасовым.
— Но это повторяется слишком часто.
— Сегодня исключительный случай. Принимаем нового офицера в свою семью. Традиция!
Рубасов не обратил внимания на слова подполковника.
— Я получил шифровку, — сказал он, — совдепы создают регулярную армию.
— Не получится! — убежденно заверил Викулов.
— К сожалению, получается.
В дверь заглянул Виктор и пригласил к столу. Рубасов ответил, что придет немного позже.
— Ирина Ивановна пришла? — спросил он.
— Они с Олей дышат воздухом. Олюшка взяла ее под свою опеку.
Рубасов одобрительно кивнул головой.
— Будьте, друзья мои, милосердны и человеколюбивы, — назидательно сказал Рубасов. — Помните, у мадемуазель Стрюковой большое горе.
— А она молодчина, хорошо держится! — отозвался Викулов. — Шутка ли, так трагически потерять отца! Да другая бы...
— Пусть она почувствует, что находится среди своих, — сказал Рубасов и попросил сына: — Виктор, когда она придет, пригласи ее ко мне.
— Слушаю, папа, — с готовностью ответил Виктор и вышел.
— Мой друг, почему все вьются вокруг этой Стрюковой? — спросил Викулов.
Рубасов недоуменно пожал плечами.
— Никто не вьется.
— Но, но, я вижу, — с усмешкой сказал Викулов. — Кстати, она на меня не произвела особого впечатления. Этакая простенькая, с серым оттенком. И руки грубые. В общем купчиха, черная косточка.
Рубасов не стал возражать, лишь заметил, что, как ему показалось, у Ирины Стрюковой большая сила воли, чем она выгодно отличается от барышень, которых им приходится видеть хотя бы здесь, в Соляном городке. Он закурил, с удовольствием затянулся ароматным дымом сигары и, остановившись против Викулова, спросил:
— Ты интересуешься, почему Стрюковой столько внимания? Золото. Миллионы. Единственная наследница. Понимаешь?
— Златому тельцу поклонялись и древние, — не без иронии сказал Викулов.
— Как мне кажется, атаман метит выдать ее за своего отрока. Сегодня дважды звонил, спрашивал. Атамана, догадываюсь, тревожит завтрашний день. Да, да. Наше положение все-таки шаткое. Сейчас еще можно уехать за границу, но нужно золото. Без капитала человек повсюду — бедный родственник.
— Друг мой, к чему мрачные мысли? — спросил Викулов.
Лицо полковника исказила мимолетная судорога.
— Я с тобой откровенно... — сказал Рубасов. — Меня мучает вопрос: то ли мы делаем?
— Позволь, позволь, — прервал его Викулов.
Но Рубасов не стал слушать.
— А что, если через десять-двадцать лет нас со всеми нашими делами назовут... темной силой? А? Страшно.
— Это в тебе говорит усталость. Вот, даст бог, наступят ясные денечки, отдохнешь, и кислое настроение как рукой снимет.
Надя почему-то ждала, что вечеринка будет многолюдной и была приятно удивлена, когда увидела знакомых: подполковника Викулова, поручика Зубова и Виктора. Кроме них, здесь была еще женщина лет тридцати пяти, которую все звали Васеной. Крикливо одетая, с вызывающе обнаженными плечами, она почти не вынимала изо рта папиросы и, словно преднамеренно, не обращала на Надю внимания. Все же остальные, стоило появиться Наде в комнате, окружили ее; каждый старался сказать что-то приятное, ее засыпали вопросами о Петрограде, Южноуральске.
Надя отвечала немногословно, не скрывая, что у нее болит голова и что ей вообще нездоровится.
По тому, как обильно был уставлен стол закусками и бутылками, она поняла: здесь не голодают.
— Господа! — торжественно произнес Викулов. — Прошу к столу! — Он расшаркался перед Надей и, усадив ее на почетное место, заявил: — Сегодня мы у ваших ног! Господа, наполним бокалы!
— Сегодня за ваше счастье и здоровье мы будем пить до чертиков! — сказал поручик Зубов и жадно выпил бокал вина.
— Ну, как наш город? — спросил сидевший рядом с Надей Виктор.
— А я и не рассмотрела. Темно.
— Мы весь двор исколесили, — с готовностью вмешалась Оля. — Я даже речь произнесла, надгробную...
— Ходить трудно, повсюду оружие, пулеметы, штабеля ящиков, словно гора, — сказала Надя, умышленно оставив без внимания последние слова Оли. — Понравился мне порядок, на каждом шагу — пропуск.
Зубов снова поднял бокал.
— Выпьем, как вы изволили выразиться, за порядок!
— Господин полковник Рубасов знает в этом толк, — сказал Викулов. — Красным сюда доступ закрыт.
Надя поднялась.
— Господа, я предлагаю тост за тех сильных и смелых, которые мысленно с нами, хотя здесь их нет!
— За здоровье вашего жениха — господина Обручева! — прокричал Зубов и поднял бокал.
Надя насторожилась. Опять Обручев! Несколько минут назад она впервые услышала эту фамилию от Оли... Может быть, это и есть тот человек, который выдал Семена? Но где он там в отряде, какую личину надел? Вот что сейчас главное. Его называют женихом, значит, он жених Ирины Стрюковой? Как в данном случае поступить? Надя ждала чего угодно, но только не разговоров о женихе. Эти разговоры надо немедленно пресечь, ведь могут спросить у Нади о нем то, что каждая невеста должна знать о своем женихе, а она ничего не сможет ответить. Надо выкручиваться...
Надя слегка постучала колечком о бокал.
— Господа, — сказала она и обвела всех неторопливым взглядом. — Он мне не жених...
Откровенность ее смутила всех присутствующих.
— Но, позвольте... — удивился Зубов.
— Ирина Ивановна! Но молва... молва! — сказал Викулов.
— Молва — только и всего, — ответила Надя. — Знакомые. Я даже не знаю, где он сейчас... Правда, я все время жила в монастыре.
— Да он там, в Южноуральске, работает, и хорошо работает. За него стоит выпить, — сказал Викулов.
— Красные надолго запомнят студента Шестакова! — рассмеявшись, добавил Зубов.
— Шестакова?..
Наде показалось, что она ослышалась.
— Да, Сергея Шестакова, — весело подтвердил Зубов.
Перед Надей колыхнулась комната, все замелькало и поплыло куда-то. Она покачнулась и, чтобы не упасть, вцепилась руками в край стола.
— Ирина Ивановна, что с вами? — воскликнул Викулов, весело взглянув на Виктора, выражением смеющихся глаз показывая снисходительность тому, как не сильна на выпивку гостья.
А Олюшка обняла Надю за плечи.
— Вам нехорошо? Да? После вина? Может, дать воды?
Увидев готовые брызнуть из глаз Нади слезы, она удивленно сказала:
— Вы... плачете? Ирина Ивановна!
Молчавшая все время Васена, занятая, кажется, только вином, презрительно ухмыльнулась.
— Ни черта не понимают! — проронила она. — Тоже мне, люди!
— Господа, — сказала Надя сдавленным голосом, — знаете, господа, мне известно, что отца застрелил студент Шестаков, а это, значит... это, значит, был Обручев?
За столом наступило замешательство.
Страшное известие оглушило Надю, она с трудом сдерживалась, чтоб не разрыдаться от горя и обиды на себя. Ведь это от нее Шестаков узнал, куда едет Семен, значит, это она выдала Семена... Ей вспомнилось, как они оба зашли к ней в комнату, как потом Кобзин вызвал к себе Семена, а Шестаков стал расспрашивать ее, куда же собирается Маликов... Нет, сейчас плакать нельзя! Надо, чтоб эти ничего не заметили, ничего не заподозрили. Надо еще немного посидеть и уходить, чтобы... снова встретиться с Шестаковым-Обручевым.
При одной мысли, что Шестаков сейчас в штабе Кобзина, что он втерся комиссару в доверие и, стало быть, может натворить невесть каких бед, Наде захотелось сию же минуту бежать туда. И еще ей захотелось выхватить гранату и метнуть прямо на стол, чтоб ни одного не осталось из этих, кто радуется успехам Обручева.
Васена, слегка пошатываясь, подошла к Наде и, опустив руки на ее плечи, сказала:
— Ирина Ивановна, хватит, к чертям! Не надо киснуть.
— Я и не кисну, — ответила Надя. И подумала, что ей и действительно сейчас надо собрать все свои силы, и не выдать себя перед контрразведчиками, и не показать, что творится у нее на душе.
— В жизни действительно много грусти, — снова заговорила Васена. — Но мы вас развеселим. Зубов! — крикнула она. — Налейте! А ты, Оля, спой нам...
— Я с удовольствием, — поспешно согласилась Олюшка. — Мою любимую! — Она подала Виктору гитару и запела.
Изрядно подвыпивший Зубов подсел к Наде, хотел что-то сказать, но, увидев ее бокал, полный до краев, поднял его и заорал:
— Наша гостья не пьет! Господа! Бокал мадемуазель Стрюковой полон!
Надя молча взяла из его рук бокал, поставила на стол.
— Не обижайтесь, — сказала она. — Сегодня я не могу пить. — И, обращаясь ко всем мужчинам, спросила: — Господа, у кого есть папиросы?
Первым подал Виктор.
— Спасибо, — поблагодарила Надя. — Спички?
К ней снова подсела Оля.
— А вы и вправду, Ирина Ивановна, не тоскуйте.
Ее поддержала Васена.
— Ирина Ивановна, скажите, пожалуйста, вы долго были в женском батальоне смерти? — спросил Викулов.
— До его расформирования, — не задумываясь, ответила Надя.
— А убивать вам приходилось? — спросила Оля.
Надя медленно затянулась папиросным дымом и так же медленно, будто старательно подбирала каждое слово, сказала:
— Я помню, в одного штабс-капитана пять пуль всадила...
Викулов оторопело глянул на нее.
— В штабс-капитана? — переспросил он. — Он что же, был большевик?
— Нет, — неохотно ответила Надя. — Противно вспоминать. Дело в том, что и среди офицеров много подлецов.
— Браво, браво! — закричала Васена.
— Собрали девушек в батальон. Мы дали клятву: бороться за Россию. И не жалели жизни... А офицеры смотрели на нас, как на проституток. Вызывали к себе в номера... Как этот штабс-капитан...
— И вы его, значит, к праотцам? — хохотнув, спросил Викулов.
— Я, господа, ненавижу подлость.
— А вообще во врагов вам приходилось стрелять? — спросила Васена. — Сколько человек вы убили?
— Мало.
— А мне уже надоело расстреливать, — сказал Зубов. — Понимаете, надоело! Скучнейшая операция.
В комнату вошел полковник Рубасов. Виктор схватился за голову.
— Папа, я забыл пригласить к тебе Ирину Ивановну.
— Гора не идет к Магомету, Магомет пойдет к горе, — усмехнувшись, сказал Рубасов. — Господа, прошу отпустить на несколько минут мадемуазель Стрюкову. Прошу вас, поручик.
В кабинете Рубасов любезно пододвинул кресло.
— Располагайтесь.
Надя села. Села, думая о предстоящем разговоре. Каким он будет? Видимо, это и есть тот самый разговор, которого она ожидала.
Все же ей надо было уйти немного раньше, хотя бы двумя-тремя минутами раньше, и эта встреча не состоялась бы. Но об этом думать поздно.
— Грустите?
— Голова болит.
— Нервы. И рад бы помочь, но... — Рубасов развел руками. — О вас справлялся атаман.
Надя поблагодарила.
— Он просил узнать: вы решили остаться у нас, или уедете в Гурьев? Он советовал ехать туда. Просил дать охрану. Между прочим, атаман считает, что там больше возможностей для создания женского батальона.
— Я не знаю, что вам сказать. — Надя недовольно взглянула на Рубасова. — Скорее забирайте Южноуральск, я никуда не могу уехать отсюда, пока не будет в безопасности то, что оставил отец. Вы понимаете, всем богатством могут завладеть красные... Хотя бы из уважения к памяти отца... А вообще, скажу вам, господин полковник, до чего же противна эта собачья жизнь. Верите, мне иногда хочется выпить чего-нибудь и — ко всем чертям!
— Нет, нет, Ирина Ивановна, — стараясь успокоить ее, проговорил Рубасов. — Жизнью надо дорожить. Вы молоды, красивы, обеспечены.
Надя усмехнулась.
— Кстати сказать, господин полковник, я пока не собираюсь умирать. Я говорю: бывает такое настроение. Но если судьба предаст меня, я своей жизни дешево не отдам. — Надя достала из кармана гранату.
Рубасов отшатнулся.
— Граната?!
Распахнулась дверь, и в комнату вошел с охапкой дров Василий.
— Господин полковник, — нерешительно спросил он. — Можно дровишек в печку подкинуть?
— Да, да, — ответил Рубасов, не взглянув на него. — И получше истопи. Ночами опять морозит.
Василий стал возиться у печки.
Надя не могла понять, что случилось с Василием: она же видела, как он глянул на нее и тут же отвернулся, ничем не выдав, что узнал. Неужто и вправду одежда так изменила ее?
— Я не понимаю, Ирина Ивановна, зачем вам понадобилась граната, — спросил Рубасов.
— На черный день, — ответила Надя. — Вдруг попаду не в те руки?
— Ее же тяжело таскать! И не очень приятно. Да и вообще, вы здесь под такой охраной...
Рубасову не удалось закончить фразу. В комнату вошел вестовой и, козырнув, доложил:
— Господин полковник, к вам поручик Обручев.
— Обручев? — переспросил Рубасов. Он взглянул на Надю таким взглядом, словно хотел сказать, что решить этот вопрос может только она.
— Господин полковник, разрешите мне первой встретиться с ним... И... одной. Прошу вас! Я никогда вам этого доброго дела не забуду.
Рубасов спрятал улыбку и кивнул головой.
— Пусть будет так. Я вас понимаю, Ирина Ивановна. — И приказал вестовому: — Зови. А ты тоже — пошел! — крикнул он Василию.
— Я счас, я счас, — заторопился Василий.
Когда за Рубасовым закрылась дверь, Василий шагнул к Наде.
— Надька!
— Тише! — зашептала она.
— Тебя же убьют! Беги...
Надя торопливо зашептала:
— Желтую балку знаешь?
— Знаю. Совсем рядом.
— Вася, скачи туда. Скажи Кобзину, заморский гостинец здесь... И скажи еще: Шестаков, Шестаков! Беги, прощай.
Когда Василий вышел, Надя встала за шкаф. Она еще не знала, что произойдет здесь, но знала: чему-то быть, очень важному и страшному. В правую руку она взяла браунинг.
Ничего не подозревая, в кабинет вошел Обручев. Он был в той же одежде, в какой видела его Надя в Южноуральске. Перешагнув порог, он по-военному вытянулся, готовясь докладывать полковнику, но, не видя никого в комнате, удивленно оглянулся.
И тут появилась Надя.
— Обручев!
В какую-то долю мгновения Обручеву показалось, что перед ним Ирина в своем военном мундире.
— Ирина! — воскликнул он. В это время он увидел глаза Нади, увидел браунинг. Хотел что-то сказать, но не успел.
— На тебе, Шестаков! — шепотом проговорила Надя и два раза в упор выстрелила в него.
Обручев пошатнулся, упал на колени и завалился на бок.
В комнату вбежал Рубасов, и вся она тут же наполнилась людьми.
— Что? Что здесь? — закричал Рубасов. Увидев на полу распростертое тело Обручева, он уже более спокойно спросил: — Ирина Ивановна, что случилось?
У Нади подгибались колени, вздрагивала рука, державшая браунинг.
— Господин полковник, иначе я не могла поступить, — срывающимся голосом проговорила Надя. — Он убил самого дорогого для меня человека. Атаману я расскажу обо всем сама. Извините, я пойду.
Так, с браунингом в руке, Надя и ушла.
— Это же черт знает что! — бушевал Рубасов, и трудно было понять, что взбесило его: необычный поступок гостьи или то, что убийство совершено в его кабинете. — Врача! — приказал он.
— Сейчас будет, — ответил Викулов.
Виктор и Зубов уложили Обручева на диван.
Викулов взял его руку и стал щупать пульс.
— Ну, что? — спросил Рубасов.
— Кажется, жив.
А Надя в это время подошла к могиле Семена. Она немного постояла, потом взяла с холмика горсть земли, насыпала в платок...
— Сеня, единственный мой! Прости меня...
И торопливо зашагала к воротам крепости.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |