"Операция «Сближение»" - читать интересную книгу автора (Атанасов Герчо)
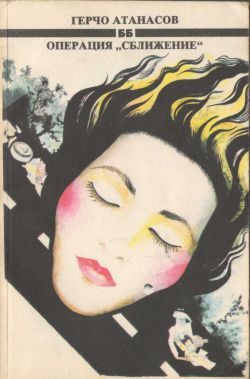 |
Герчо Атанасов Операция «Сближение»
Досев выпустил из ноздрей сигаретный дым, пристально наблюдая за своим подчиненным. Станчев, изложивший обстоятельства дела, с угнетенным видом ожидал суда начальства.
– Коля, – сказал полковник, – что-то здесь не так. Даже если это несчастный случай, след все равно должен быть. Эта Кушева из тех пташек, вокруг которых непременно кружит ястреб. Давно они знакомы с тренером? Как там его…
– Бадемов[1].
– Фамилия совсем как у опереточного злодея…
– Бадемов познакомился с ней недавно, ничего существенного он не знает.
– Ты уверен?
– Проверял его по нескольким каналам.
– А если он замешан, это „ничего", может статься, обернется „кое-чем", как ты считаешь?
– У Бадемова железное алиби – загранкомандировка. Когда он узнал о Кушевой, даже глаза выпучил. Кроме того, окружение, поведение до и после происшествия… Нет, мало вероятно…
– Тогда кто-нибудь другой, кого мы не подозреваем. Тайный дружок, а может, наоборот – сослуживец или родственник.
– Нет у нее родственников – единственный ребенок в семье. Сама из провинции, никаких дел, неприятностей, конфликтов. С коллегами поддерживала корректные, вежливые отношения.
– А с начальством?
– Пользовалась доверием, семь заграничных командировок, из них четыре – на Запад.
Досев перелистал доклад, одно место заложил закладкой.
– Ты согласен с тем, что Кушева была в машине не одна?
Станчев кивнул.
– Этот неизвестный… а возможно, неизвестная… Короче, этот „икс" – тертый калач, не оставил никаких видимых следов. – Досев подался вперед, и стул под ним затрещал. – Ну-ка пораскинем мозгами: кто мог оказаться в машине Кушевой в это время и в этом месте?
– Я уже прикидывал, Тодор. Если исключить тренера, остается два варианта: новый любовник, коллега или другой мужчина, быть может, кто-нибудь из начальства – это одно, а второе – просто деловая встреча. Пока я исключаю начальство и коллег по работе – поводов никаких.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну там, интимные влечения, интересы, расчет. В управлении с Кушевой считались, она вела себя независимо.
– Интересы, расчет… А ты не допускаешь, что именно здесь собака зарыта, особенно если учесть загранкомандировки?
– Я проверил всех, с кем она была в поездках, беседовал с ними. У меня нет никаких оснований их подозревать, к тому же они ничего странного не замечали.
– И ты считаешь, что этого достаточно?
– На данный момент – да. Впрочем, лишь на данный момент.
Эх, Коля, Коля, промолвил про себя, поморщившись, Досев, вслух же сказал:
– Говоришь, держалась независимо. При ее происхождении это интересно.
– Хочешь сказать, что это была поза?
– Может быть, и не только – к примеру, ширма.
– Ширма для чего? – не понял следователь.
– Именно для такого рода связей – скажем, с каким-нибудь начальством. Женщина – прирожденный актер, так-то, брат. Подцепит мужика с положением и изображает принципиальность и недоступность. Защитный рефлекс. А чувства порой переплетаются с интересами, не так ли?
– Согласен.
– И чем хитрее женщина и умнее любовник, тем больше они стараются подчеркнуть в своих взаимоотношениях эту принципиальность. Примеров тому – хоть отбавляй.
– Часто встречается и обратное, – заметил Станчев. Он чуть не проговорился о седовласом мужчине в темных очках, с которым Кушева, по всей вероятности, покупала картину в одном частном ателье, но все же сдержался: пока что эта версия непроработана. – Видишь ли, у нее было три непосредственных начальника. Я наблюдал за ними, расспрашивал, насколько это было возможно. Реагируют спокойно.
– А что заместитель… этот Балчев?
– Этот разведенный?
– Ты же сам говорил, что он любитель поволочиться за юбкой.
– Балчев зарвался…
Станчев тихо произнес одно имя, и Досев озадаченно поднял брови.
– И где они встречаются?
– В его квартирке, там есть укромный вход со двора.
– С каких же это пор?
– Создается впечатление, что его пассия сгорает от страсти, иначе не стала бы рисковать.
– Да-а-а… Разлюбезный „зам" и впрямь зарвался… Слушай, а если об этой интрижке пронюхала Кушева, намекнула, что может подняться шум, и дело дошло до объяснений и угроз?
– Насколько мне известно, Балчев, по натуре, ловелас. Такие не посягают на жизнь других, скорее сами становятся жертвами. Не вижу оснований решиться на такое.
– А желание сохранить в тайне связь, которой он так дорожит, раз идет на подобный риск?!
– Рискует его партнерша, а не он сам.
– И он, и он – ты это прекрасно знаешь.
– Нет, – решительно возразил Станчев, – это не то, поверь моему опыту.
Досев налил кофе из термоса.
– Опыт может и подвести, Коля. Балчева выпотрошишь основательно, это раз. Во-вторых, займешься остальными – Комитовым и этим, доходягой. Эта история не сводится к обычному флирту, поверь мне на слово. Тут замешаны крупные суммы, а может, и нечто большее… Кстати, как у Кушевой с благосостоянием?
– Квартира в центре, машина, пара картин, стерео-установка, цветной телевизор, бытовая техника – не предел мечтаний, но и не бедно.
– Аппаратура импортная?
Станчев кивнул.
– И картины, говоришь. Ценные?
– Не пустяк, – Станчеву снова вспомнился седой мужчина.
– А командировки?
– Все вроде в норме. Кушева – эксперт по медикаментам, сделками не занималась.
– Но выступала в роли консультанта?
– Выступала.
– Значит, зарубежные командировки, – Досев почесал за ухом. – Такой уж ценный специалист – эта Кушева?
– Изучала фармакологию.
– Языки?
– Немецкий, английский.
– Где учила?
– Немецкий в институте, английский на интенсивных курсах.
– Да-а-а, красивая молодая женщина, тщеславная, спец в фармакологии, языки, собственное гнездышко, картины, своя машина, на которой она сиганула в овраг, – классика… – Досев встал и принялся раскачиваться, как медведь перед пчелиным ульем. – Тут что-то не так, брат, чего-то не хватает… У этой Кушевой был доступ к секретным документам?
– Нет, но ей было известно о некоторых наших производствах.
– Точнее?
Станчев подал справку.
– Не могу сориентироваться, – сказал Досев, просмотрев ее. – Есть среди них секретные?
– По словам знающих людей, нет.
– Были ли у нее какие-либо личные связи в лабораториях и на заводах?
– На заводах она появлялась редко, а вот в лабораториях есть знакомые.
– Характер и уровень знакомств?
– С лаборантами.
– А в секретных отделениях?
– Там у нее были соученицы, я их расспрашивал.
– И что же?
– Случайные встречи, разговоры на общие темы, интерес к их работе не проявляла.
– Странно.
– И вправду немного странно.
Досев развел руками.
– Наконец-то и тебе что-то показалось подозрительным!
– Причем тут подозрение, – следователь почувствовал себя уязвленным. – Скорее всего Кушева не была таким уж спецом, каким ее считали.
– А если она умышленно не выпячивала своих знаний?
– Сомневаюсь. Она никогда не работала ни на предприятиях, ни в лабораториях. Из института сразу попала в аптеку, оттуда – в торговлю.
– Использовала связи?
– Похоже, что так.
– Это очень важно, Коля! Кто ее протолкнул во внешнюю торговлю? Это узелок. Можешь его развязать?
– Осталось выяснить кое-какие подробности, – промямлил Станчев.
– Второй пробел.
– Почему второй?
– Балчев – раз, выездные дела Кушевой – два.
– Насчет Балчева позволь не согласиться.
Досев посмотрел на циферблат своих электронных часов, бросил взгляд на свою старенькую „симу" и Станчев.
– Спорить не будем, тем более, что спор – прерогатива начальства, так ведь? – пошутил Досев. – Кое-что сделано, но время не терпит. Так что давай, жми на всю катушку, можешь востребовать подмогу, но эти два узелка ты мне развяжи. Ясно?
Станчев кивнул.
– Уясни себе, в тот вечер в машине был еще один человек – как минимум. Из окружения Кушевой. Признаю, он хитер, пальчиков нигде не оставил, но он там был. И по его вине машина полетела под откос. В отличие от тебя я в этом почти уверен.
– Пока я воздержусь от категорических утверждений.
– Я тоже, Коля.
Досев поднялся, тем самым давая знак, что беседа окончена. Встал и Станчев – худенький, побледневший, странно подвертывающий левую ногу – с давних пор следователь хромал.
– Этот браслет, – промолвил он, – почему-то не выходит у меня из головы.
– Авось, он еще поведает нам что-то ценное, – подвел черту Досев.
Придя домой, Никола Станчев почувствовал знакомую боль в лодыжке – в двух из учреждений, которые ему пришлось посетить, не работали лифты, а потом ему пришлось выстоять длинную очередь за овощами. Сейчас состряпаем горнооряховскую лютеницу[2] – хрустящая мякоть перца, помидоры, лавровый лист, две дольки чеснока и, наконец, щепотка красного перца и пучок свежей петрушки – пальчики оближешь, прикидывал он, поднимаясь по лестнице. Станчев жил на втором этаже, в двухкомнатной квартире. Дом был послевоенный, добротной кладки, с толстыми стенами и массивными оконными рамами. Окна комнат выходили во внутренний дворик, одну он переоборудовал в кабинет, там и разместил библиотеку – книжный шкаф занимал всю стену. После смерти жены он перебрался в эту комнату, а в спальне осталась дочь – студентка экономического института.
Пока он открывал входную дверь, послышался голос Петранки, унаследовавшей от него светлые глаза, а от матери – каштановые волосы и острый язык: па-пан, услышала тебя еще из ванной. Сколько раз повернул ключ?.. Три раза, ответил Никола, передавая ей полные авоськи. Петранка выгнула свой молодой стан и порывисто чмокнула его в висок. А я опять насчитала четыре. Ты не обижаешься?
Он обижался, хотя уже свыкся с упреками и шутками по поводу своей медлительности, которые ему приходилось выслушивать ото всех, начиная с жены – Жечки и Петранки и кончая начальством.
Эта медлительность досталась ему в наследство по материнской линии, чей род получил прозвище Ежиковых. Никола помнил своего деда Стоила. То был человек-скала – рассудительный, но медлительный донельзя. Ходил он враскачку, как говаривали в селе: шаг одной ногой, передышка, шаг другой. А в это время работала его голова, мысль текла неторопливая, но веская, как он сам. Дед Стоил побывал на двух войнах, палил из пушки, короткоствольной гаубицы, которая – это он сам рассказывал – гремела в два раза реже соседних по позиции, но все с точным попаданием, так что счет был равный. Однажды, рассказывал, башку нам заморочили, мы и отстали, а как добрались до позиций, сражение уже кончилось. Мы-таки пальнули в воздух для порядку да случайно и накрыли противника, тут завязался новый бой, удивлению конца и краю не было: кто, откуда ведет пальбу…
Поутру, перед тем как запрячь коней, дед Стоил по меньшей мере раз двадцать обходил двор – от печей к хлеву, оттуда на сеновал, заглянет под навес, потом опять в хлев, и пошло-поехало по кругу – погреб, амбар, снова хлев, печи, нужник, чешма[3] и так далее. Пока, наконец, не нагружал телегу, запрягал лошадей и под нервный зудеж бабы Боряны не огревал кнутом конские спины: эге-гей…
В поле выбирался на час позже всех остальных, соседи уже пахали или жали, но дед Стоил не больно тревожился: он знал, что его плуг уходит в землю чуток глубже, чем у других, что снопы у него тяжелее соседских и что пшеница погуще и почище. Эх, конечно, было так не всегда и не во всем. В селе были и такие хозяева, с которыми он мог состязаться, да не хотел. Я, говаривал, с ними тягаться не намерен, они бегут наперегонки со временем. А вот болтунов я своими ежовыми шажками обставлю без труда…
Дед, а дед, спрашивал маленький Никола, а верно, что нас прозвали Ежиковыми?.. А коли и верно, мой мальчик, что в том плохого? Еж хоть и неуклюж и медлителен, а ловит змей и ласок прихватывает, потому как тут, и он стучал пальцем по лбу, у него прыткий ум, дедово наследство… И он нежно опускал свою тяжелую ладонь на детское плечо: что ни говори, а любил он своего неторопкого внука, как он ласково величал Николу – люди мы с тобой степенные, Кольчо, и пугаться того не стоит, жизнь всему научит, а спешка нам ни к чему. Скорый поспех – людям на смех, известно тебе?..
Дед Стоил неторопливо скручивал цигарку, выбирал подходящую спичку и только тогда чиркал ею. Какой бы ветер ни дул, какой бы проливной дождь ни валил, всегда прикуривал от первой, единственной. Да и на тот свет он отправился не спеша, казалось, смерть задержалась у какого-то другого Стоила, а старик переполз через восьмидесятилетний рубеж, уже больной и изможденный, но не сдававший своих позиций. Вот, кряхтел он с лукавой гримасой, и костлявая тоже ко мне не торопится, дает подготовиться к тому свету, а где он и как там – поди-знай, эхе-хе… Ноги уж не держат, чую, что к полуночи постучусь во врата святого Петра…
– Что с тобой, ты не болен? – оторвала его от раздумий появившаяся в прихожей Петранка.
Никола с благодарностью поглядел на дочку – лишь голос любящего человека может звучать с такой неподдельной тревогой. И они отправились на кухню готовить ужин. Никола занялся горнооряховской лютеницей. В соответствии с послевоенными строительными нормами кухня была просторной, всему нашлось место, даже удалось впихнуть сюда кушетку – райское место для отдыха, пропитанное домашними запахами стряпни, приправ и свежих фруктов. Оба они любили эти часы, когда в домашней суете завязывался разговор. Петранка рассказывала о событиях минувшего дня, Никола слушал и скупо вставлял реплики. Он редко расслаблялся и вдавался в подробности, связанные c его работой, людскими характерами и поведением, которые не встретишь каждый день. Постепенно, со взрослением, Петранка стала реже задавать свои сугубо „женские" вопросы, отдавая предпочтение другим, которые она не без добродушной иронии называла „мужскими". Причиной тому была ее учеба, дружба с одним пареньком и общение с отцовской библиотекой.
– Папа, – подхватила она, надевая пестрый, веселенький фартук, – ты, случайно, не борец за качество?
Никола резал перец узкими продолговатыми дольками.
– Дома или на работе?
– На работе. Какой ты дома, я знаю.
– А почему ты спрашиваешь?
– Повсюду только и трубят о качестве, вот я и решила взять интервью. А что, нельзя?
Станчев потрогал пальцем острие, вытащил оселок и принялся тщательно точить нож.
– Неважнецкие дела мои, Петруш.
– Что так?
– Видно, на большее не способен.
– Минуту внимания: ты веришь в человека?
Станчев продолжал точить нож и в один момент чуть было не затупил его.
– Почему бы ему не верить?
– Я имею в виду: веришь ли ты в его природу?
– А какая у него природа?
– Я считаю, что двойственная.
Станчев исподлобья взглянул на дочку.
– И когда же это ты проникла в его природу?
– Еще в школе…
– И с тех пор ты вся такая двойственная?
– Папа, я серьезно…
– Трудные вопросы задаешь, Петруш… Если бы не верил в человека, зачем бы я стал возиться с расследованием? Состряпал бы на него обвинительное заключение и перекинул дело прокурору. Человек рождается невинным, девочка моя, отсюда все начинается.
– Всегда удивлялась твоей профессии… Как случилось, что ты ее выбрал?
И в самом деле, как это случилось, спросил себя Станчев. Вспомнилась адвокатура после университета, запутанное дело с пирожками, он защищал подсудимого, пекаря. Все улики были налицо, все было против этого белобрысого мастера, и тот сам никак не мог справиться с изначальным шоком, в течение всего следствия и на суде обвинение словно впивалось ему в глотку и делало его беспомощным. Он не отрицал своей вины, а просто глядел на судей отсутствующим взором – не мог ничем объяснить систематической недостачи пирожков, числившихся по накладным, под которыми стояла его подпись. Постепенно Станчев поверил: этот человек и вправду не подозревает, что чья-то ловкая рука годами действовала за его доверчивой спиной. И несмотря на то, что дома у него не было обнаружено никаких денег, драгоценностей, признаков обогащения из тайных источников, несмотря на показания свидетелей и соседей, пекарь был осужден. Никогда не забыть, как он схватился за голову своими белыми, уже по-старчески жилистыми руками и так и вышел из зала. В тот миг, да, именно в тот миг, в Станчеве проснулся следователь: он потратил почти год, но все же докопался до подложных счетов, бухгалтерша из управления заняла место пекаря в тюрьме…
– Выбрал ее для меня один пирожник, Петруш, давнее это дело.
– Ты мне расскажешь?
Станчев поведал ей историю, опустив упоминание о двух ортопедических операциях, на которые он пошел, узнав, что из-за травмы лодыжки его не примут на следовательскую работу. Операция была сопряжена с немалым риском, хирурги долго колебались, разглядывая рентгеновские снимки, но Станчев настоял на своем и лег на операционный стол. К счастью, вторая попытка, которая, в сущности, могла погубить ногу окончательно, оказалась успешной. Радость его была неописуемой! Проверяя работу хирургов, он ходил часами: то быстро, чуть ли не переходя на бег трусцой, то медленно, прогулочным шагом. Заглядывался на свое отражение в зеркалах, в витринах, ходил на лечебную гимнастику, шагал, шагал, а по ночам просыпался в поту, когда в неукротимые сны кошмаром врывалась хромота. Но по-настоящему он переволновался, переступив порог отчего дома: он не писал родителям об операциях, но когда левая нога стала полностью ему подчиняться, решил ошарашить стариков. И чуть было не загнал мать в гроб. Бедная женщина стирала белье во дворе и глазам своим не поверила: ее сын, как в сказке, подскакивал, присаживался на корточки, неожиданно срывался с места, умышленно делая опорной левую ногу. Сдавленно вскрикнув, мать стала оседать, цепляясь за веревку с бельем, на большее не хватило сил…
Лет через двадцать, в недобрый час он поскользнулся, что-то в лодыжке снова хрустнуло, его пронзила невыносимая боль, после чего Станчев снова стал слегка волочить левую ногу. „Пора на пенсию, Жечка", – мысленно пожаловался он жене, проклиная себя за неосторожность…
– Но ведь такое случается довольно редко, а папа? – сказала Петранка, заметив внезапную задумчивость отца. – Ведь преступники и преступления были всегда, неужели тебе не приходилось разочаровываться в людях?
Чтобы разочаровываться, надо сначала уметь очаровываться, подумал Станчев, возвращаясь из далекого мира воспоминаний. А я никогда не был особо очарован людьми – просто принимал их такими, какие они есть. Но вряд ли стоит говорить об этом Петранке, рано еще.
– Будь я поэтом или кем-нибудь в этом роде, возможно, это и случилось бы, Петруш. Но я юрист, обыкновенный человек с обыкновенным уровнем восприимчивости, и степень моих разочарований уже давно отрегулирована. В противном случае мне уже сто раз следовало бы бросить свое ремесло.
– Я не считаю, что у тебя средняя восприимчивость, – с неожиданной ноткой ревности возразила Петранка.
– Не потому ли, что я твой отец?
– Папа… хочешь, я скажу тебе что-то смешное?
Она заглянула ему прямо в глаза.
– Папа, ты – тонко чувствующий и начитанный, и опытный, и к тому же верующий.
Станчев вздрогнул – выстрел попал точно в цель. В школе товарищи кликали его немного насмешливо, немного снисходительно – Никста. По первым буквам имени и фамилии. Эй, Никста, звали они, давай-ка смоемся с математики!.. Он не убегал с уроков, хотя в математике был не больно силен. Не то чтобы он боялся, просто считал бегство чем-то недостойным – надо было изобретать предлог, врать, а это было противно. Вот соученики его, те не лезли за словом в карман. У одного прорвало трубу и дома потоп, у другого тетка вывихнула ногу, и ее отвезли в военный госпиталь, у третьего привезли дрова и некому разгрузить – фантазия работала вовсю, а кто пойдет проверять трубы, дрова и теток… Что ему сегодня говорил Досев о Балчеве? Что, возможно, у того был роман с Кушевой и она закатила ему истерику, дознавшись о своей преемнице, тут он и… Черт, это ему не приходило в голову – возможная двойная связь Балчева. А Досеву пришло, ведь он подозревает всех и каждого, просто у него воображение работает в этом направлении. А воображение может творить чудеса, оно может позволить тебе почувствовать себя богом или преступником, царем или пастухом. Но Досев таким уж уродился, а я вот верю…
Станчев остановил машину на узкой улочке, неподалеку от ветхой пирожковой. Глинобитный, слегка перекошенный дом опирался на тротуар кривыми ступеньками лестницы, помещение с облупившимися стенами, вытертым, шероховатым полом, но лишь здесь, в центре столицы, все еще пекли вкусные, как в старое доброе время, пончики. Вспомнив детство, когда мать пекла блины, Станчев зашел в пирожковую и купил пару остывших, размякших, пресных пончиков. Он не был голоден, но проглотил их с удовольствием. Запахло свежемолотой пшеницей, и на него повеяло давним деревенским детством, в памяти всплыли ребячьи шалости на берегу реки, неожиданно сломавшаяся ивовая ветка, на которую он вскарабкался, чтобы прыгнуть в воду. Тогда-то и хрустнуло что-то в лодыжке, затем долгие годы он волочил ногу…
Улочка была узкая, по обеим сторонам росли деревья, – каштаны и аккуратно подстриженные акации – за которыми прятались старые особняки и новые компактные кооперативные жилища с гаражами на первых этажах. Вот здесь-то и проживал Балчев более десяти лет.
Следователь прошагал по неровному, с выбоинами, тротуару, нашел нужный номер и оглядел здание: хорошо сохранившаяся довоенная постройка с аккуратными эркерами на втором этаже и разрушающимся фризом над окнами. Недурно, сказал он про себя, тихо, уютно, к тому же в самом центре. Не хуже было и новое жилье Балчева в районе Лозенец[4] – у него явно губа не дура.
Метрах в пятидесяти за углом, тоже в старом здании, находилась аптека, в которой в свое время работала Кушева. Это открытие Станчев сделал лишь на днях, после тщательного изучения досье Балчева. Такое соседство казалось не случайным, хотя всякое могло быть. Интересно, знала ли что-нибудь об этом директорша аптеки, пожилая женщина с тяжелым пучком волос на затылке, и если знала, то почему ничего не сказала ему во время их первой беседы… Во всяком случае, с неудовольствием подумал Станчев, внимательно смотря себе под ноги, чтобы не споткнуться, начальство правильно пошерстило меня из-за этого Балчева. Действительно, слишком уж я простодушен, вернее, наивен, подумал он, ощутив усталость. Дважды он встречался с инженером, и оба раза тот показался ему откровенным, спокойным, более того – в его синих глазах читалось сожаление о Кушевой, смешанное с каким-то ощущением чуть ли не отцовского превосходства – молодая, зеленая, запуталась в сетях жизни, не подозревая, чем все может обернуться. А эта тайная связь? Она приоткрывала другой образ Балчева, которому подобная двойственность совсем не была в тягость. И, видимо, никак его не сковывала. Ну да посмотрим…
И Станчев направился к аптеке.
Завидев его, директорша кивнула своей помощнице, а затем провела его в маленькую комнатку, служившую одновременно и лабораторией, и кабинетом.
– Проходите, что вас снова привело к нам? Выяснились какие-нибудь новые обстоятельства?
Станчев сделал вид, что не расслышал ее, но вопрос взял на заметку – в нем чувствовался повышенный интерес. По привычке окинул взглядом тесную каморку – все было на своем месте, на стене висел календарь Фармахима[5], рядом стояли весы с бронзовыми украшениями, над маленьким столиком на леске была подвешена шариковая ручка в виде клоуна.
– Товарищ Ванева, – начал он, присев (в чужом месте он всегда присаживался на краешек стула), – что вы можете мне сказать о Симеоне Балчеве?
Женщина вздрогнула от неожиданности.
– Каком Балчеве… погодите…
– Инженере Балчеве, вашем соседе по улице.
– Ах да… Из двадцать третьего дома?
– Совершенно верно.
– Но он уже несколько лет не живет здесь.
– Значит, вы хорошо его знаете.
Ванева на мгновенье задумалась.
– Я бы не сказала, что хорошо… Мы знакомы.
– Вы часто видитесь?
– С чего бы это вдруг?
– Но вы все-таки встречали его?
– Ну да, он заходил за лекарствами.
– И это все?
– Да, а в чем дело?
Надо ее ошарашить, что ж рискнем, решил Станчев.
– А с Кушевой он здесь познакомился?
Ванева вздрогнула во второй раз, и Станчев убедился, что его догадка оказалась верной.
– Да, здесь.
– Когда и как это произошло?
Увядшее лицо женщины слегка побледнело: тонкий, легкий налет бледности выдавал такое же легкое смущение, сопутствующее сокрытию чужих тайн.
– Анетта поступила к нам осенью, в начале октября, а познакомились они перед Новым годом, – начала она заупокойным голосом.
Балчев зашел за каким-то лекарством, они взглянули друг на друга, и какая-то искорка проскочила между ними, – так впоследствии рассказывала Анетта – потом слово за слово, Балчев, производивший такое приятное впечатление, все-таки скрыл, что женат, но как бы невзначай сообщил, где и кем работает – тогда он, кажется, был директором какой-то конторы. В свою очередь Анетта – был у нее нюх на такие дела – почуяла выгоду, нет, погодите, это было позже, сначала они просто приглянулись друг другу, ведь бывает же такое? Меня-то в день их знакомства в аптеке не было, и я ни о чем не ведала. Вот когда он стал частенько названивать ей по телефону да встречать ее после работы, тогда Ани мне и сообщила, что за ней ухаживает один интересный мужчина, инженер-химик – ходили они в кино, по ресторанам, катались на его машине – вы же знаете, сейчас молодые быстро переступают границу дозволенного…
– И как долго это продолжалось?
– Почти полгода. Пока Балчев не затеял развод.
– Из-за Кушевой?
– Думаю, что решение пришло к нему раньше.
– И что произошло после развода?
– После развода Балчев съехал с квартиры, там остались жена с ребенком. Он же перебрался куда-то в Лозенец.
– Это вам сообщила Анетта?
– Да, их роман продолжался, Ани даже порядком увлеклась и поговаривала о замужестве, но потом поняла, что дело не выгорит.
– Почему?
– Как вам сказать… Балчев не больно жаждал, да и она уже убедилась, что на его постоянство рассчитывать не приходится – застала его раз с какой-то бабенкой.
– Вам известно ее имя?
– Откуда? Сама Ани не знала, и это выводило ее из себя.
– Значит, Кушева была влюблена?
– Сначала – да, но потом… Ани была хорошенькая, моложе его, любила пофлиртовать, вообще любила эти игры.
– У нее были мужчины до Балчева?
– А вы как думаете…
– Вам о них что-нибудь известно?
– Нет, видела только одного. Кажется, он был архитектором. Заходил иногда за ней в аптеку.
– Это продолжалось долго?
– После того, как появился Балчев, я его уже не видала.
Больше Ванева ничего не могла сказать ни об архитекторе, ни о других поклонниках Кушевой. Лишь добавила, что Анетта как-то раз жаловалась, что ее преследуют по телефону. Станчев почувствовал, что здесь у него вышла осечка, и хотел было закурить, но сдержался.
– Было бы очень здорово, если бы вы помогли мне выйти на след этого молодого человека. Это очень важно.
– Я же сказала, что не знаю, ни как его звать, ни откуда он, ни где работает.
– А вы бы узнали его при встрече?
– Возможно…
– Как вы считаете, Анетта была всерьез напугана телефонными звонками или просто притворялась?
– Ани не была притворщицей, у нее всегда была душа нараспашку.
– В каком смысле?
– Просто не строила из себя недотрогу.
– Современная свободная женщина?
– Была свободной до… беременности.
– От Балчева?
– От него.
– Когда?
– Весной. Тогда что-то в ней переменилось.
– Что именно?
– Она тяжело переживала то, что он настаивал на аборте.
– Постойте, постойте… С одной стороны, скоротечная страсть и охлаждение, а с другой – переживания по поводу аборта. Небольшое противоречие…
– Никакого противоречия нет. До аборта она была влюблена и хотела, чтобы они поженились, а после…
– Но ведь уже появилась другая женщина, и это причиняло Анетте боль…
– Женщина появилась как раз во время беременности, эти два события совпали.
– Вы считаете это случайностью?
– Товарищ Станчев, я не была настолько близка с Ани. Мне кажется, что как раз беременность была случайностью, а для Балчева даже неожиданностью. Впрочем, это обычная ситуация для всех мужчин.
Станчев закурил.
– Хорошо, а как вы объясните переход Анетты на новую работу? К тому же под руководством Балчева. Это он ее пристроил?
– Да, в порядке компенсации.
– Вы полагаете, их связь прекратилась?
Аптекарша пожала плечами.
– Поначалу Ани заглядывала ко мне, делилась впечатлениями о новой работе, но ни разу не касалась своих личных дел.
– Почему такой резкий поворот, не доверяла вам?
– Доверять-то доверяла, но, похоже, она затаила злобу на Балчева – тогда она уже называла его „шеф".
– А как она обращалась к вам, работая в аптеке?
– Не помню, чтобы она пользовалась подобным обращением.
– А потом она перестала вас навещать?
– Перестала. Я даже потеряла ее из виду. Но это естественно.
– И больше вы не встречались?
– Пару раз, на улице, совсем случайно, – Ванева машинально поправила свою прическу. – Она очень изменилась.
– В чем выражались эти перемены?
– Как бы вам сказать, она мне показалась более сдержанной, говорила, что работа у нее серьезная – сделки, иностранцы, проверки, приходится держать ухо востро…
– А что – Балчев?
– Упоминала о нем как о шефе.
– Скажите, а как специалист Анетта чего-то стоила?
– Я, кажется, уже говорила вам – несмотря на молодость, у Анетты была солидная подготовка.
– Как сочетались ее деловые качества с характером?
– Каким характером?
– Ну, немного легкомысленным, слегка поверхностным…
– Поймите, нельзя сказать, что Ани была легкомысленной. Тщеславной – это да. Она позволяла себе вольности в личной жизни, но всегда оставалась верной своим планам, стремилась двигаться вперед. Упрекала меня, что я могу торчать всю жизнь в этой дыре, жить на мизерную зарплату, в ожидании жалкой пенсии.
– Вы говорили с ней даже о пенсии?
– Ани считала, что так жить невозможно. Она, мол, придумает что-нибудь, чтобы выкрутиться из этого положения.
Станчев запомнил это выражение.
– Говорила, буду атаковать по двум линиям – по профессиональной и по мужской, где-то да выгорит.
Станчев отметил и это выражение.
– Значит, вы допускаете, что она могла намеренно подцепить на крючок Балчева, разыграть историю с беременностью, а потом прижать его к стенке?
– Не так грубо – я же вам говорила, что она была влюблена, даже плакалась мне. Но потом все изменилось. Хотя…
– Говорите, говорите!
– Как бы выразиться – Ани была непростой девушкой, что-то в ней было особенное, чего она не выставляла напоказ.
– Что вам дает право так судить?
– Интуиция. Я уже говорила, что у нее было фармацевтическое образование, она следила за литературой, начала учить английский, владела немецким.
– Еще один вопрос. Как она реагировала на политические события?
– Как, как… Одно одобряла, другое нет, по-разному. Чаще одобряла.
– А что не одобряла?
Аптекарша бросила на него косой взгляд.
– То же, что и мы с вами, товарищ Станчев. Ани не была дурой.
Станчев поднялся и на прощание спросил:
– Товарищ Ванева, только одно мне осталось не ясно: почему во время нашей первой беседы вы не сообщили мне столько важных вещей?
– Нетрудно догадаться – не хотела встревать.
Станчев медленно шел по тротуару. Итак, Симеон Балчев – заместитель генерального директора и местный донжуан – серьезно рискует, последняя связь может основательно подпортить ему карьеру. Да-а-а, у начальства острый нюх, тут есть в чем покопаться. Самое главное, что этот Балчев не из перестраховщиков, а раз он не бережется, значит, способен на крайности, увлекается, рискует. В беседах же держится спокойно. Случайная фигура или игрок? Досье его в порядке: комсомольский деятель в институте, надежное происхождение, стажировка в цехах и конторах, рано вступил в партию, ему доверяют. На Станчева произвело впечатление, что слово „доверие" часто встречалось в различных документах, касающихся Балчева. Оставалось только выяснить: он внушал доверие сразу же или завоевывал его. Очень важный вопрос.
Он-то и заставил Станчева искать встречи с генеральным директором. Встретились они в маленьком кафе, за угловым, служебным столиком. Чувствовалось, что Комитов не в духе, но все же сдерживается. Слушая следователя, он морщился, покачивал седой головой, но оставался учтив. Зная, что Комитов не особенно дружен со своим заместителем, Станчев поведал ему о похождениях Балчева, естественно не затрагивая последней его связи, и попросил рассказать о подробностях поступления к ним на работу Кушевой. В ответ он услышал следующее: у них появилось место фармацевта, Балчев сказал Комитову, что знает Кушеву и рекомендует ее, нет, нет, он не настаивал, но Комитов сообразил, вернее почувствовал, что у него рыльце в пушку, но не придал этому значения – сейчас бы он, конечно, поступил иначе – а тогда результаты проверки Кушевой оказались положительными, и ее назначили. Станчев поинтересовался его нынешней оценкой взаимоотношений Балчева и Кушевой. Ходатайство по личным мотивам, не более того, ответил генеральный… Хорошо, а эти личные мотивы давали о себе знать позднее?.. Ни он, Комитов, ни коллектив ничего не почувствовали. Конечно, он замечал, что они вместе пьют кофе в буфете, разговаривают в коридоре, но это нормально. Балчев – красавец-мужчина, за словом в карман не лезет, умеет общаться. Да и сказать по правде, личная жизнь – это дело каждого, человек – не солнце, чтобы светить всем вокруг, да и смысла в этом мало…
И этот, наверно, оставляет свою машину на одной из глухих улочек, подумал Станчев, но потом заколебался – зачем же рубить сплеча. Он поинтересовался и тем, делал ли Балчев что-то специально для Кушевой, проявлял ли заступничество, покровительство, пытался ли помочь в продвижении по службе. В очередной раз отхлебнув водки, Комитов ответил, что Кушева не была в его непосредственном подчинении, он плохо помнит, может быть, влияние Балчева и сказалось при ее первом оформлении на Запад. По соцстранам она ездила, а Балчев предложил послать ее и к капиталистам, В составе делегации, разумеется. Станчев знал, что Анетта не ездила за границу вместе с Балчевым, но последняя подробность была ему неизвестна. Как объясняет это товарищ Комитов? Генеральный не видел в лом ничего предосудительного, это, собственно, обычная практика. К тому же, Кушева оправдала доверие – все ее командировки были признаны успешными. А Балчев?.. Балчев к поездкам непосредственного отношения не имел, возможно, ему было просто приятно, что его протеже идет в гору…
Оба помолчали, уставившись в свои рюмки. И явно разогревшись в ходе разговора, Комитов не выдержал:
– Товарищ Станчев. – просопел он, сдвинув свои мохнатые брови, – второй раз слушаю вас и думаю, что вы на ошибочном пути… С Симеоном я проработал годы, дверь в дверь. Мы не друзья, он мне никто, но я его знаю, и ему можно доверять.
– Я его не подозреваю, – встрепенулся Станчев. – Я просто ищу…
– Но почему именно Балчев?
– Не только он, разумеется. Плохо то, что Кушева была от него беременна.
Комитов поднял брови, сомкнул их, подобно крыльям пикирующей птицы, и снова расправил.
– Это точно?
Станчев кивнул.
– И что, аборт?
– Аборт. Далее отношения их не ясны. Комитов поднял рюмку и заглянул в нее.
– Это неожиданность для меня. Симеон не мальчик…
– Да и Кушева не шестнадцатилетняя. И она хотела оставить ребенка.
– Вступить в брак?
– Да, выйти замуж.
Комитов снова засопел.
– Погибнуть беременной… погоди, погоди, – по привычке начальство перешло на „ты". – Когда она сделала аборт?
– Перед тем, как случилось несчастье, но это ничего не меняет.
– Да нет, меняет, только…
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что если бы она решила прижать его по-настоящему, то она бы подождала с абортом.
– Она могла прозевать срок. Комитов поморщился.
– Вы что, серьезно его подозреваете?
– Товарищ Комитов, я не люблю этого слова. Я же вам сказал – мы ищем. Если не считать ее прежних девичьих увлечений, то нам известна лишь эта ее серьезная связь – других сигналов ни по личной, ни по служебной линии не имеется.
– Что значит – по служебной? – ощетинился Комитов.
– Вспомните наш первый разговор – я имею в виду возможные связи за границей, что-то в этом роде.
– Думаю, что вряд ли… – Комитов сделал паузу. – Прости, давай перейдем на „ты", так будет удобней. Скажи мне на милость: на кой черт Симеону впутываться в такую грязную историю – он развелся, у него есть ребенок, свобода, положение, ему доверяют. Что, он не мог справиться с этой Кушевой? Чем она могла ему пригрозить – устроить публичный скандал?.. Ты же знаешь, женщины понимают, что это гиблый номер, они не питают иллюзий на сей счет и не лезут на рожон. Скажу тебе еще, что Кушева – хотя я ее знал слишком бегло – не производила впечатления наивной девочки.
– Что и осложняет ситуацию.
– Это почему же?
– Ведь она не была наивной девочкой.
– Я сказал – не производила впечатления.
– Комитов, – отчеканил следователь, – мы не обнаружили следов убийства, но того, кто довел ее до самоубийства, тоже по головке не погладят. Если Кушева действительно покончила с собой, дело приобретает несколько другой оборот.
Генеральный пожал плечами.
– Я в следствие не суюсь и никому адвокатом быть не намерен. Вы свое дело знаете.
– Должны знать, – отрезал Станчев, и на этом беседа окончилась. Комитов еще раз пообещал сохранить их разговор в тайне, и если потребуется – хотя лучше бы обойтись без этого – оказать посильное содействие следствию.
В своей неброской жизни Станчев был склонен скорее поддерживать знакомства, нежели завязывать дружеские отношения. Этим он был обязан раннему уходу в себя как раз после того злополучного падения в детстве, когда человек больше всего предрасположен к спонтанным, может быть, наиболее бескорыстным контактам с окружающими. Травма лодыжки моментально исключила его из круга игр и шалостей, походов и поездок, а в гимназии и в университете ухаживания за девушками, шумные забавы и развлечения для него были заказаны. В душе еще не затянулась рана от воспоминания о первом и, пожалуй, последнем в жизни танце с одной ученицей с косичками, чье имя уже давно забылось, равно как и остальные подробности выпускного бала. Он тогда сидел на краешке стула и сперва не сообразил, что его приглашают на танец, подумал, что его о чем-то спрашивают, затем покраснел до ушей, после чего начался полный кошмар: вальс подхватывал его откуда-то снизу, на секунды отрывал от пола, он чувствовал, что летит, невесомый, без всяких опор, а нужно было приземлиться именно на поврежденную ногу, удержаться самому и удержать свою статную партнершу, чтобы затем вместе с ней, следуя инерции тел, описать дугу. Девочка быстро поняла свою ошибку, но не решалась прекратить танец, напротив, она старалась не замечать его мученических потуг, нелепого выброса ноги как раз в момент этого прелестного приземления, ласкового касания пола после наивной, но волнующей попытки их тел преодолеть земное притяжение. Вцепившись в ее торс, задыхаясь и проклиная все и вся, он думал лишь об одном – как бы сохранить равновесие и не повалить свою партнершу на пол.
Но именно это и случилось: при перемене направления движения ее невнимание и его робость сыграли с ними злую шутку, первым шлепнулся он, а затем рухнула и она. Он помнил, как его подняли по-мужски сильные руки, помнил лицо его соученика по прозвищу Визирь – красивого, подтянутого и уверенного в себе парня, любимца школьниц и молоденьких учительниц.
Свободное от занятий время он в основном проводил в одиночестве – над учебниками, чаще всего в городской библиотеке. Сначала читал все без разбору, просто, чтобы убить время. Потом состоялось знакомство с директором библиотеки, бывшим учителем истории Дановым, с которым они неожиданно подружились. Данов был человеком старой закалки – знал невообразимо много, до бесполезности, ибо нигде не мог применить свои познания. Но он был опытным собеседником и педагогом и быстро расположил к себе смышленого Николу. Под его руководством Никола прошел полный курс истории, постепенно освоил русский язык и проник в загадочный мир греков, римлян, германцев, франков и славян, где демократия и тирания, право и мораль, быт и искусство были перемешаны временем самым немыслимым образом. Никола читал речи известных ораторов и правителей, полководцев и теологов, перечитывал их, а некоторые даже заучивал наизусть. Его чувствительная к любой несправедливости – природной или человеческой – душа скрыто, но упорно подталкивала его к нравственным дилеммам далекого прошлого, мысль сновала между веками, ища и находя аналогии, зачастую неутешительные, которыми он осторожно делился со своим учителем. Сам неудачник в жизни, Данов на каждый пример Николы приводил еще и свой собственный, толковал их с размахом и, сам того не замечая, приходил к неизбежности примирения – так устроен мир, так было и так будет. Никола же не соглашался. Его молодой ум ощупывал горизонт и искал выход. Получив аттестат зрелости, питомец Данова твердо решил изучать право.
Каждое лето Никола покидал город и спешил в село, домой. Зажатое голыми холмами, село было равнинным, ни бедным, ни богатым. Подобно остальным крестьянам, его родители занимались в основном земледелием и немного виноградарством, возвели кирпичный, дом с пристройками, которые после создания общего хозяйства совсем не использовались. Только просторный сад, окружавший дом, продолжал дышать.
Никола сходил с пассажирского поезда, нагруженный книгами, взятыми у Данова. Завидев его, дежурный по станции бай[6] Захарий кивал ему и знаком просил не торопиться. Подождав, пока поезд отправится, он вытаскивал тележку с маленькими резиновыми колесами, грузил на нее тяжелый чемодан, приговаривая: „Снова книжки… Эх, Кольчо, ученым станешь, прославишь наше село!" Затем он провожал его до дороги. У бай Захария было два сына, подрядившихся на строительные работы, так что видел он их только по праздникам. Он расспрашивал Николу, как прошел учебный год, долго ли еще осталось, что нового в городе. Твои мать и отец здоровы, заканчивал он, на днях виделись в поле, ждут тебя, не дождутся, горемыки. Ну давай, доброго тебе пути, тележку вернешь после обеда.
Никола трогался в путь, толкая перед собой необычную для пыльного села фабричную тележку, но шел не по главной улице, а задворками, мимо огородов и зарослей бузины. На следующее утро сразу впрягался в работу: днем – в кооперативном хозяйстве, вечерами же корпел над книгами. Его приглашали в мастерскую, где для него нашлась бы работенка полегче, но он выбирал поле, а еще с большим желанием виноградник. Работавших там разделяла густая листва, а со своим недугом он лучше всего чувствовал себя в одиночестве. На обед бригада собиралась вместе, чтобы перекусить и отдохнуть. Присаживался и он, поджимая под себя левую ногу, утомленный и разбитый, часто совсем без сил – виноградник брал свое. Люди ели, отпивали по глотку из бутылки с виноградной ракией[7], обед состоял из кринки айрана[8], лука и брынзы – потом растягивались на теплой земле. И так каждый божий день.
К вечеру он возвращался домой – когда пешком, когда на телеге, поил овец или подметал на скорую руку двор за домом, обходил грядки с овощами – то шест поправит, то сорвет подгнивший плод, польет перец и петрушку. Другую работу по дому и по хозяйству он оставлял родителям. Поджидая их, он любил устраиваться в саду, за которым следила мать, – не больно вылизанным, но ухоженным – или забирался на чердак и лежал там с закрытыми глазами. Нога болела, особенно лодыжка, распухшая и покрасневшая от дневных нагрузок. Сказывалась хромота, требовавшая от него больших затрат сил. Его товарищи, здоровые как быки, не подавали виду, что замечают его отставание, устраивали передышки, подбадривали его, не отдавая себе отчета в том, что именно это его и задевает: еще с детства он терпеть не мог жалости к себе. С той поры у него не осталось ни одного друга, кроме Дешки, жившей на сельской околице.
Худенькая, с белой, как мел, кожей и вечно красными глазами, Дешка росла в нищете. Вечно пьяный, ее отец работал на городской мельнице. В классе она часто засыпала за партой, то ли из-за бессонных ночей, то ли от слабых силенок, а может, замученная домашними побоищами. После звонка все, как угорелые, неслись во двор, и лишь они вдвоем, как больные птенцы, оставались за партами – Дешка на второй, а он – на предпоследней. Первое время они все молчали, стеснялись, потом обвыклись, стали перекидываться фразами. Со временем он узнал, как она проводит время дома, где спит, что ест, как над ней измывается отец. Дешка говорила ровным голосом, очень тоненьким и тихим, уставившись глазами в одну точку. И вдруг внезапно замолкала. Наступал его черед, а он не знал, чем се потешить, – дома все было нормально, отец и мать заботились о нем, водили по врачам, чего только не перепробовали: и компрессы, и горячие припарки, растирания и массажи у одного старика в далеком селе, – все он перетерпел. Однако постепенно смирились, лишь смотрели, чтобы не нагружать его тяжелой работой. Маленький Никола чувствовал, Что он не такой, как остальные дети: о нем постоянно тревожились, его жалели и молчаливо отгораживали от жизни окружающих. И это вносило смятение в его и без того стеснительную душу… Ты почему не идешь играть? – интересовался Никола, а Дешка отвечала, что она не любит играть… Вообще не любишь? – озадаченно спрашивал Никола… Вообще… А мне так хочется поиграть, признавался он и вздрагивал… А может, нам вдвоем поиграть? – неожиданно оживлялась Дешка… А во что?.. Ну хотя бы в учителя и ученика, предлагала она.
Так начались их игры в пустой классной комнате – один выходил к доске и экзаменовал другого, потом они менялись местами. Повторяли слова учительницы, писали на доске, проверяли домашние работы, пока им не надоедало. Тогда они усаживались за одну парту и сидели молча или предавались мечтам: кто кем станет в будущем. Дешка колебалась в выборе: стать ли ей учительницей или домохозяйкой, не все так просто. Учительницей трудно себя представить, но вот домохозяйкой… Родит двоих детей, будет их сама воспитывать, не нужен ей никакой муж, мужчины все время пьют и ругаются, а она будет вести хозяйство – в доме все заблестит от чистоты, а по воскресеньям будет ходить с детьми в церковь, там так красиво. Никола не находил, что в церкви так уж красиво, ничего особенного, к тому же этот удушливый запах ладана… А мне нравится, как он пахнет, прямо в душу проникает… О душе Никола имел довольно смутное представление, хотя подозревал, что и у него она есть. Но пичкать ее ладаном не имел ни малейшего желания… Ты когда-нибудь молился? – однажды спросила Дешка… Кому молиться?.. Да так, никому, просто молиться… Господу?.. Да хотя бы и ему… А чего ему молиться?! – резко оборвал он. – Как будто он мне поможет?.. Говорят, что некоторым помогает, тихо промолвила Дешка… Кто тебе сказал?.. Бабушка говорила… Бабушкины сказки! – повторил Никола услышанные где-то слова. Совсем не сказки, я сама в этом убедилась, сказала Дешка и заглянула ему в глаза. Никола был поражен – прежде он не знал, как выглядят глаза Дешки – зеленоватые, чистые, смотреть в них – не насмотреться… Значит, ты веришь в бога? – сокрушенно спросил он… Верю, Кольчо… И давно?.. Не знаю, однажды ночью я проснулась и увидела, как он выходит из комнаты…
Уже учась в гимназии, Никола находил время для встреч с Дешкой. Они взбирались тропками на Чуку – скалистый холм, нависавший над селом, поросший сиренью, кизилом и скумпией. Обычно они выходили на прогулку к вечеру, когда люди возвращались с поля, над трубами начинал виться легкий дымок, загорались первые лампы – то был час домашних забот перед наступлением темноты. Дешка повзрослела, подросла, но оставалась такой же худенькой и бледной, кожа ее потеряла меловую белизну и стала какой-то прозрачной, что очень ее красило. Они продирались сквозь густые заросли кустарника и усаживались у подножья отвесных скал. Оторванные от всего мира, тревожимые лишь каким-нибудь незаснувшим жуком или пролетавшей в вышине птицей. Прошлой зимой Дешкин отец внезапно скончался, и ей пришлось взвалить на свои плечи всю домашнюю работу: она стирала, готовила, месила тесто, присматривала за младшим братом. Никола за это время возмужал, хотя по своим годам и был невысок. На щеках появился пушок, а в глазах какая-то решимость.
Да ты куришь! – удивилась Дешка, когда он сунул в рот сигарету… Курю, Дешка… Зачем, Коля?.. Никола пожал плечами. А твои знают?.. Нет… А если дознаются?.. Что с того?.. Она глядела на него во все глаза, чувствуя, что в его душе что-то круто изменилось. Вообще после конца войны произошли большие события, пришла новая власть, повсюду проводились собрания, звучали агитки, реяли знамена, выкрикивались лозунги, в селе заговорили о создании общего хозяйства, собирали медную утварь „на электричество" – для изготовления медных проводов, чего только не творилось… Вот и Никола закурил.
А ты все еще ходишь в церковь? – неожиданно спросил он, хотя и знал ответ. Дешка сказала, что ходит регулярно, хотя Янко – Никола его знает – предупредил, чтобы и ноги ее там не было. Записали ее в сельскую молодежную организацию, так что никаких церквей! Я все равно из нее выйду, заявила Дешка. Как это выйдешь? Что тебе делать в этой несчастной церкви?.. Дешка помолчала и обиженно ответила: Коля, не запутывай меня, я решила… Что ты решила, что? – раскричался он, попа Ставрю будешь слушать или нас?.. Кого это вас? – удивилась Дешка. Нас, ремсистов[9]… Дешке было неведомо значение этого слова. Никола ей объяснил, но она отрезала: я не работница, я крестьянка, мне до них дела нет, они же городские… Пойдешь с нами, будешь учиться! – настаивал он, а Дешка лишь вздохнула: Коля, Коля, не про меня все это. Ты же сам из села, теперь учишься. Так зачем тебе связываться с этими рабочими?.. Никакие они не „эти рабочие", а… И он рассказал ей о новой организации, ее целях и устремлениях. Дешка внимательно слушала, натянув свое ситцевое платье по самые щиколотки. Теперь поняла?.. Поняла, Коля. Только не по душе мне это… Теперь уже он не мог ничего понять. Слабая я и не могу бороться, да и не хочу. Ты – совсем другое дело, ты будешь ученым. А я простая девушка и останусь тут, с мамой… Николе очень хотелось погладить ее по руке, ободрить ее, но он не решался – Дешка была особенной девушкой, с ней нельзя было так, как с другими, хотя он и не больно знал, как следовало себя вести с другими девушками.
Как-то раз они снова выбрались к подножью Чуки, и Дешка произнесла слова, врезавшиеся в его память на всю жизнь. Коля, сказала она ему, хотя, в сущности, обращалась к себе самой, я меченая. Мне на роду написано жить недолго, я должна искупить чужую вину… Какую вину? – недоуменно спросил он. Чью-то, может быть, моего отца. Жизнь – несправедливая штука, Коля. Для одних она – мать, для других – мачеха. Так было, так и будет, я уже смирилась. Возьми, хотя бы, нас с тобой. Ты хромаешь, а другие нет… Дешка не заметила гримасы, исказившей его лицо. Во мне жизнь еле теплится, а подружки мои пышат здоровьем, даже с парнями уже ходят. Но ты мужчина, учишься, твои родители – добрые и при деньгах, понимаешь – а мы с мамой бедные и одинокие, неоткуда ждать помощи и поддержки. Вот ты окончишь гимназию, поедешь в Софию, выучишься на врача или на инженера, будет у тебя дом, друзья. А на меня никто и не посмотрит, кому я нужна? – Дешка снова уставилась в одну точку. – Я не жалуюсь, ты же меня знаешь, просто говорю. И что же мне остается? Один бог мне и остается, от которого ты так морщишься. Вы говорите, что его нет, бога-то, но я знаю, что он существует. Иногда во сне или когда уж совсем муторно, я его вижу, разговариваю с ним, и он один меня понимает…
Никола пытался вникнуть в смысл Дешкиных слов, таких простых и таких непостижимых. Но не нашел ничего другого, как спросить: и о чем же вы беседуете?.. Это тайна, если я ее разболтаю, он может отвернуться от меня, и тогда я совсем пропала… Никола сидел потерянный. Дешка бросила прогимназию и об учебе не желала и думать, а он не знал, чем можно ей помочь. Дешка, сказал он, наверно, тебе тяжело, но погляди вокруг, мир прекрасен, а мы должны сделать его еще прекраснее, справедливее. Почему ты так говоришь?.. Не взглянув на него, Дешка ответила, что мир и вправду прекрасен, солнце греет, дождь льет, цветы распускаются, и плоды зреют – не слепая она, и все это создал бог для услады одних и на муки другим. Но есть и иной мир, высший, где мучения кончаются и наступает отдых. На днях мама мне сказала, что я очень горюю во сне, с богом беседую, с животными всякими и цветами, в этом есть знамение, хотела, чтоб я пошла к гадалке, но я-то знаю, что это ни к чему, – сама себе гадаю и становится легко на душе…
Никола ясно ощущал ее искренность, чувствовал таившуюся за ней боль, робкое стремление, немое упование, но умом он не мог разобраться во всем до конца. Он все воспринимал иначе – когда он думал о своем недуге и, напрягая чувства, постепенно добирался до первопричины, этой сломавшейся ветки, то четко осознавал свою вину – он упал, перенеся всю тяжесть тела на левую ногу – и в очередной раз болезненно переживал случившееся: все было закономерно. Но такое осознание собственной вины длилось считанные минуты. Достаточно было ему случайно бросить взгляд на чью-нибудь здоровую лодыжку, чью-то нормальную левую ногу, как перед глазами у него чернело, волны горечи захлестывали его раненую душу, и в нем поднималась злоба на все нормальные ноги; на все здоровые лодыжки, к которым люди относились так беззаботно. Смятение и ревность рвались наружу, призывно звонил колокол, спрятанный где-то внутри него, и он был готов, не спрашивая чьего-либо позволения, вершить суд и расправу – в первую очередь, над знакомыми и близкими… После накатившего приступа злобы он быстро остывал, и его охватывал стыд…
К богу взывают чокнутые и старушки, Дешка, произнес он, придя в себя после тяжелого воспоминания, гаданьем горю не поможешь, надо бороться… Последнее слово он выпалил так, словно вбивал кол в сухую и твердую землю. И вот тогда произошло то, что кольнуло его прямо в сердце. Дешка кинула на него быстрый взгляд и с милым укором произнесла: Коля, ты мне совсем как брат, но я тебе скажу одну вещь и хочу, чтоб ты понял меня, – нельзя всего добиваться борьбой, всего и всегда. Борьба не только дает силы, но и озлобляет. Я это знаю на примере папы, вот он все боролся да не выдюжил, одолели его, он стал злым и спился. Душа твоя чиста, но у тебя больная нога. Ты должен остерегаться поучать других, потому что можешь озлобиться. Да простит меня бог, если я ошибаюсь…
В тишине со стороны села доносился далекий звон медных котлов, с которыми ходили по воду, мычание коров, приглушенные голоса. Рассеянно прислушиваясь к звукам сельской жизни, Никола бросил взгляд на ветхие Дешкины тапочки, которых касался подол ситцевого платья. Он подумал о ее худеньких ножках с торчащими щиколотками и тоненькими венами, синеющими под кожей, о своей распухшей и изуродованной ноге в штанине… Что пыталась внушить ему эта горемыка, откуда она взялась на его голову и как проникла и его душу?
Позднее, в часы одиночества или в минуты гнева, а порой и во сне, он часто вспоминал ее колючие и точные слова и клялся себе не поддаваться злобе и ожесточению, безосновательным подозрениям и не прибегать к мести, даже если обидчик и заслуживал того…
– Значит, это заметно, а, Дешка? – глухо спросил он.
Дешка положила свою худенькую руку ему на плечо.
Тело Анетты Кушевой было обнаружено в нескольких метрах от искореженной, полуобгоревшей машины, сорвавшейся с обрыва в долину маленькой быстрой речки. Первым делом я осмотрел автомобиль, пояснил Станчеву старик-пастух, и смекнул, что дело дрянь. Который был час? Мои часы – это солнце. Пожалуй, было что-то около семи поутряни, так как недавно прошел скорый…
Тело Кушевой лежало на прибрежных камнях в неестественной позе, одна нога оголилась, рука была откинута в сторону. Голова и лицо были покрыты ссадинами, правда, на затылке синела крупная гематома, явно от удара о твердый предмет, что, собственно, и вызнало смерть. После тщательного осмотра места катастрофы и пути машины от поляны до обрыва было установлено, что Кушева, по всей вероятности, выпала через открытую переднюю левую дверь, скатилась по склону и ударилась головой о небольшой острый камень метрах в десяти от воды. Смерть наступила позднее от обильного кровоизлияния в мозг. Анализ подтвердил идентичность крови на камне и крови потерпевшей, других же следов внизу не было обнаружено.
Не было следов и наверху, на поляне, если не считать неглубокой колеи от автомобильных шин, которая вела в сторону обрыва. Похоже, водитель не пытался затормозить или осуществить какой-то маневр, он просто свернул с шоссе вправо и, по всей вероятности, остановился на крутизне, а лишь затем автомобиль съехал в овраг. Не было следов и в обгоревшем и помятом салоне машины, перевернувшейся и уткнувшейся носом в тинистый омут в двух шагах от реки. Сидения, мягкая обивка, шерстяной чехол на переднем сидении, пластиковые детали обуглились, резина на колесах расплавилась, все было покрыто слоем жирной сажи.
Пока сотрудники следственной группы делали замеры, снимали отпечатки, брали пробы крови, фотографировали, Станчев присел на свой складной стул и уставился взглядом на погибшую. У Кушевой было овальное миловидное лицо, немного опухшее и окровавленное, в верхней части носа – небольшая горбинка. Станчеву показалось естественным сочетание этой горбинки с почти сросшимися черными бровями. Волевой тип лица, подумал он, а взгляд его пополз вниз, к потрескавшимся Губам, чувственным, с нежно изогнутыми уголками. Телосложение, пожалуй, изящное, с ярко выраженными формами, кожа белая, гладкая и ухоженная.
Ему доложили, что осмотр окончен, и спросили, можно ли уносить убитую. Именно так выразился его помощник Влахов, и это резануло его слух. Он посмотрел наверх, в сторону поляны. Не самое удачное место для уединения и любовных утех, да и для разговора с глазу на глаз или выяснения отношений тоже. И этот поросший кустарником обрыв… Странно.
Станчев распорядился насчет вскрытия трупа и тщательного технического осмотра машины и отпустил следственную группу. Сам же остался сидеть на стульчике посреди поляны, разглядывая примятые кусты, через которые перелетела машина. Кушева погибла в результате падения, других тяжелых телесных повреждений не было. Значит, на данный момент можно считать, что попытки убить ее в машине не делалось или же преступник просто не оставил следов. Ерунда, какие улики могут остаться после пожара?! Вскрытие тоже не покажет ничего нового, он был почти уверен в этом. Осмотром тела займется доктор Чолаков, в котором он был уверен, как в себе самом. В себе самом… повторил он и криво улыбнулся: завидно легкая задача у доктора – здесь ушиб, тут рана, контузия, следов отравления нет, применено холодное или огнестрельное оружие, такие-то изменения внутренних органов, все четко и доказуемо, несколько часов – и протокол готов. А у него все только начинается. Прокрутил в памяти подобные случаи, которые расследовал сам или о которых слышал. Все они на первый взгляд казались однотипными, различия обнаруживались позднее. Человек – это загадка, черт бы его побрал, особенно женщина…
Станчев закурил сигарету. Второй машины не было, по крайней мере поблизости. Важное обстоятельство. Возможно, преступник или преступники прибыли сюда вместе с Кушевой, а потом дали деру или же приехали на другой машине, оставили ее где-то на развилке, а затем укатили. Впрочем, это не имело особого значения. Но если предположить, что они все же были в машине, возникает вопрос, как они действовали, чтобы вовремя выскочить из нее. Возможно, они выпрыгнули на ходу – каскадерский трюк, требующий немалой сноровки. Можно и проще – они обманули ее, оставили за рулем, а сами столкнули машину. Возможно и третье – оглушили Кушеву, усадили в машину и пустили под откос. Но тогда бы она не выпала из машины.
Остаются еще версии самоубийства или несчастного случая. По опыту он знал, что самоубийцы проявляют завидное хладнокровие. Если Кушева решилась на последний шаг, то она выбрала не очень подходящее место, ведь машина могла засесть в кустах. В таком случае, почему бы ей было не ринуться вниз прямо после поворота? Тоже сомнительная версия. Зачем выбирать такой сложный вариант, когда можно было действовать наверняка – найти голый и крутой склон. Но если все же предположить такой расклад, то снова трудно объяснить, почему она выпала из машины: человеку, решившему покончить с собой, ни к чему выскакивать на ходу. Гораздо логичнее – держаться за руль до последнего мгновения.
Станчев докурил сигарету и подошел к обрыву, поросшему низким и редким кустарником. Да-а-а, естественнее было бы направить машину именно сюда, здесь сопротивление намного меньше. Но Кушева предпочла более высокие кусты, хотя между ними и был просвет. Станчев еще раз внимательно осмотрел место катастрофы. Земля здесь была взрыта. По изломанным веткам было видно, что на них пришелся удар. Значит, особой инерции тут и не требовалось. В таком случае можно предположить, что Кушева каким-то образом не смогла остановить машину и в ужасе попыталась выпрыгнуть из нее. При сравнительно малой скорости падения это возможно.
Он провел рукой по примятым кустам. Значит, так: случайная или умышленная катастрофа при внезапном толчке сзади, рычаг коробки передач в нейтральном положении, на ручной тормоз машина не поставлена… Но почему рычаги были в таком положении? Сама Кушева это сделала? Не ясно, Коля, не ясно…
После работы он позвонил своему другу Михову.
Борису Михову было за шестьдесят, последним местом работы был Верховный суд. Он жил один в небольшой квартирке недалеко от центра. Безнадежный холостяк – как он сам себя величал – Михов прожил полную превратностей жизнь. Студенческие годы провел во Франции, участвовал во французском Сопротивлении. После победы вернулся на родину, и сразу же его затянула круговерть событий. Был следователем, перешел на партийную работу, потом вернулся в суд, после чего летом пятидесятого года неожиданно оказался на скамье подсудимых. Через пять лет был выпущен на свободу, но пришлось прождать еще три злополучных года, пока ему вернули честь, доверие, а заодно и партийный билет. В заключении он весь ушел в себя, потрясенный, но не потерявший равновесия – помогли старая закалка и глубокое знание истории, особенно французской. Приговор, как и обвинение, был нелепым, вины за собой он не чувствовал, и это его поддерживало. Лишенный книг и информации – может быть, самое жестокое наказание после испытания клеветой Михов с головой ушел в переосмысление знаний об истории человечества – от Римской эпохи до наших дней. Чего только не было в этом прошлом – каких только событий и поворотов судьбы, безумных решений и еще более безумных страстей, невероятных походов и подобных прорвавшимся плотинам революций, зрелых идей и детских утопий, религиозного экстаза и морального стоицизма, распущенности и аскетизма, прозрений и тяжких заблуждений. И надо всем этим царила могущественная и древняя, как мир, жажда власти, многоликая в своих формах и монолитная и своих корнях. И Михов анализировал, сравнивал, отсеивал…
Когда перед ним раскрылись железные ворота тюрьмы, на дворе стоял день, солнце грело, город внизу глухо шумел – жизнь текла так же, как на протяжении тысячелетий. Первое, что бросилось ему в глаза, был величественный силуэт гор в легкой дымке, нежной и незыблемой. Он настолько отвык от подобных идиллических картинок, что на глаза навернулись непрошеные слезы, и он не заметил маленькую девочку с пустой хозяйственной сумкой через плечо. Ребенок видел, как он вышел из массивных ворот – щуплый, поседевший, в мятом костюме и с потертым портфелем. Эй, дядя! – раздался чистый голосок. Михов обернулся, оглядел девочку и вяло усмехнулся: что тебе, тетя?.. Ты почему сбежал из тюрьмы? А?!.. Михов почувствовал дрожь в коленях. Подобное ощущение он испытывал всего раз в жизни – когда зачитывался приговор. Нога его замерла в сантиметре от ступеньки, как будто под ней разверзлась пропасть, но он взял себя в руки и, не проронив ни слова, стал медленно спускаться вниз…
Станчев и Михов познакомились много лет тому назад на каком-то совещании. Случайно они уселись рядом, кивнув друг другу, и этим кивком окончился бы их контакт, если бы оратор не переборщил с банальностями. Тогда Михов наклонился к Николе и возмущенно выругался. Станчев не поверил своим ушам и никак не прореагировал. Михов в упор посмотрел на него: а вы одобряете такой ход рассуждений? В перерыве они вышли поразмяться, разговорились, познакомились. Михов сказал, что по совести надо было бы докладчика вздуть, не так все, совсем не так. И пустился в объяснения, почему все на самом деле не так. Станчев слушал, прикидывая в уме, что за птица этот сухощавый мужчина с беретом в руке.
После перерыва Михов высоко поднял руку, попросил слова. На трибуне он выглядел еще более невзрачным, но с первых же слов приковал к себе внимание аудитории. Говорил он немного глухо, размеренно и точно. Слушая его с удовольствием, Станчев тем не менее испытывал смутную тревогу за своего нового знакомого – Михов оперировал известными истинами, однако в этом зале они звучали довольно дерзко. На Станчева произвели впечатление свободная ориентация оратора в материале, уместные ссылки на факты и события, что свидетельствовало о логичности мышления и обширных познаниях. Слова его звучали веско. В тот вечер они вместе заглянули в ресторан поблизости, после чего Станчев вынужден был оставить свою „ладу" на улице и вернуться домой на такси – принято было достаточно…
Сейчас они сидели в гостиной, стены которой, казалось, были возведены из книг – половина на французском и русском, половина – на болгарском. Станчев корил себя, что его собственная библиотека не может тягаться с Миховской и по количеству, и – что самое главное – по качеству. Не выучил ни одного западного языка, подзуживал себя Никола. За столько лет можно было хотя бы осилить французский, да и Борис помог бы с удовольствием…
Беседа текла как обычно – немного беспорядочно: политика, история, служебные неурядицы – пока, наконец, не дошли до темы самоубийства. Почему женщины посягают на свою жизнь чаще, чем мужчины, где скрыта сжатая пружина и когда она распрямляется? Михов, никогда не бывший особо высокого мнения о женщинах, объяснял это их чувственной природой и связанной с ней ограниченностью умственных интересов. Когда тобой овладело одно чувство или одна-единственная мыслишка, говорил он, ты способен принять невероятные решения, это метафизика. Станчев не разделял подобного мнения. Женщина – сложное и противоречивое существо… Что в ней сложного?! Забеременеть и родить? В этом и вся заслуга, Михов стоял на своем, я даже думаю, что предсказуемость женской судьбы заложена в самой ее природе… А влияние цивилизации ты игнорируешь? – не соглашался Станчев, посмотри, какие перемены произошли за несколько десятилетий. Произошло выравнивание… Бог с тобой, какое выравнивание – по уму, возможностям и свободе действий? Если такое произойдет, мы перестанем размножаться… Что-то ты сегодня мрачен, заметил Станчев, подумав о своей дочери и о бездетности Михова. В сущности, он хотел упрекнуть своего друга в однобокости его суждений. Взять хотя бы свежий случай с катастрофой… И он рассказал о происшествии у реки.
Михов помолчал, отхлебывая свой любимый тимьяновый чай. Не могу понять, какое отношение это имеет к тому, о чем мы говорили раньше. Судя по твоему описанию, здесь пахнет убийством, но не уголовщиной… Станчев весь превратился в слух: на него произвела впечатление категоричность Бориса – откуда такая уверенность?.. Я ни в чем не уверен, просто предполагаю… Станчев спросил, почему тот отвергает возможность самоубийства. Во-первых, потому что погибшая уже вышла из того возраста, когда так легко принимаются подобные решения. Во-вторых, жаловаться на тяжкую жизнь этой Кушевой тоже не приходилось, концы с концами она сводила, более того, как ты говоришь, у нее было собственное жилье, машина и прочее плюс выгодная работа. Мы, Коля, еще не достигли того изобилия благ, зачастую бессмысленного и опустошающего, которое легко приводит к одиночеству и безделию, мы еще накапливаем и радуемся нашим накоплениям, как дети. И, в-третьих, служебное положение твоей несчастной. Сам знаешь, что в этом ведомстве не особо жалуют женщин, их там мало, если не считать секретарш и уборщиц. Очень вероятно, что ее втянули в какую-то сомнительную игру, а потом вляпались, и мадам стала лишней. Вот такая-то версия в отношении презумпции…
Да-а-а, протянул Станчев, так как просто не знал, что сказать. Презумпция, говоришь… Я ничего не говорю – просто не похоже это на самоубийство… А если какая-нибудь дикая страсть, лютая ревность, отчаяние? Можно предположить?.. Предположить можно все, что угодно, но… – Михов потер свои худые пальцы. – Чувствую я, что дело в другом. Впрочем, это все пустая болтовня, дорогой мой Коля. Подробности, подробности – вот где таится искусство, в том числе и наше. Да тебе это известно не хуже меня…
Михов вышел в другую комнату и вернулся с изящным аппаратом в руках. Есть у меня для тебя один сюрприз, он установил видеомагнитофон рядом с телевизором, подарок от племянника, который я пока еще не решаюсь принять, ведь стоит он половину его зарплаты в Женеве… Михов засуетился, вытащил инструкцию и, по-старчески медлительно, подключил магнитофон к телевизору, параллельно объясняя, как долго возились специалисты с этим подсоединением. Станчев сталкивался с видеоаппаратурой на службе, но никак не ожидал увидеть ее у Михова. Какие-то переходники цепляли, продолжал Михов, входы, выходы, диоды или что еще там, в общем, дебри непролазные – но вот заработало… А теперь угадай, что я тебе покажу?
Станчев сдался без боя и с любопытством принялся ожидать обещанный фильм о знаменитом миме Марселе Марсо. Но несмотря на то, что Михов нажимал на какие-то кнопки, проверял контакты, даже стучал кулаком по телевизору, на экране не появлялось ничего, кроме радужных полос. Что за чертовщина, вчера работал, а сегодня отказывается. Ну-ка подержи тут…
После десяти минут щелканья и пыхтения экран наконец ожил, и на нем появилось узкое лицо фон Кейтеля в пенсне. Нацист докладывал своему наморщившемуся фюреру, стоя у огромной штабной карты. Эх! – воскликнул Михов. – Не ту кассету взял… Хорошенький Марсо… – поддел его Станчев. Коста мне оставил три кассеты, на какой из них что записано, не знаю. Сейчас я ее сменю…
Но вспомнить, каким образом нужно ставить новую кассету, ему уже не удалось, так что им вдвоем пришлось перенестись в зловещий штаб Третьего рейха.
Анетта Кушева была из тех юных провинциальных созданий, которые начинают испытывать отвращение к родному городку еще в гимназии. Ее родители и предки были выходцами из этих мест. Единственный ребенок в семье, она росла, как тепличное растение – сначала (в детстве) маленькое и изящное, а затем (в пору созревания и после того) – распустившись пышным цветом, регулярно удобряемое и поливаемое. Бывший лавочник, ее отец добрался до поста начальника отдела в местной торговой организации. Этот путь он проделал благодаря труду и примерности, при этом пуская в ход связи, не гнушаясь подношениями, мелкими услугами, закрывая глаза на проделки начальства. Беспартийный, подтянутый на службе и в быту, учтивый до благообразия, Кушев постепенно превратился в товарища Кушева, человека солидного и обходительного, который никогда не подведет ни соседа, ни коллегу, не говоря уже о директоре. Он припас диплом торгового училища и документ об окончании двухгодичных курсов по специальности, знал свою работу до тонкостей, говорил мало и внятно, долгие годы председательствовал в профкомитете – и не проходило квартала, полугодия или года без того, чтобы его не отметили премией, грамотой или благодарностью, чаще всего, дело кончалось кругленькой суммой премиальных, законных, – комар носу не подточит – учтенных во всех бухгалтерских ведомостях предприятия. Сам он всегда был подтянут, одет с иголочки, туфли сияли на солнце, рубашки вместе с костюмами регулярно подлежали химчистке, на лацканах или на брюках нельзя было обнаружить даже малюсенького пятнышка. Если бы была изобретена машина для чистки души, химической или какой-нибудь еще, Кушев незамедлительно ею бы воспользовался, так, на всякий случай. Но раз такая машина еще не появилась, он очищал свое тело и душу дедовским способом: в нескольких окрестных и более отдаленных городках у него имелось по одной или парочке зазноб – то были солидные дамы, лишь на пару лет моложе его, коллеги по торговой сети, искушенные во всех отношениях. Они охотно принимали недешевенькие подарки до и после взаимных утех, педантично приуроченных к очередным командировкам, зональным и национальным собраниям и совещаниям по обмену опытом. Кушев ценил эти ничем не обязывающие контакты, ценили их и его партнерши, дерзкие и изобретательные в любовных развлечениях. Они отдавали себе отчет в том, что стареют, что полжизни уже позади, принимал это во внимание и Кушев, и это распаляло их сильнее, чем старое вино, чем любые подлинные или фальшивые драгоценности…
Его отец, старый Кушев, перед войной владел маленьким магазином тканей, что на главной улице, и еще мальчиком он часто в свободное время вставал за прилавок. Покупатели были на любой вкус – тут тебе и чиновники, и бакалейщики, и офицерские жены, врачи и адвокаты, заявлялись и трудяги из окрестных сел. Старый Кушев, располневший, но по-прежнему элегантный, встречал и провожал клиентов по-разному – в зависимости от их положения и кошелька. Местной верхушке предлагался кофеек из соседнего заведения, сласти, соки, челядь тоже получала по конфетке. Выносились мягкие кресла, заводился разговор о том, о сем – начиная с погоды и кончая мировой торговлей – вытаскивались из-под прилавка, из неприкосновенного запаса, отрезы добротного полотна на костюмы, на платья, для вечерних туалетов, летних, демисезонных, на любое время года. Отрезы выносились на улицу, дабы их можно было лучше рассмотреть на свету. На глазах гостей Кушев поджигал нити, чтобы в очередной раз продемонстрировать качество предлагаемого товара, называл каждый материал иностранным именем, указывал, в какой стране, на какой фабрике и каким способом он был изготовлен, подбирал нужную подкладку и ловко, словно тогу, накидывал материал на плечи претенциозных, тщеславных покупателей.
Другой встречи удостаивались крестьяне. Краткие объяснения: это для мужчины, это для женщины, для старухи, сколько денег в кошельке? Отрежу тебе на два платья, невестка у тебя имеется? Если невестки не было, Кушев ободряюще добавлял, что появится и невестка, и внуки пойдут, а ежели и заставят себя ждать, то никогда нелишне припрятать добрый кусок про черный день, ведь сейчас война, шерсть, хлопок и шелк – большая ценность, из них шинели и парашюты шьют. И крестьянин или крестьянка обычно соглашались, покоренные густым басом, познаниями и внушительностью торговца.
Но на этом дело не кончалось. Кушев так проворно и ловко орудовал железным аршином, так мельтешил полотном перед носом очумевшего покупателя, что тот и не замечал, как на каждом метре хозяин экономил по четыре-пять сантиметров, а при последнем замере с виртуозной небрежностью допускал два-три сантиметра лишка. Носи на здоровье и наведывайся к старику Кушеву!
И это действовало.
Взгляды Кушева на мир представляли собой похлебку из почитания английского и немецкого, однако, когда задавалась гулянка, в нем просыпался восточный человек. С кувшином вина в руке он отплясывал со сложными выкрутасами хоро[10] и неизменно подпевал: шойля льока, бьойля льока, тилин-тилин-тилин-ти-лин… При этом кидал недвусмысленные взоры на нежный пол.
В конце войны провинциальный торговец изменился до неузнаваемости. Он ждал прихода англичан, а пришлось встречать русских, но в отличие от некоторых своих столичных коллег и родственников он отлично ориентировался в происходящих событиях. Не прошло и двух лет, как в один весенний день, изысканно одетый, с платочком в кармане пиджака, Кушев явился в совет, разыскал начальство и кротко заявил, что отказывается от частной торговли и от торговли вообще, расторгает все сделки и закрывает свой магазинчик. Добровольно. И в знак уважения к новой власти безвозмездно передает свои помещения совету. Что касается его скромной персоны, то, ежели уважаемый совет сочтет нужным, Кушев готов стать продавцом, управляющим, снабженцем, дворником – кем его назначат.
Кушев знал, что на полное доверие рассчитывать нет смысла, но его торговля купонами, нарядами и отделочными материалами не шла, еще хуже были дела с продажей шерсти и плотных тканей. И он выплыл. Его магазинчик был отдан под клуб организации Отечественного фронта, сам он был сначала приобщен к ее деятельности, а затем и принят в члены. И работу получил – завскладом в городской торговой сети. Началась вторая полоса в его жизни – неброская, спокойная, без сотрясений. Национализация прошла стороной, на службе и в организации Отечественного фронта он был прилежен, с городскими властями поддерживал любезные отношения, загулы были забыты, равно как и германо– и англофильство. Во всяком случае, так виделось стороннему глазу.
Когда молодой Кушев окончил среднюю школу и надо было выбирать между гимназией и недавно появившимися техникумами, отец позвал его к себе и кратко напомнил ему историю семейства и рода, указав на ее счастливое продолжение в новые времена: эти времена, сын мой, неизвестно сколько еще протянутся, но, по моему разумению, продлятся еще ой как долго, и на внуков твоих хватит, но заруби себе на носу – мы по природе своей торговцы, и закваска у нас крепкая. Торговля была всегда и будет даже тогда, когда не останется ни одного товара для продажи. Торговля – это древнейшее занятие и будет живо до конца света… Запомни отцовские слова: коммунисты – торговцы никудышные, другими делами они ворочают, но без нас им не обойтись. Так что отправляйся ты на море, в Варну, и окунайся в торговлю. Вот тебе письмо с адресом, вот и деньги. И без выкрутасов!
Можно сказать, что молодой Кушев, послушный сын и наследник традиций рода, выполнил отцовские предписания и даже повторил, разумеется, в новых по содержанию и размаху исторических условиях, отцовский путь. Со временем он превратился в товарища Кушева.
Среди многочисленных, рано приобретенных забот младший Кушев имел одну особую – дочь Анетту. Она появилась на свет божий сравнительно поздно, когда отцу ее перевалило за тридцать, но такого момента стоило и подождать: белокожая, чернобровая и черноволосая, маленькая Анетта всегда была готова улыбнуться своими рано оформившимися пухленькими губками. Ее появление в благопристойном, с размеренным укладом жизни доме Кушевых вызвало радостную суматоху. К ней приставили няньку, кормили чуть ли не птичьим молоком. Домашний доктор Янев, бывший гастроэнтеролог, а ныне тихий алкоголик, со стаканом вина в руке трясся над ее и без того цветущим здоровьем. Так трясся, что его пришлось два раза отвозить на скорой помощи в местную больницу, где он работал, но это уже другая история.
А Анетта росла, переходила из класса в класс, чавдарка[11], пионерка, кружок кройки и шитья, школьный актив – общительная и улыбающаяся, всегда чистенькая, с толстыми косами, ухоженной кожей, в изысканных нарядах под школьной формой. Одно время увлеклась гимнастикой, даже участвовала в соревнованиях в составе школьной команды, пробовала силы в лыжном спорте, главным образом в скоростном спуске, но после того, как один раз врезалась в невесть откуда взявшийся пень, бросила эти занятия – она была создана для других видов спорта, и один из них, интимный, был ею освоен довольно рано. Как-то они отправились на соревнования в приморский город, были предоставлены самим себе, так как тренер запил горькую и не обращал внимания на своих подопечных, а поздний май так бушевал в природе и в человеческой крови, что две уже вполне оформившиеся и тревожимые смутными желаниями девчушки даже не заметили, как оказались в компании молодых флотских офицеров. Казино сотрясалось в ритме оркестра, табачный дым усиливал алкогольное опьянение, танцевали до изнеможения, снова и снова отдаваясь тягучей сладости блюза. Легкий загар на шее и твердое плечо кавалера Анетты упорно притягивали ее, они шептали друг другу какие-то слова, губы их касались кожи, обжигая ее будто прикосновением молодой крапивы, и поздней ночью Анетта, испытывая легкое головокружение и замирая от сладостных предчувствий, храбро отдалась случайному знакомому.
Наутро она вышла из дверей чужой квартиры преображенная, открыв для себя прелести страсти, ради которой она была рождена. В ее взгляде появилось что-то дерзкое и отчаянное, она ясно ощущала позывы ранее затаенных, а ныне вырвавшихся на волю сил, нервы щекотал и фальшивый стыд, и женское тщеславие. В тот день она предприняла все возможное, чтобы не уехать с командой и провести еще одну, уже настоящую, изнуряющую ночь с молодым моряком…
Гимназию Анетта окончила с отличными оценками по химии и биологии, с приличными знаниями немецкого языка и положительной характеристикой. Когда она объявила отцу, что собирается поступать в медицинский или на фармакологический, Кушев отрезал: только фармакология. Ему не было известно о тайной связи дочери с молодым больничным врачом, попавшим в их город по распределению, ни о его влиянии на выбор Анетты. Он связывал его с влечением к естественным наукам, что в определенной мере было верно, но был категорически против медицины. Медицина у нас в загоне, втолковывал он дочери, потому как она стала бесплатной и государственной. Врач превратился в низкооплачиваемого чиновника с постоянной головной болью и выматывающей ответственностью. Я уготовил тебе торговое образование, которое вылилось бы в непрерывные поездки, но вижу, что в этой области женщине не приходится рассчитывать на многое. Вот аптекарское дело… Фармацевтика, поправляла его Анетта… Хорошо, фармацевтика – это доброе дело, тут и подработать можно, кроме того, всякие лаборатории, экспертные комиссии и прочее. Профессия сугубо женская, тебе она подойдет, так что полный вперед!
Анетта отправилась к дальним родственникам в столицу, где предполагались ее занятия с репетиторами, а в соседнем вагоне ехал молодой эскулап, чей отпуск впоследствии был использован молодой абитуриенткой многосторонне и до предела.
На пороге своего кабинета Григор Арнаудов прощался с инженером Балчевым. Они угробили довольно много времени, убеждая друг друга, насколько необходима родной фармацевтике новая автоматизированная система второго поколения и насколько непросто импортирующей организации выцарапать ее у самых лучших фирм и выгодно купить, да к тому же в кратчайшие сроки. Они были знакомы с того времени, когда Балчев был избран в своем смешанном объединении на пост заместителя генерального директора, встречались на совещаниях, иногда обменивались служебными сплетнями. Арнаудов, генеральный директор крупной внешнеторговой организации, солидный осанистый мужчина, был старше не только по рангу, но и по возрасту, располагал связями в высших сферах, в то время как Балчев пока еще только набирал скорость и высоту. Инженеры – специалисты разного профиля – они оба накопили житейский и руководящий опыт, пользовались доверием, однако сильно различались по характеру. Несмотря на солидный возраст, Балчев был холостяком, ловцом женских сердец. Покинув семью, жил достаточно безалаберно, накопление было ему чуждо, и, несмотря на приличные доходы, он часто брал в долг, не афишируя эти акции. С начальством держался независимо, от него можно было услышать нелицеприятную оценку, резкую реплику, за которой проглядывал юный задор. Балчеву удалось сохранить тонкий стан и спортивную походку, в выходные дни его можно было встретить то на турбазе в горах, то в бассейне, ну и, конечно же, в каком-нибудь придорожном ресторанчике, в окружении друзей, а чаще – подруг, которые липли к нему, как насекомые к молодому цветущему бурьяну. Ох, женщины, жизнь коротка, но сладка… – любил говаривать Балчев, сопровождая это замечание обезоруживающей улыбкой. Он заводил знакомства стихийно, без оглядки и особенного подбора, хотя прекрасно чувствовал границу доверия, за которую виртуозно не переступал. Он не знал, что подобный нрав достался ему по наследству от деда, красавца-музыканта.
Григор Арнаудов, высокий, плотный, с выразительными темными глазами и тронутой сединой гривой, в свои пятьдесят с небольшим был по натуре почти полной противоположностью Балчеву: активный карьеризм, страсть к недвижимому имуществу и блеску в обществе удачно сочетались с необычайной для болгарина организованностью и трезвым подходом к людям. Строгий к окружающим и взыскательный к самому себе, бывший сельский паренек успешно окончил гимназию в ближайшем городе и с легкостью получил диплом инженера в столице, еще в юности выработал в себе качества, которые, вероятно, были обусловлены наследственной канвой, – он был тактичен, немногословен, спокоен и тверд в своих решениях. В спор вступал редко, всегда был подготовлен к неожиданностям, и если замечал, что увязает, мастерски, не теряя достоинства, умел давать задний ход. Более того, эта его изворотливость усиливала впечатление серьезности. Он поддерживал многочисленные знакомства, друзей было мало, все строго подобранные, можно сказать – после предварительной разведки. Пил умеренно, особенно в компаниях, с нежным полом был ловок, но всегда все оставалось в тайне – никто не видал его с чужой женщиной, и это было не случайно: свои интимные встречи он организовывал с виртуозной предусмотрительностью и осторожностью, никогда не терял головы из-за женщины, да и вообще увлекался крайне редко. На работе за ним не числилось ни одного грубого нарушения законов и распоряжений, никогда он не ставил подписи, не убедившись в правильности документа, был точен в личных расчетах и расходах – до лева. Одним словом, Григор Арнаудов был человеком строгих правил, серьезным и внушительным, пользовавшимся одинаковым уважением у подчиненных и у начальства.
И сейчас, провожая Балчева до дверей своего кабинета, он пожал ему руку и произнес, глядя прямо в глаза:
– Ну будь здоров, Балчев! Сделке дам ход только после того, как будут завизированы дополнительные лимиты. Так что между нами все выяснено. Привет Комитову.
Тяжелая, обшитая дермантином, дверь беззвучно захлопнулась, Арнаудов постоял несколько мгновений в раздумье и позвал секретаршу. В кабинет вошла стройная женщина лет тридцати, в очках в крупной яркой оправе. Зажав кожаные папки под мышкой, она присела у огромного стола, поправила юбку и замерла в почтительном ожидании.
– Горева, – произнес Арнаудов, просматривая кипу бумаг, – не вижу протокола последнего заседания.
Секретарша вынула из папки несколько листов, соединенных импортной скрепкой, и подала их, сообщив, что только что перепечатала его начисто.
Арнаудов пробежал глазами первую страницу, пролистал следующие и отложил их на угол стола.
– Второе – материалы для коллегии. Секретарша открыла кожаную папку и подала начальнику несколько бланков с картонными уголками.
– Так. Надеюсь, ошибок нет. Как мы договаривались, за каждую – штраф. По леву, не так ли? – Горева неловко улыбнулась. – Или больше?
– Нет ошибок, товарищ генеральный, я два раза проверяла…
– Верю, Горева, хотя верить, само по себе, абсурдно… – Арнаудов мрачновато усмехнулся, что было знаком доброго расположения духа. – Знаешь, кто это сказал?
Секретарша смущенно пожала плечами.
– В другой раз скажу… – неожиданно отступился Арнаудов, так как вообще не знал автора сентенции. Он поглядел на Гореву, которая с виноватым видом ждала дальнейших распоряжений. Можно было назвать любое имя философа или государственного деятеля, в крайнем случае, писателя, но не в его привычках было сочинять. Да и впоследствии ошибка может выплыть, а это недопустимо.
– В другой раз, Горева, при подходящем случае… Дай мне теперь телексы и телеграммы.
Разумеется, Горева записывала все замечания и указания. Через полчаса на его стол лягут листы с этими указаниями для контроля. Генеральный имел привычку лично следить за исполнением своих распоряжений, и именно это его постоянство заставляло все учреждение всегда быть начеку.
С делами было покончено, и Арнаудову следовало бы отпустить свою помощницу, однако он задержал ее.
– Горева, есть у меня к тебе один вопрос, хотя ты можешь не отвечать… Слушай, ведь ты вела протокол на встрече со строителями?
Секретарша кивнула.
– Так. Я прочитал протокол дважды, но так и не понял, обиделся Динев или нет?
Горева напряглась.
– Я хочу выяснить для себя: вправду Динев был задет или я ошибаюсь?
– Мне кажется, он был задет, товарищ генеральный.
– Верно. А почему?
Горева снова сжалась.
– Как вам сказать…
– Как думаешь.
– Мне кажется, из-за того, что вы попросили справку о лимитах…
– По телефону?
– Да.
– И что же?
– Ну, если вы помните, точно тогда был звонок по прямому, вы начали разговаривать, а Динев что-то пробормотал, вы даже не заметили.
– Что пробормотал?
– Что-то недовольное, я не слышала точно. Арнаудов внимательно поглядел на секретаршу.
– Горева, этот момент отсутствует в стенограмме.
– Но я… мне нечего было записывать, товарищ генеральный.
– Значит, я плохо тебя учил. С этого дня ты будешь записывать все, особенно вот такие места, отмечать паузы, в которых ничего не говорится, но происходит самое главное. Ты умная женщина и понимаешь, что я имею в виду, – или не улавливаешь?
Горева кивнула.
– Так. И еще одно – чтобы не вносить эти записи в стенограмму, ты их будешь делать на отдельном листе, для моего личного пользования, – Арнаудов бросил на секретаршу пронзительный взгляд. – В отпуск ухожу в начале августа. Можешь отдыхать с семейством, если возникнет проблема с путевками, сообщи мне загодя… А сейчас соедини меня с Диневым.
Динев разговаривал по другому телефону, и в ожидании его звонка Арнаудов приводил в порядок бумаги на столе и мысленно подбирал слова для своего обиженного коллеги.
– Привет, Виктор, – начал он, – кажется, я тебе помешал… Слушай, ты примешь от меня одно запоздалое извинение? Понимаешь, о чем я говорю?.. Что, запамятовал? А дело было такое, брат, – ведь в вашей сети в последнее время все перемешалось, сплошные перемещения, ты меня понимаешь?.. Вот-вот. Я и перепутал тогда ваши места с Дойчиновым – зачем кривить душой… Да погоди, именно об этом я и говорю – кривить душой не буду – привиделась мне старая цифра… Какие пристрастия? Я стараюсь их избегать, хотя бы по отношению к равным по рангу… Ну вот, прекрасно, рад, что мы понимаем друг друга. Нам остается только выпить как-нибудь после работы по стаканчику виски, мои запасы не истощаются… Ну бывай, Виктор, привет супруге!
Арнаудов положил трубку, посидел в раздумье и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький блокнотик в обложке из лакированной кожи. Нашел имя Динева и добавил к красной точке одну маленькую черную – знак, что все утряслось.
С этим блокнотиком, подарком переводчицы во время одной из поездок в Москву, Арнаудов не расставался никогда. Ручкой с тонким пером, тоже даром странствий, он вносил в него особо важные данные строго для личного пользования: не объявленные официально служебные и домашние телефоны высокого начальства, дни рождений их персон, а также их супруг, личные заказы за рубежом, даты поездок, выездов на охоту, перелетов и экскурсий, список важных бытовых забот – смен автомобилей, ремонтов квартиры и дачи, крупные заказы и покупки, особенно за валюту, имена, адреса и телефоны директоров, торговцев, техников, мастеров, шоферов, таможенников и т. д. Главное место, однако, было отведено высшему начальству. Помимо красных и черных точек, появлявшихся рядом почти со всеми именами, страницы блокнота пестрели густой сетью дат, обозначавших встречи и взаимные посещения, обещанное и выполненное, желанное и необходимое – что отмечалось восклицательными и вопросительными знаками, а также многоточиями. Обычно к концу каждой недели Арнаудов сосредоточивался на своей клинописи, как он сам ее называл, сравнивал, комбинировал, приводил в порядок, размещал, пока не принимал решения об очередном приглашении или отправке в гости. В особо важных случаях на отдельном листочке набрасывал что-то наподобие программы: темы для беседы, необходимые вопросы, меню, цветы и подарки. Всеми подробностями, за исключением вопросов и желаний, он делился со своей женой Тиной, шефом музыкальной редакции на радио, обладавшей манерами светской дамы, – она почти всегда меняла выбор меню и подарков и крайне редко – темы бесед. У тебя всегда один и тот же стиль, корила его в подобных случаях мадам, зимой и летом одним цветом… А ведь мы – женщины, нам требуется внимание, нежность, шутки, и если хочешь, то даже флирт… Флирт? – удивленно подымал брови Арнаудов… Флирт, дорогой, это не только любовная игра, это театр, дружеская импровизация impromptu[12]… Пусть это будет музыкальная викторина с наградами – поцелуями, пусть маскарад, сценки ревности, зависти…
Арнаудов оставлял развлекательную часть программы своей жене и не жалел об этом – мадам Арнаудова-Блыскова бушевала, стихии, затаившиеся в ее подвижном теле и еще более подвижной душе, вырывались наружу – мимика, танцы, слова то выстраивались в ряд, то причудливо перемешивались, а гости сперва бывали пленены, а затем и окончательно покорены. Одним словом, impromptu! В до-, в фа-мажор, в си-бемоль мажор…
Именно это си-бемоль мажор связало в свое время судьбу пересекшего тридцатилетний рубеж инженера Григора Арнаудова с молодой музыкантшей Екатериной Блысковой. Попали они в одну компанию, ночь из игривой превращалась в бурную, сыпались шутки, от ухаживания перешли к поцелуям, двое будущих супругов кидались от танцев к выпивке и переходили на многозначительные разговоры, постепенно затихавшие, превращавшиеся в воркование. Инженер, какова ваша формула жизни? – спрашивала раскрасневшаяся Блыскова, а Арнаудов театрально морщился: мне известна формула энергии, формулу жизни я пока еще ищу. Может, вам она известна?.. Угадайте! – поправляла свой наряд Блыскова, как бы невзначай оголяя ухоженную белокожую шею… Вам, конечно, она известна, ведь женщины – стихийные открывательницы законов бытия… И с наигранной нежностью в голосе он шептал: моя формула жизни – это вы, женщина в вас…
Предутреннее танго, перешедшее в блюз, вплотную сблизило их, они ощущали дыхание друг друга. А вы опасный… – прошептала она и вместо ответа почувствовала, как его сухие губы прикоснулись к ее шее и начали спускаться вниз, к ключице. Эти полные губы дарили многое и обещали еще больше, особенно посреди мертвого волнения блюза. Арнаудов ощущал, как время от времени по его телу пробегала дрожь, кровь бросалась в голову и отливала, чтобы уступить место новому порыву. От изящного стана Блысковой исходило какое-то незнакомое ему ощущение эфирности, странно сочетавшейся с доступностью, – он крепко обнимал ее за талию, прижимая к себе все более плотно, а она, не сопротивляясь, словно покорившись, неожиданно выскальзывала с той же легкостью, с какой прижималась к нему. Эта игра возбуждала его и озадачивала. Вы случайно помимо музыкального училища не кончали и школы фей? – спросил он после очередного выскальзывания, а она фыркнула ему прямо в ухо, как молодая кобылка в ноздри жеребца, и Арнаудов встрепенулся от заговорившей в нем страсти. Когда по просьбе гостей Екатерина села за фортепьяно и объявила гамму си-бемоль мажор, в душе его зашевелилось давно молчавшее вожделение, и он воспринял музыкальный термин как ключ скорее к душе пианистки, чем к музыке Шопена… Спустя несколько месяцев игривая Екатерина слегка оробела в первые интимные ночи, во время которых похоть будущего ее супруга с легкостью переходила в грубость, граничащую с садизмом, что со временем она стала воспринимать как странную аномалию его натуры. Ее догадка была верной, хотя она и не знала, что виной всему были тайные раны его юношества, с годами превратившиеся в маленький порок…
В свое время Григор Арнаудов, статный сельский юноша, покинул своих живших в достатке родителей и с огромным чемоданом из грубо выделанной свиной кожи в руках уверенно ступил на городскую мостовую. Начался второй период его жизни – гимназический. Григор долго подбирал себе жилье и в конце концов нанял меблированную комнату на чердаке, с отдельным входом, в одном из старых кварталов города. В этой полумансарде, выходившей окнами на горы, он прожил в одиночестве четыре года – всегда в мире с хозяевами, всегда в чистой одежке, в ученической форме или в выходном костюме, в компании отпрысков из зажиточных провинциальных семей. Обстановка его комнаты была скрашена картой мира, глобусом, довоенным „телефункеном", фотографиями киноартистов, русским и немецким словарями и турецкой феской, оставшейся от древних времен. В торжественные моменты Григор напяливал ее на голову, принимал важную позу и таинственно замолкал. С тех пор к нему и прилипла кличка – Визирь.
Смышленый и организованный, он быстро завоевал уважение учительского коллектива, особенно математиков и физиков. За все время учебы в гимназии он ни разу не получал оценки ниже „четверки"[13], не помнил, чтобы ему приходилось бормотать что-то невнятное из-за невыученного урока или убегать с занятий. С преподавателями держался подчеркнуто учтиво, никогда не спорил, даже если по отношению к нему допускалась явная несправедливость. Впрочем, подобные случаи были редки. Помимо математики увлекался спортом и языками, его общественная деятельность началась в местном физкультурном обществе, а завершилась в составе ученического руководства гимназии. Одним словом, Арнаудов являл собой что-то вроде местного образца гимназиста нового типа, оцененного учителями, уважаемого товарищами, обожаемого женским полом.
Однако он не поддавался соблазнам, до старших классов не пил, не курил, с девочками был осторожен: ходил в компаниях в кино, в кафе, на экскурсии, позволительны были танцы, но только до легкого флирта, не далее. И дело было не в том, что не хватало красавиц с вольным нравом, да и условий и поводов было предостаточно, чем, впрочем, не упускали случая воспользоваться его товарищи. Причины, как уже было отмечено, коренились как в унаследованной сдержанности молодого Арнаудова, так и в верности семейным нравам. Арнаудовы были потомственными виноградарями, разбогатевшими перед войной и сдавшими свои позиции после нее. Его дед и отец заключили почетное соглашение с новой властью, семейные владения влились в кооперативное хозяйство, им оставили лишь два обширных приусадебных участка. Вполне естественно, что близкие Григора были людьми беспартийными, на первый взгляд далекими от политики, хотя перед войной они тайно исповедовали умеренное германофильство. Эта скрытность, биологически неясная, но исторически объяснимая, – род Арнаудовых был древним, уходящим корнями в прошлое еще до освобождения от турецкого ига, – стала чем-то вроде родового герба, уцелевшего несмотря на все превратности болгарского бытия. И Арнаудовы ощущали это кровью, на уровне инстинктов. Перед тем как отослать голощекого Григора в город, дед и отец успели ему вталдычить: Григор, ты отправляешься в город учиться наукам, человеком стать. Мы люди меченые – и добром, и злом. Поэтому – как начнешь, так и дальше пойдет. Деньги у нас есть, в отличие от положения, которого уже никогда не будет… Так что смотри в оба, налегай на учение, со всеми умей ужиться, никакой лишней болтовни, никаких проказ. Учителей уважай, тем, что у власти, улыбайся – от тебя требуется диплом и имя!
Подобные уроки повторялись каждую осень и не были Григору в тягость, он уже усвоил, что в них есть толк, они – залог его будущего. Но сколько бы он ни придерживался установленного курса, ни сдерживал себя, все же ему не удалось устоять перед соблазном – в последнем классе начал потихоньку приобщаться к спиртному.
Пили анисовую. Образовалась у них четверка для игры в бридж, и к картам постепенно подмешалась водка. Замороженная, когда с закусью, когда без, поначалу она лишь согревала их лопавшиеся от здоровья тела, а затем стала размягчать их ласками накопленной страсти, которая по ночам заставляла Григора вертеться в поту без сна.
Однажды вечером они засиделись за картами, Григора развезло от выпивки, и он понял, что перебрал. Когда он вышел на воздух, стояла поздняя ночь, городок спал, и только откуда-то со стороны вокзала доносилось тяжелое астматическое дыхание – то ли маслобойни, то ли мельниц. Несмотря на то, что Григор был не в школьной форме, он по привычке двинул узкими, слабо освещенными улочками, мимо дощатых заборов и одноэтажных домов, сгрудившихся среди зелени. Они ему приятно напоминали о селе, да и маршрут этот был безопаснее.
Но вышло наоборот. На одном из перекрестков он чуть не столкнулся с Касабовой, учительницей пения в младших классах. Молодая женщина потеряла равновесие и оказалась в объятьях Григора. От нее пахло коньяком и духами. О чем они говорили, что делали, Григор не помнил, а позднее и не желал вспоминать. Касабова не была уроженкой этого края, жила одна, и за ней все время ходила мужская молва. Очнулся он, когда только начало светать, почувствовав странную легкость при ленивых несогласованных движениях и острую жажду, пронизывавшую его пересохшие губы. Он лежал на полу в незнакомой комнате с опущенными занавесками, голова его упиралась в ножку стола. Григор беспомощно огляделся в темноте и с нарастающим удивлением заметил контуры кровати, двух стульев, книжной этажерки, витого кресла-качалки. Над его головой висел фарфоровый абажур, вызывавший какие-то неясные воспоминания… И пока он пытался сообразить, что к чему, его тела коснулась чья-то тонкая, очень нежная рука, которая с гибкостью змеи обвила его шею, на груди очутились два мягких, невыразимо упругих шара, и он снова потонул во вчерашнем забытьи…
Так у Григора начался период греховных ночей, когда неистощимая Касабова, забыв о всяком стыде и мере, вгоняла его в срам и унижение. Это унижение было сложным ощущением – иногда сладостным до изнеможения, иногда болезненным до ярости, были и минуты, когда ему приходилось робко защищаться от неестественно агрессивного поведения учительницы пения. Приходя в себя, Григор закрывал глаза и долго не отвечал на ее ласки и слова, так же неестественно откровенные. В его отравленной душе, как в калейдоскопе, перемешивалось все только что испытанное совместно с этой невообразимо нежной и так же невообразимо грубой в своей алчности женщиной, от которой пахло коньяком и еще чем-то, что ему было не под силу определить. В разгаре страсти она позволяла себе неподозреваемые вещи, шептала ему на ухо убийственные слова, и они гремели в его горящей голове как отзвуки пира среди чумы. Это была та самая элегантная женщина, которая важно входила в класс, и эти же самые пухлые губы невинно выводили октаву или мечтательное начало песенки, нестройно подхватываемое несколькими мутирующими юношескими голосами…
Много раз, лежа в своей холостяцкой постели, вперив взгляд в угол комнаты, Григор покрывался краской стыда, вспоминая о ее движениях и воплях, а особенно об этих ее словечках, хлестких, как удары бича, бесстыдных, доводивших его до озверения, и тут он клялся себе, что ноги его больше не будет у Касабовой. Но наступал вечер, и он, безвольный и угрюмый, надевал свой выходной костюм и, как кошка, крался мимо дощатых заборов, сжимая в кармане влажный от пота ключ от чужой двери…
Тогда он не мог себе и представить, что через месяц после того, как Касабова внезапно покинет городок, он, тоже покинутый, затащит на свою мансарду знакомую девушку и в первую же ночь превратится в Касабова – атавистически неудержимого. Но тогда он уже знал другое – бывшая учительница пения приобщила его к чему-то низменному, постыдному, приговорила его на долгие годы, возможно, на всю жизнь…
Балчев вышел с работы и с первого взгляда заметил следователя, поджидавшего его на скамейке напротив. Станчев слегка подогнул ногу, в его позе сквозило что-то беспомощное, располагающее к доверию. Следователь и доверие… – поддел себя Балчев, ко всему прочему еще хромой! Должно быть, разнюхал о моей связи с Кушевой, черт бы побрал эту жизнь, этих женщин!..
– Привет, майор, – поздоровался он, – далеко ли зашло следствие?
Станчев инстинктивно поджал ногу.
– Полковник. Впрочем, это не имеет значения, особенно для следствия.
– Майор – как-то звучит лучше… – Балчев присел на скамейку. – Чем могу тебе помочь?
Ты только посмотри на этого артиста! – подумал Станчев, как и в прошлый раз озадаченный свободной манерой Симеона держать себя.
– Надо помочь истине, Балчев, только истине. Предлагаю зайти в какое-нибудь заведение, тут не больно удобно.
Симеон понял, что на этот раз легко отделаться не удастся.
– Знаешь что, давай двинем ко мне на хату, там только голуби будут нам свидетелями. Идет?
Через четверть часа они расположились в мансарде Балчева, и пока хозяин возился на кухне, Станчев разглядывал обстановку. Кушетка на полторы персоны с двумя тугими подушками, обитыми той же тканью, протертое кресло, маленький письменный стол, заваленный газетами и журналами, портативный телевизор, ветхий чипровский[14] ковер с веселыми птичками в ромбах, стенной платяной шкаф. Все это больше походило на жилье аспиранта или на худой конец молодого специалиста. Должно быть, Балчев оставил все нажитое бывшему семейству. Неужели же здесь он встречается со своей претенциозной пассией?
Вошел Симеон с подносом, вытащил из угла складной столик, наполнил рюмки.
– Твое здоровье, майор! Не знаю почему, но я-то тебе доверяю. Хотя ты меня не совсем понимаешь…
Симеон сделал глоток, крякнул, Станчев слегка отхлебнул.
– Балчев, мы с вами не так хорошо знаке..
– Майор, давай на „ты"… – Симеон приложил руку к груди. – Понимаешь, когда я говорю о серьезных вещах, нет сил соблюдать разные этикеты…
Или блефует, или, правда, он чист, подумал раздраженный Станчев.
– Я сказал, что мы плохо знакомы, а мне надо распутывать дело, сам знаешь какое. Поэтому предлагаю – начистоту. Начистоту – понимаешь, Балчев.
– Майор, ты меня обижаешь…
Лицо Станчева покрылось румянцем.
– Слушай, – он повысил голос, – с Кушевой ты был близок, она даже забеременела от тебя. Почему ты это скрывал?
Балчев побледнел, челюсть его дернулась, и он погасил сигарету.
– Ясно, аптекарша… Что тебе сказать, брат, приберег я эту историю, но несмотря на все я чист, чист – понимаешь?
– Симеон, ты отдаешь себе отчет в последствиях такого поведения?! Чего ты боишься, если так уж чист?
Балчев медленно приходил в себя.
– Майор, давай разберемся по-человечески. Анетта мертва, я ее бывший – повторяю – бывший любовник. Разве не естественно с моей стороны избегать лишних подозрений?
– Что за детский лепет? Ты что, думал, ваши отношения могут остаться для нас тайной?
– Ничего я не думал… Просто сработал инстинкт, ошибка вышла.
Балчев опрокинул еще одну рюмку.
– А сейчас я тебя попрошу освободиться от любых инстинктов, я понятно выражаюсь?
– Сглупил я, признаюсь, – простонал Симеон. – Все тебе расскажу, от А до Я.
Станчев помолчал, что-то обдумывая.
– Где и как познакомились – только точно!
Балчев подробно рассказывал, а следователь мысленно сверял факты, все совпадало с показаниями Ваневой.
– И дошли до беременности, которую ты тоже предпочел скрыть. Почему?
– Майор, это не имело ничего общего с концом, уверяю тебя.
– Откуда такая уверенность?
– Все очень просто: Анетта сделала аборт, это было давно, мы расстались, она – налево, я – направо, и с тех пор – хочешь верь, хочешь не верь – я к ней не прикасался.
Станчев где-то вычитал: когда женщина понесет новую жизнь, во Вселенной что-то изменяется, – и тогда эта мысль произвела на него сильное впечатление.
– Анетта хотела родить ребенка, она тебя любила. А ты?
Старомодный тип, подумал Балчев.
– Я знаю, что нехорошо возводить поклеп на мертвых. Но я, майор, не был уверен в ее чувствах, Анетта мне не намекала о ребенке, она не ожидала такого поворота событий – я, разумеется, тоже. И когда стряслась беда…
– Беда?
– Ну хорошо… случайность произошла. Зачем опять повторять, что у нас не было такого намерения, а она вдруг стала настаивать на этом ребенке.
– Ты хочешь сказать, что она рассчитывала выгодно выйти замуж?
– Я замечал в ней что-то подобное, и это меня отталкивало. Понимаешь, это было интуитивное ощущение, строившееся на мелочах.
– Можешь припомнить что-нибудь конкретное?
Балчев поморщился.
– Сейчас расскажу – было это ночью, она прошептала мне на ухо: Симо, а не отправиться ли нам в субботу в горы, кстати прихватим одну мою подружку?.. Я сразу не сообразил, в чем дело, и спросил, почему не вдвоем, а с какой-то подружкой – это было уже после развода. Она же в ответ: а что в этом плохого, ты ведь не любишь играть в прятки?.. Тут я понял, что к чему, – Анетта переходила в атаку…
– И что ты ей ответил?
– Что я ответил? Слишком уж я беззаботен для игры в прятки, у меня душа нараспашку. Так и сказал, а она навалилась, и все пошло колесом… – они переглянулись. – Ты спросишь, как она обвела вокруг пальца? Ох майор, Анетта была коварной женщиной – чувственной, страстной, но и опыта ей было не занимать.
– В сексе?
– Именно. Но послушай, что было потом… В самый разгар она виртуозно отпрыгнула, как тигрица, свилась в клубок и прошипела: мы, женщины, нужны только для постели, не так ли, товарищ директор? На большее не пригодны… И повернулась ко мне спиной, – они снова переглянулись. Станчев ждал еще информации, и Балчев заметил про себя, что следователь – малый не промах. – Я, раздосадованный, отвернулся, что-то во мне оборвалось, потом расслабился и уснул. Сейчас внимание – кошечка подстерегала меня, она выждала, пока я погружусь в сон, и мигом вскочила на меня, я даже не успел опомниться… Думаю, что именно тогда…
– Что тогда, Балчев?
Симеон долил в рюмки.
– Может быть, именно в ту ночь она зачала, в суматохе.
– Странное определение.
– Что в нем странного, майор?
– Что близость с женщиной ты называешь суматохой. Явно, ты ее не любил.
– Не совсем так – я увлекся. Анетта то швыряла меня на седьмое небо, то шмякала о землю, бывали сумасшедшие ночи, может быть, самые дикие…
– Балчев, обрати внимание: именно в период этих диких ночей у тебя и появилась новая пассия, извини за термин. Это как можно объяснить?
И об этом ему известно, снова скрипнул зубами Симеон.
– Что было, то было, – пробормотал он. – Но поверь, я и сам никак не могу найти сносного объяснения.
– Я из верующих, – Станчев с ностальгией вспомнил недавний разговор с дочерью. – Что было потом?
– После аборта?
– После зачатия.
– Как тебе сказать… Она хотела оставить ребенка, это правда. Думаю, что она даже сильно переживала известное время. Но потом как ножом отрезала, и это был конец наших отношений.
– Ей было известно о сопернице?
– Вопросов не было, должно быть, не знала.
– Так почему же – отрезала?
– Поняла, что я не хочу ребенка.
– И заводить семью?
– Да, и семью. Ты прав.
– И пошла на это в порыве оскорбленной гордости и отчаяния, не так ли?
– В порыве оскорбленной гордости и отчаяния, хорошо сказано, но я еще добавлю – подчинившись трезвости взглядов. Анетта никогда не строила иллюзий, и это меня подсознательно отталкивало от нее – я это понял уже позднее.
– Муки совести?
– Называй, как хочешь, просто мне было не по себе. Чувствовал какую-то вину.
– Из-за ребенка?
– Ты этого ребенка слегка обожествляешь, майор. Да нет, просто по-человечески.
– А ведь в жилах этого ребенка текла и твоя кровь!
– В его – да, в ее – нет. Анетта оказалась не моей группы крови.
Важное изречение, отметил Станчев.
– Продолжай, я тебя слушаю. Балчев встал, чтобы поразмяться.
– Майор, я вижу, ты меня подозреваешь… Как тебе объяснить, как тебе втемяшить, что у меня и мысли не было об убийстве? Я курицу зарезать не могу, никогда, даже во сне, меня и кошмары такие не навещают, слава богу… Уж если на то пошло, я ведь сам могу стать жертвой – да-да, по невниманию, рассеянности, из-за слабой самозащиты – как угодно, и это может случиться в любой день, но я, – Симеон уперся указательным пальцем себе в грудь, – я сам не способен на подобное, нет у меня этого в генах!
Станчев стоически слушал.
– Вижу, что не веришь. Вижу – и кипячусь от бессильной ярости… Хорошо, давай подумаем вместе, как товарищи, как люди, как коммунисты, если угодно. Я не могу понять и никогда не пойму – зачем?.. Нет, и вправду, зачем мне было посягать на жизнь Анетты и ставить себя под удар? А, Станчев? Нет у меня причин, мотивов нет, интереса, ничего нет. Если завтра мне накинут петлю на шею и спросят, ты меня спросишь: скажи нам всю правду, и тебя помилуют! – мне нечего будет сказать, и придется раскачиваться на виселице – хоть это ты можешь понять?
Следователь молчал.
– Мы расстались, она сделала аборт, ничего мне не сообщив. Помню ее взгляд перед расставанием – потухший, лишь в глубине тлел маленький уголек, как будто вспыхивая от ветерка, – не просто было выдержать такой взгляд… Да, Анетта как-то ушла в себя, не повышала голоса, не говорила лишних слов, не проклинала меня… Прощай, Симо, сказала и отвернулась… Поверь, я редко чувствовал себя таким ничтожеством, но, как ты знаешь, время – лучший лекарь… Позднее я узнал, что аборт прошел успешно…
– От кого, от Ваневой?
– От нее. Потом она мне сказала, что Анетта полностью оправилась от пережитого, – у меня на душе полегчало, я даже восхитился ею: она оказалась сильным человеком, несмотря ни на что.
– А ее новая работа? Такая гордячка – вдруг согласилась на ходатайство с твоей стороны?
– Это совсем другая история, майор, вижу, ты уже успел побывать и у Комитова… Однажды мы с ней случайно столкнулись на Витоше[15], да, точно у синодального книжного магазина, сначала разминулись, затем она обернулась, слово за слово, что да как, где с иронией, где с интересом, знаешь, как бывает между когда-то близкими людьми: все перерезано, артерии, вены, аорты, а все-таки чувствуешь, что где-то остались какие-то капилляры, что-то едва-едва пульсирует, безнадежно, но бьется, и говоришь себе: что за создание – человек, не все в нас умирает, не все прерывается и угасает… Я это почувствовал именно тогда и уверен, что и она ощутила нечто подобное, но не об этом речь… Так вот, у книжного магазина мне пришло в голову сделать что-то для нее, разумеется, если бы она согласилась, ведь я хорошо знал ее норов.
– И она согласилась?
– Мучительно, майор, мучительно. Сначала даже расхохоталась мне в лицо. И во время разговора по телефону я ощущал ее снисходительную улыбку, так хорошо мне знакомую. Но в конце концов, когда она поняла, что вместе мы работать не будем, когда она убедилась – мне так по крайней мере кажется – в моих добрых намерениях и желании искупить свою вину, тогда она приняла мое предложение. Анетта умела забывать о гордости, когда этого требовали ее интересы.
– А точнее, что за интересы могли у нее оказаться на новом месте?
– Различные. Более высокий ранг, всевозможные поездки за границу – карьера. Она не была создана для аптеки, для тихого уголка. Сама мне говорила, что из нее получится образцовый эксперт, только бы нашлось кому оценить ее.
– Один важный вопрос, Балчев: дело тут было в личных амбициях или в профессиональных стремлениях?
– И в том, и в другом, майор.
– Это объективное суждение?
– Мне кажется, да. Анетта всегда стремилась чем-то блеснуть-то новым нарядом, то своими познаниями в области секса, – при всем при этом она никогда не забывала о положении и авторитете.
– А какая-нибудь корыстная цель с далеким прицелом?
– Например?
– Например, связи за границей, тайные услуги и тому подобное?
Балчев задумался, и это не ускользнуло от следователя.
– Ты намекаешь на ее происхождение?
– А ты не думал о нем, когда предлагал ее кандидатуру Комитову?
– Конечно, думал, но, честно говоря, я никогда не считал Ани продажной душонкой, гордость у нее была врожденная, а не благоприобретенная.
– Что ты можешь сказать о ее политическом мышлении? Или тебе известно только о сексуальном?
– Майор, давай без подковырок. В наших беседах с Анеттой не раз и не два затрагивались серьезные вещи, и хотя она была осведомлена о них чисто по-женски, голова у нее работала, она знала жизнь, знала, что такое удачи и поражения.
– И как она к ним относилась?
– Видишь ли, в чем дело: Анетта по-настоящему жила лишь в любви, в остальном ею руководила выгода.
– Короче говоря, типичная прагматичка.
– Майор, а ты сентиментален!.. И за мной водится этот грех, но не в такой мере. По-моему, двадцатый век можно смело уподобить старому, а двадцать первый – молодому и подтянутому прагматику. Нужно всегда увязывать идею с пользой, чтобы они смогли полюбить друг друга и обвенчаться, а не ходили, как разведенные, порознь.
– А разве мы этого не делаем?
– Вопрос в том, хорошо ли мы это делаем.
– Не только в этом вопрос, но это уже другая тема… Скажи мне, но только по-мужски: какие у вас были отношения с Кушевой в эти последние годы – случались ли неприятные стычки, появлялась ли ревность, возникало ли желание близости?
– Виделись мы редко – работали на разных этажах в разных отделах, так что наши контакты ограничивались случайной чашечкой кофе, случайным анекдотом в коридоре, – Анетта держалась безукоризненно, как будто между нами никогда ничего не было.
– Что-то не верится – ни одного более доверительного разговора, совместного ужина, прогулки?
– И все же было именно так – она не допускала таких вещей.
– А ты?
Балчев пожал своими накачанными плечами бывшего спортсмена.
– Честно говоря, я себя не спрашивал, но, должно быть, не отказался бы. Разумеется, если бы она захотела.
– Раньше вы встречались и в ее квартире, не так ли? – Балчев кивнул. – Тебе не казалось странным, что у Анетты отдельная квартира, софийская прописка, аппаратура, картины, машина и прочее?
– Конечно же, сперва показалось, но от нее я узнал, что все дело в старой закваске: в свое время ее дед владел магазином тканей, у отца мощные связи в торговле, вот они и разжились деньжатами, да и сама Анетта была очень дисциплинированной, умела хранить и копить, можно даже сказать, была скуповатой. В этом отношении мы были полной противоположностью.
– И все же, не заходило ли конкретно речи о квартире?
– Станчев, на такого бездомного бродягу, как я, эти вещи не производят впечатления, но сейчас припоминаю, что как-то раз я ее спросил, и она промямлила что-то о помощи влиятельного знакомого, который не представляет интереса.
Станчев помолчал, чтобы привести в порядок свои наблюдения. После расспроса Анеттиных родителей и осмотра их дома в провинциальном городке сложилось впечатление, что деньги в этой семье водятся, ее благосостояние, как выразился Балчев, старой закваски, и благодаря этому была обеспечена квартира и большая часть обстановки. Но о картинах и некоторых импортных вещах, таких, как японская стереоаппаратура и цветной телевизор, старики ничего сказать не могли. Не могли объяснить и то, как их дочери удалось заполучить столичную прописку, – это было ее личное дело. И мать, и отец были убиты гибелью своего единственного ребенка, в первый день бормотали что-то невнятное со слезами на глазах, на второй день взяли себя в руки, и из их ответов Станчев заключил, что у них нет связей в столице, а о знакомствах Анетты, судя по всему, они не были осведомлены. Проверки и характеристики, равно как и сведения, полученные от соседей и знакомых старых Кушевых, подтвердили тот же вывод – родители Анетты были типичными провинциалами, не высовывавшимися из своего городка с молодых лет. Экспертиза не смогла установить автора пейзажа без подписи, весьма посредственного живописца, но вот художник, написавший вторую картину, сравнительно известный портретист, подтвердил, что продал произведение в своем ателье какой-то молодой женщине и ее спутнику, пришедшим туда по рекомендации их близкого друга, чье имя не было названо. Портретист довольно точно описал Анетту, а вот в отношении мужчины перечислил лишь беглые подробности: высокий, стройный, с легкой сединой в волосах и в темных очках. Хорошо одетый, солидный, говорил мало, женщина выбрала портрет, а он заплатил. Больше художник ничего не мог сообщить – ни о двух своих клиентах, ни о знакомых, которые могли бы посоветовать его работы этим покупателям. Тем не менее Станчев обошел друзей художника и расспросил их, но безрезультатно. Ничего существенного не сказали ему и в Союзе художников, лишь дали одобрительную характеристику портретисту. К сожалению, молчал и сам портрет.
И вот сейчас Балчев нечаянно проговорился – влиятельный знакомый, чье имя оставалось в тайне. До сих пор никто из окружения Кушевой не признавался, что видел его или же что-нибудь о нем слышал. Это было вдвойне странно в отношении соседей Кушевой и Ваневой. Не могло быть, что никто его ни разу не встретил на лестнице или на улице, узнал о нем по телефонному разговору!
– Ты кого-то ждешь? – неожиданно спросил Станчев и заметил, что Балчев вздрогнул.
– Нет, а что?
– Просто мне показалось, что ты выключил телефон в прихожей.
Симеон густо покраснел.
– Я выключил его, чтобы никто нам не мешал…
Следователь впился взглядом в его лицо.
– Балчев, я внимательно выслушал тебя и сверил твои показания. Во-первых, ты скрыл свою связь с Кушевой и ее беременность. Я пока еще не могу найти объяснение этому странному факту, но будем считать, что ты просто оробел. Но ты скрыл и еще одну важную деталь – имя высокого покровителя Анетты, которое не могло не вызвать у нас интереса. Почему ты смолчал? Кто этот человек?
– Да я в глаза его не видел! – изумился Балчев.
– Ты уверен? Может быть, виной тому были его темные очки?
– Майор, ты рехнулся!
– Возможно, но все-таки ты знал о нем, ты же только что признался. Почему ты его покрываешь?
– Я его покрываю? – Балчев развел руками. – Абсурд, Станчев, полный абсурд. Если бы ты меня не спросил, мне бы и в голову не пришло…
Станчев снова ушел в себя. Из квартирной справки следовало, что Кушева не была собственницей, а проживала в квартире, принадлежавшей какой-то старухе из провинции. Подписав договор, старуха получила солидный задаток на несколько лет вперед. Договор был не совсем законным, но все подписи и печати были на месте. При проверке старуха сказала, что Анетта приехала к ней чуть ли не на следующий день после того, как в газете поместили ее объявление, а остальное оформил адвокат в Софии. Однако в нотариальной конторе отсутствовали сведения об адвокатской услуге, а ставивший свою подпись нотариус недавно отправился в мир иной.
– Значит, о высоком покровителе тебе ничего неизвестно? – вернулся к разговору Станчев. – А на тебя не произвело впечатления, что речь шла о довольно серьезной услуге – о жилье?
Балчев не знал, что и ответить, – и вправду он об этом просто не задумывался.
– Да уж залезли мы в болото! Чтобы из него выбраться, нужна твоя помощь – любые подробности об этом мужчине, – прервал паузу следователь.
Балчев весь напрягся, но в голову ничего не приходило.
– Ничего не могу припомнить, ей-богу…
– Хорошо, зайдем с другой стороны. Разве вы не касались в разговорах своих прежних приключений, не рассказывали о них? Какая-нибудь ситуация, намек, случайно названное имя, всякие мелочи, крохи?
– Я же тебе говорил, Станчев, что Анетта была скрытным человеком – ни у меня не выспрашивала, ни о себе не рассказывала. Принимали друг друга такими, какими мы были.
– А браслет? Что значит буква В на внутренней стороне?
Балчев не имел ни малейшего представления – никогда не разглядывал браслет, да еще с внутренней стороны. Либо он, правда, лопух, либо решил обвести меня вокруг пальца, причем делает это с завидной артистичностью, снова подумалось Станчеву.
– Ты упоминал о какой-то ее подруге – кто она?
– Думаю, что Ванева. Анетта не дружила с женщинами, не верила им.
– А мужчинам?
– Ну, говорила, что мы все – похотливые твари, но без нас жизнь потеряла бы смысл.
– Ведь она была тщеславной?
– Одно не мешало другому, майор. Она искала одновременно и самца, и ракету-носитель.
И заместителя генерального директора променяла на тренера по теннису, добавил про себя Станчев, странно.
– Странно, Балчев, странно, – вслух повторил он. – А ты не слыхал об одном молодом архитекторе, твоем сопернике?
– Об архитекторе? – Симеон вылупил глаза. – Первый раз слышу.
– Да-а-а, – протянул следователь, – давненько я не сталкивался с таким обескураживающим отчуждением да еще с полной потерей памяти…
– Причем здесь потеря памяти, – недопонял Балчев.
– Да притом: никто ничего не видел, не замечал, не слышал, никто никого не помнит, даже и по документам. Значит, кто-то очень сильно постарался, не могут же все поголовно страдать склерозом…
– Майор, я же тебе говорил…
Вдруг ясно послышалось, как в замочной скважине входной двери поворачивается ключ – кто-то вошел и остановился в прихожей. Балчев побелел, как мел, нервно дернулся и со словами „один момент" вышел из комнаты. Послышался шепот, падение какого-то деревянного предмета, и стук каблуков затих в кухне. Вошел Симеон и привалился спиной к двери. Мужчины в упор смотрели друг на друга, ожидая, что предпримет другой. Но Станчев невозмутимо молчал.
– Одна знакомая, звонила по телефону и решила заглянуть… – смущенно объяснил Балчев.
– С собственным ключом?
– А что, она не имеет права?
– Замужняя?
– А это тебе зачем, майор?
– Профессиональное любопытство… И сейчас ждет на кухне или в ванной, пока я уйду. Может, пригласишь ее сюда?
Лицо Симеона исказилось в страдальческой гримасе.
– Не надо, Станчев…
– Значит, замужем, – следователь бросил на него колючий взгляд. – Вот что…
– Вы за мной следите? – не поверил своим ушам Балчев и присел на кушетку.
Станчев размял свою затекшую ногу и поднялся.
– Ухожу я. Беги к своей очередной поклоннице, товарищ Дон-Жуан! И будь осторожен, на этот раз очень осторожен…
Не глянув в сторону кухни, Станчев пересек тесную прихожую и начал спускаться по крутой лестнице.
Просторный дом Арнаудовых сиял всеми своими люстрами, светильниками, лампами и лампочками… Впрочем, простите, дорогие читатели, даже в прихожей простых лампочек не было, на каждую из них был надет прозрачный абажур определенного цвета – разумеется, импортный. Мадам, как дома в шутку называл свою жену Арнаудов, сновала в своем дорогом атласном пеньюаре из комнаты в комнату, распоряжалась и приказывала, а Григор и Розалина, их дочка, студентка третьего курса консерватории, будущая пианистка, послушно приносили какие-то спортивные приспособления, упаковывали в станиоль или просто складывали пищевые продукты – телячьи и свиные ножки, копченые колбасы и филе, консервированных раков, крупные, как бычий глаз, маслины, брынзу в коробках, испещренных арабскими иероглифами, свежую форель, баночку черной и баночку красной икры, майонезы, рокфор – чего там только не было! Все это вынималось из двух огромных холодильников – ЗИЛа и „Сименса", каждого с двумя морозильными камерами и с автоматической системой регуляции температуры и размораживания. Отдельно, в пластмассовые коробки, укладывались охлажденные овощи и фрукты – от петрушки и мяты до ранних крупненьких черешен и поздних маленьких бананов.
– Не забудьте редиску! – слышался голос мадам. – Вангелов ее обожает… Гриша, ты позаботился о напитках?
Арнаудов загодя уложил в объемистую сумку бутылку шотландского виски, греческую анисовку, знаменитую перловскую ракию, марочные красные и белые вина, старазагорское и австрийское пиво. В проволочных ящиках мирно покоились бутылки с прохладительными напитками – минеральной водой, кока-колой, лимонадом, домашним муссом из вишен.
– Папочка, мы забыли фазанов… – мимоходом кинула Розалина. – У товарища Вангелова особое пищеварение…
Арнаудов косо поглядел на дочь.
– Занимайся своей музыкой!.. Погоди, ты что, остаешься?
– Имею высочайшее позволение.
– Опять пирушка. Ох, ты у меня дождешься!
Розалина обернулась и многозначительно подмигнула отцу.
– Папа, твоя Роси отлично знает, что позволено в этом ответственном доме, а что нет… – она чмокнула его в висок.
– Ответственными бывают не дома, а их владельцы – хорошо бы тебе…
– Запомнить это? Знаю, знаю, знаю! Все знаю! – Розалина исполнила пируэт и застыла на месте, как балерина. – Знаю, что в отличие от воды жизнь течет по вертикали. Что ирония позволена только сверху вниз. Что снизу вверх разрешено раболепие. Довольно?
В окружении всевозможных пакетов они уставились друг на друга. Розалина понизила голос:
– Папочка, я все знаю, и порой мне становится страшно… и весело. Бай-бай.
Она исчезла в другой комнате. Арнаудов постоял мгновение-другое, рассеянно уставившись в акварель, висевшую на стене напротив, – подарок молодого художника. Он помог ему выгодно пристроиться и получить заказ на оформление ярмарочной палаты за рубежом. Надо бы ее взнуздать, эту кобылку, но как? – в который раз он задал себе вопрос, так и оставшийся без ответа.
Арнаудовы загрузили светло-голубое „БМВ", сияющее снаружи и внутри, еще раз наказали дочери быть внимательной во всех отношениях, особенно с замками с секретом, врезанными во входную дверь, и к завтрашнему вечеру на своей „шкоде" на дачу. И ни капли алкоголя, понятно? Роси кивнула, провожая взглядом светящиеся фары автомобиля и мигающий с подковыкой сигнал поворота. Мой ответственный папа – король поворотов, король.
Густая тишина дома окутала ее словно туманом. Она потушила свет, оставив гореть лишь бледно-салатный торшер у пианино, молчавшего с покорностью сытого и умытого молодого буйвола. Подняла крышку, взяла несколько бравурных шопеновских аккордов, звонких, порывистых, которые незаметно перешли в хроматические блуждания Брукнера, полуднично приглушенные и благородно безысходные. Век девятнадцатый минул, сейчас на дворе двадцатый век, вздохнула Роси, надо завязывать с этим пианино!
Она встала и принялась бродить по дому, зажигая свет в каждой комнате. Чего тут только не было – персидские ковры и коврики, огромные гобелены, подаренные или купленные картины, узорчатые гипсовые потолки и мраморные полы, даже стены спальни были обиты японскими шелками. Роси застыла на пороге. Вероятно, она была зачата на этой старинной двухспальной кровати в окружении низкорослых стражей – ночных шкафчиков. В одном из ящиков комода лежал альбом с ее фотографиями в грудном возрасте. Упитанное толстощекое существо с вытаращенными, глуповатыми глазами. Молодой побег ветви Арнаудовых. Отец – начальник, мать – подающая надежды музыкантша, впоследствии важная шишка на радио. В национальном радиовещании, поправила себя она. Так звучит более почтенно, совсем как пьедестал. Национальный уровень, проблема национального значения, национальное, национальное. Может, это комплекс или… И то, и другое. Родившиеся и выросшие в провинции, ее родители вставали и ложились с этим миражом… А миражом ли? Для них это был вопрос жизни, судьбы, что значило – карьеры. Карьера средненькая, но на уровне, в центре. Кто знает, кто знает…
Она заглянула в кабинет матери. Старинный столик с перламутровыми инкрустациями, старинный стул с высокой судейской спинкой, ночник западного производства, бюст Бетховена, книги с биографиями и мемуарами композиторов, программы передач, музыкальные журналы, „Шогун"[16]. У мамы был талант, это даже сейчас заметно, когда она садится за пианино. Но эти перстни, браслеты, ожерелья, колье, медальоны, золотые и платиновые заколки и брошки, монеты эпохи Александра Македонского и Юстиниана – они-то уж точно нуждались в описи и хранении в госбанке, а может, в районном отделении милиции… Как это произошло? Розалина наморщила свой гладкий лоб. Все очень просто, Росси, она любила произносить свое имя с двойным „с", первое разочарование, второе, слезы и рыдания, новые надежды, вдруг бац! – появляется товарищ Арнаудов, опытный, элегантный, самоуверенный, вроде бы интеллигентный, перспективный – бац! и отправились на машине в ресторан, бац! – и в постельку… Бац, бац! – произнесла она вслух и сладостно пощупала свои по-античному маленькие груди. И все закрутилось – свадьба при свечах, высокопоставленные кумовья и гости, путешествие по Европе, строительство новой квартиры, мебель… Погоди, погоди, меня же зачали не здесь, а на этой ужасной улице Веслец… В сущности, какое это имеет значение?! Джон вырос в Коневице[17], а он – лучший музыкант на курсе, гораздо лучше меня, но я отвлеклась… На третьем курсе учеба была прервана по причине беременности – великого таинства природы, она произнесла последние слова вслух голосом известного актера. Тогда шло капитальное строительство жилища, его обзаведение по всем линиям и каналам, бац – и она получает место редактора на полставки, бац – зачислена в штат, бац-бац – уже замначальника, бац-бац-бац! – всемогущий шеф редакции. Командировки за рубеж, фестивали, Тина Арнаудова превращается в товарища Арнаудову. „Унесенные ветром", „Граф Монте-Кристо", „Дама с камелиями", „Роман Яворова", как там его… ах да, „Обветренные холмы", ну и наконец „Шогун". Была б я писательницей, Роси потянулась и замерла, такой бы „Рэгтайм" закрутила, да нет желания!
Растратчица времени, Роси прочитала „Рэгтайм" Доктороу между двумя пирушками и впала в такой восторг, что даже не знала, с кем им поделиться – с близкими и знакомыми или же с небесами. Выбор пал на небеса. Страшная штука – это небо, оно все поглощает и ничего не дает взамен, лишь лунные иллюзии… И еще немного солнца, дождя, ветра и снега, поправила она себя, и утешение в безразличии, бездонное, как оно само. Мысль ей понравилась – утешение в безразличии – да, неплохо.
Она остановилась перед открытой дверью отцовского кабинета, здесь ей все было известно наизусть: инженерная и экономическая литература, морские и торговые атласы, справочники, словари, энциклопедии, альбомы, путевые заметки, брошюры, какая-то многотомная история дипломатии, должно быть, он ее ни разу не открывал – эх, мечты, мечты… и романы, большинство из которых он тоже не читал. Но все книги чистенькие, аккуратно выстроенные в ряд, они украшали дубовые шкафы, закрывавшие противоположные стены, а посреди в мудром одиночестве стоял такой же солидный дубовый письменный стол, на котором располагались кожаные папки, пластмассовые стаканчики с ручками и цветными карандашами, малахитовая чернильница и мраморные шкатулки на бронзовых ножках. Здесь же находился старательно подклеенный старый немецкий глобус. Отец гордился им, говорил, что это память о школьных годах – э-э-эх!
Роси улеглась на кушетку, на матрас, набитый морской травой, равно как и алжирские кожаные табуретки в форме ручных мельниц, стоявшие по одну сторону камина в гостиной. Этот камин клал один старичок, бывший царский печник, обращавшийся ко всем со словами – „господин и госпожа". Камин был сделан по образцу, взятому из датского журнала, – специальные кирпичи, кованая медь, нетемнеющая латунь, страх и ужас! Разжигали камин осенью и перед Рождеством, исполняли народные обряды, пекли пироги и прятали в них записки с шутливыми пожеланиями, напевали полузабытые песенки ряженых, запах измирского ладана, благовония из Греции и с Ближнего Востока – только с Дальнего Востока ничего не было. Впрочем, неверно. Был резной столик с Филиппин, купленный на толкучке, индийский кувшин ручной ковки с ручкой в виде лебединой шеи, из которого никогда ничего не вытекало. Внимание, Росси: к кому природа была более щедра, кому больше благоволила – товарищу Григору Арнаудову или товарищу Екатерине Блысковой-Арнаудовой? Розалина зажмурилась и немного постояла с закрытыми глазами. Она любила этот трепещущий полумрак, в его объятиях мысль текла легко, свободно, минуя препятствия зримого. Папа – логик, бац, педант, бац, материалист, бац-бац! Начинал он с глобуса – путешествия, романтика, громадные звезды над Фамагустой, а добрался до поста крупного торговца, тут машина, там аппаратура, спрос и предложения, конъюнктура – бац-бац-бац!.. Роси подняла ногу, юбка задралась и оголила стройные ляжки, симметрично сливающиеся в Евином междуречье. Конъюнктура, повторила она вполголоса, вот это слово! Папа – человек карьеры, любой ценой, на всю жизнь, беспрекословно, безусловно, без, без… Значит, он и есть конъюнктурщик – бац. А мама – его тень. Чуток духовности, „Унесенные ветром", бац-бац. Роси опустила одну ногу и подняла другую. А моя милость, Роси и тэ дэ Арнаудова, двадцати двух лет, начинающая пианистка с мощной тягой к выпивке и сексу, золотая девчушка с платиновым взглядом… Эх, что тебя ждет, милое создание – всемирные конкурсы, венская, амстердамская, филадельфийская филармонии с дядей Караяном, ну, разумеется, не так ли? Черта с два!..
Раздался звонок – один, два, три…
Роси бесшумно прокралась к двери и таинственно ее отворила. В прихожую ввалились два парня и девушка, все в джинсах.
– Предки умотали? – огляделся один из пришедших, русоволосый, с пронизывающим взглядом голубых глаз.
Роси важно кивнула.
– Тогда начнем. Я изнываю от жажды.
– А я – от голода, – заявила девица с каштановыми волосами, круглыми птичьими глазами, с обтянутыми джинсами бедрами.
По дороге на кухню Роси включила аппаратуру. Из гостиной послышались дикие английские голоса, казалось, неизменившиеся со времен Генриха VIII, подстрекаемые звуками столь же цивилизованного оркестра. Хозяйка быстро вернулась, толкая нагруженную тележку с портретом Наполеона.
– Прошу вас, господа, – виски, джин, водка, анисовка, коньяк. Как всегда, у нас самообслуживание.
Они погасили люстру, сверкавшую своим австрийским хрусталем, расхватали бутылки: здесь привыкли пить из горла и не разбавляя, за исключением разве что джина и анисовой. Особенно старались Тома и Роси, словно они договорились, кто кого перепьет. Она сновала между кухней и гостиной, подносила закуски, что-то бормотала и целовала в лоб своего приятеля Ивана, студента консерватории. Хочу, чтоб ты полностью расслабился… – шептала она ему, вот так… Много пьешь, бросал Иван, он разговаривал с другой гостьей, Эмилией, и был занят своими мыслями. Не дури, отвечала Роси. В ее глазах уже начинал появляться тот особый блеск, дикий, выдававший приближение ее внезапных выкидонов. В любое время без видимого повода она могла взгромоздиться своими точеными ножками на стол и двинуть вызывающую речь – смесь иронии, полуциничных намеков и безумных обобщений, или начать танцевать с прекрасной пластикой и умением, стаскивая с себя и расшвыривая одежду, белье, пока не оставалась почти голой. Но сначала ей требовалось накачаться…
– Господа, знаете, как мы будем выглядеть через час? – сверкнул своими лимонадными глазами Тома, студент-политехник, одно время занимавшийся боксом. Одно его ухо росло вкривь – от прямого попадания, как он сам выражался.
– Пир во время чумы…
– Правильно, Эми, получай конфетку! – Тома приподнялся и небрежно поцеловал Эмилию. Она занималась испанской филологией, а школьные годы провела с отцом за границей.
– Это из „Декамерона"? – спросила Роси.
– Что, конфетка?
– Пир, дорогой мой.
– Нет, не из „Декамерона", – неуверенно вставила Эмилия.
Я тебя напою, прошептала Роси на ухо Томе, сегодня я в обалденной форме… А по этому делу? – ухмыльнулся Тома. И по этому, а ты из любознательных? – она загадочно ему усмехнулась.
– Обожаю пиры, дети мои! – восторженно воскликнул Тома. – Я ощущаю в себе взрывоопасную смесь свободы и хаоса…
– Громкие слова, – поддел его Иван. – На всю Европу…
– Эх, протестант, тебе меня не уязвить. Те, кто выросли в хаосе, стремятся насадить порядок. Но свобода не терпит протестантского порядка, она – капризная дама!
Они перекинулись взглядами.
– А ты, я вижу, знаток. Только откуда дама – из бара „Астория" или с птичьего базара?
Тома нащупал бутылку с виски.
– А почему бы не из Коневицы? Зажигательная шопская[18] плясовая или рок'н'ролл с мадам, выбирайте, детки мои!
– Неповоротливый ты мой! – подхватила Роси.
– Нет, правда, а почему бы не из Коневицы! – нападал подвыпивший Тома.
– Ты еще мал играть в эти игры, парень! Возись со своей техникой! – отрезал Иван.
– Господа, кандидат в музыканты растет на глазах… Поглядишь, так завтра наш идейный сакса-афон примется нами руководить!
– Том! – не выдержала Эмилия.
– Ты этого заслуживаешь, – мрачно произнес Иван. – А саксофон, между прочим, пишется с „о".
Тома уставился в непроницаемое лицо Ивана.
– Ты собираешься мной руководить?
– Руки не хочется пачкать, и душу. Мой тебе совет: не суйся не в свое дело.
Оба парня набычились, и Роси почувствовала, что назревает скандал.
– Эй, петухи, – звонко сказала она, – вы нас, что, за куриц принимаете? Через несколько дней школьники запоют „Иди, народ мой, возрожденный…", вспомните, где вы находитесь!
– На философской ниве… – Тома приподнялся, чмокнул Роси в щеку и подал ей бутылку. – Всего лишь через пару десятков лет человек превратится в электронного робота. Сломалась какая-нибудь платка – замени ее и шагай на здоровье дальше. Возрожденные, выпотрошенные…
Эмилия догадалась сменить кассету, и из динамиков магнитофона полилась сумеречная нега, переходящая в стон. Брейли, узнаю по звучанью, заметил Иван, прислушиваясь к страстной молитве инструмента. Что он делал в этом доме, среди этих баловней судьбы, которые к тому же берутся учить его музыке? Выпивка, споры доморощенных философов, любовь, пардон, секс – хватит, надо отползать на свою улицу Пиротскую, там тебе место. Он поймал очередной лучезарный взгляд Роси. Интеллигентный зверь. Они познакомились в консерватории. На него произвели впечатление ее импортные тряпки – на них были потрачены не центы, их выбирал опытный глаз. На его плече висел выданный ему в консерватории саксофон, и в толчее он ненароком задел ее инструментом. Они остановились, он извинился от имени саксофона, она рассмеялась, блеснули два ряда мраморных хищных зубов. Разговорились. Роси заявила, что не может таскать на плече свое собственное пианино фирмы „Петрофф", затем они присели выпить по чашечке кофе – так начались их встречи. Нет, были еще какие-то споры насчет комсомольских дел, он уже плохо помнил…
Потом появились Эмилия и Тома, этот парень ему не понравился с самого начала, его рыбьи глаза излучали что-то примитивное и нахальное. На „шкоде" Роси они зачастили в пригородные ресторанчики, в Боровец, даже в Пловдив. Он видел, что эта парочка располагает деньгами и временем, а он потел при расчетах с официантами, и вдвойне его мучала их снисходительность. Однажды вечером они забрались на дачу Арнаудовых, надрались до опупения, рассвет встретили в чем мать родила. В ту ночь он стал Джоном…
Странное дело. Их телесная близость, настолько спонтанная, одним махом разрушила шутливый настрой, существовавший между ними: он оказался лишь элегантной приманкой, улетучившейся после первого же божественного соприкосновения с материей. Пропали веселые шпильки, разговоры-дуэли – одна бутылка импортной смеси, очередная квартира знакомой или знакомого, неутолимый голод наслаждения, с каждым разом все более выматывающий, прерываемый тягостным молчанием.
Однажды вечером он не выдержал и сказал, что чувствует себя какой-то секс-машиной, и в этом есть что-то обидное для них обоих, разве она не согласна?.. А ты чего от меня добиваешься, романтических излияний, бедный мой глупыш. Неужели ты воображаешь, что раз на тебе застиранное белье, то ты превосходишь меня морально? Вот, держи, купила тебе индийское, чистый хлопок… – она сунула руку в сумку и вытащила оттуда два пакета.
Он был оскорблен, унижен, взбешен до последнего предела. Ах вот оно что! Значит, во всем виноват этот простачок с Пиротской в застиранных трусах… Ну еще бы, ведь это же не я боюсь заблудиться в роскошном лабиринте комнат, не я разъезжаю на собственной машине, выбираюсь за границу, когда мне взбредет в голову! Куда мне до вас, разных там Эми и Томи, обеспеченных по уши и потому позволяющих себе этакую барскую снисходительность… Все, баста, баста!..
Они долгое время не виделись, пока она не подловила его, внешне напыщенная, а на самом деле притихшая, с каким-то ласково-печальным блеском в глазах. Я соскучилась, чертушка, знаешь, чего мне стоит вымолвить сейчас эти слова?.. Куда ты меня поведешь?
Он повел ее в предгорье Плана, шли куда глаза глядят, затем он расстелил на траве свою рубашку. Они лежали под огромным, как бы светящимся изнутри буком, наедине с мирозданием, из птичьего гнезда доносился жалобный писк, по стеблю боярышника ползла божья коровка, это был их самый счастливый день. Был. Через одну-две недели Роси не выдержала и затащила его в какую-то компанию, они напились, бук с величественной кроной был выкорчеван из земли и повалился корнями наружу. Все пошло по-старому…
Иван задумался и не заметил, как Роси быстро опьянела. Они сидели вдвоем с Томой на ковре и безмолвно передавали друг другу бутылку, обводя комнату помутневшими злыми взглядами. Достаточно было лишь искорки, и Иван решил ее высечь: эй, роботы, чего вы ждете, может, пора меняться платами…
Тома плеснул виски на ковер, словно хотел его освятить или продезинфецировать.
– Слушай, Джон, как это было… Когда говорят боги, факты молчат…
Все засмеялись. Громче всех Тома.
– Так-то, господин продавец огурцов… Я еще от деда знаю: богач, значит, умник, а бедняк – дурак.
Иван нахохлился.
– Ну-ка повтори!
– Ты все прекрасно слышал. Бедных философов на этом свете не сыщешь, вот бедных музыкантов…
Чаша была переполнена. Роси плеснула из бутылки на рубашку Томы и закричала:
– Я запрещаю тебе касаться этой темы! Джон, пошли потанцуем…
Иван смотрел на нее не мигая – из последних сил он сдерживался, чтобы не врезать Томе по физиономии, а тот невозмутимо разглядывал мокрое пятно на рубашке.
– Джон, пошли потанцуем!
– Никакой я не Джон! – сказал он и вполголоса выругался.
– Эй, попрошу без грубостей! – предупредил его Тома. – Если бедность уже не порок, то она хотя бы должна помнить о скромности…
– Слушай, скотина, держи язык за зубами или… – Иван еле сдержался, ощутив на себе тревожные взгляды девушек. Лишь их присутствие мешало ему хлопнуть дверью. А Тома, казалось, ничего не замечал.
– От деда я знаю, что раз существует богатство, должна существовать и бедность, одно без другого немыслимо. Настанет день, когда они рука об руку сверзятся в пропасть, мой дед – мудрый человек…
Девушки переглянулись, Роси взяла на себя инициативу и отвела в угол разъяренного Ивана. От нее несло перегаром.
– Не обращай на него внимания, – сказала она шепотом. – Он пьян в доску.
На щеках Ивана вздулись желваки.
– Ну давай потанцуем.
Она схватила его за руку, но тут же была отброшена в сторону.
– Не трогай меня!
– Ты порядком закомплексован, мой мальчик… – Из-под расстегнутой куртки, сбоку, предательски высовывался краешек индийской майки, подаренной ею. Значит, гордыню свою он переборол. – Пойдем в мою комнату…
– Иди с ним! – прошипел Иван.
– Ну не глупи, я хочу с тобой…
– Врешь.
Они слышали, как выясняли отношения Эмилия и Тома. Ты ведешь себя отвратительно, нападала Эмилия, что он тебе сделал? И к чему так надираться, ты только посмотри на себя!.. Цыпочка ты моя, отвечал Тома, ты когда на свет вылупилась?.. Если ты не перестанешь, если будешь продолжать в том же духе… Уточка, а у тебя есть еще что-нибудь в башке, кроме испанского?.. Ты невыносим, я ухожу… Бай-бай, кисуля…
– Так ты идешь или нет? – прошептала Роси, слегка покачиваясь.
– Мерзавка, – тихо отрезал Иван и в следующий момент почувствовал, как она его звонко чмокнула в щеку.
– Господа, только что мне сказали, что я Айседора Дункан… – Роси приподняла юбку и оголила свои красивые ноги, по щекам у нее пробежала нервная дрожь. – Будем танцевать, господа…
Она усилила громкость магнитофона, и по гостиной разлилась трепетная, лениво-сладостная мелодия. Под взглядами присутствующих Роси остановилась у края ковра, скинула туфли, выгнула тело и принялась извиваться, гибкие ее руки колыхались, словно ветви на ветру. Затем правая рука начала расстегивать одну за другой пуговицы на блузке, на пол упал лифчик, юбка…
Не говоря ни слова, Иван резко повернулся, и входная дверь захлопнулась за его спиной. Роси продолжала изгибаться и раздеваться, как будто ничего не произошло, а улегшийся на пол Тома сосал из бутылки и нагло пялился на танцовщицу. Эмилия не выдержала, бросила презрительный взгляд на Тому, криво улыбнувшись, посмотрела на Роси, и входная дверь снова хлопнула.
Иван курил, опершись на ограду на другой стороне улицы. Эмилия подошла к нему, помолчала и робко спросила:
– Ты меня проводишь?
Иван не ответил, как будто ничего не слышал. Сегодня Роси позвонила ему и они долго разговаривали по телефону. Она была в кошмарном настроении, перед этим у нее был тяжелый разговор с матерью, в другой раз она обещала рассказать о нем, игра на пианино становилась для нее все более тягостной. Если так будет продолжаться и впредь, она бросит консерваторию и станет барменшей, а может, девицей для развлечений, что, он не верит? Его подмывало ответить, что она никогда не порвет с консерваторией и никогда не станет барменшей, а в развлечениях она и сейчас преуспевает. Но он сдержался, а Роси, кажется, сообразила, что перегнула палку. Ты что, ревнуешь меня? Ха-ха! Я мужиков знаю, так что нечего без толку разыгрывать „Квартал в порту де Лила", изображать из себя Жана Габена и прочих, неизвестно еще, чем ты занимаешься в мое отсутствие… Он молчал… Я тебе ничего не запрещаю, дарлинг, ни в чем не ограничиваю, живи как знаешь, только не надо становиться в позу и читать мне нотации, ты меня понимаешь?.. Ты это мне хотела сказать? – спросил он, а в ответ она мяукнула, как настоящая кошка. Она нуждалась в нем, в великом Брейли из Коневицы, нет-нет, она не шутила, этим вечером ее родители отправляются на дачу, будут только Эми и Том, они потанцуют, наклюкаются как следует, но не спеша, с чувством достойного прожигания времени, присущим аристократам – ведь он придет? Он не ответил – его не прельщала ни компания, ни приглашение напиться… Значит, отказываешься? – не поверила Роси на другом конце провода. Значит, Иван воображает, что он единственный, незаменимый, эдельвейс с Пиротской, ну, это мы еще посмотрим…
Через полчаса „шкода" остановилась перед его домом, недоумевающей матери был вручен букет гвоздик – пожалуйте, госпожа, только что сорваны… – и он позволил себя увести…
– Иван, – вывела его из раздумий Эмилия.
– Что тебе?
– Ничего, – она была задета его грубым тоном.
– И я того же мнения.
– Она сумасшедшая…
– Пьяная.
И все-таки он ее защищает! – подумала Эмилия, но вслух сказала:
– С меня хватит, конец. Тома – свинья.
– Ты это ему скажи.
– Скажу обязательно…
Иван швырнул окурок и повернулся к ней.
– Поцелуй меня.
Эмилия инстинктивно отпрянула.
– Поцелуй меня, – глухо повторил он, и она почувствовала в его голосе волнение. – Больше мы не увидимся.
– Ты нездоров.
– Возможно, не всем бог дал здоровье.
Он приблизился к ней вплотную, наклонился, и их губы соприкоснулись.
– Мы ненормальные, – прошептала Эмилия.
– Возможно, Эми. Чао.
Иван бесшумно удалился.
Когда служебный лимузин доставил к кованым воротам дачи чету Вангеловых, Арнаудовы уже были почти готовы к встрече высоких гостей. Двухэтажный дом в альпийском стиле раскрыл – подобно неторопливой бабочке – деревянные створки, изнутри струилась музыка, все сверкало чистотой, трава перед верандой была подстрижена под самый корень, на ней были установлены разноцветные складные стулья и плетеные кресла. На столе в вазе стояли только что сорванные ноготки, из кухни, оборудованной в болгарско-баварском стиле, доносился веселый перезвон посуды.
Вангеловы продефилировали по газону, разглядывая стройные туи и два серебристых кедра – они первыми потянулись ввысь – усеянные цветами кусты, зеленые лужайки. Плодовые деревья изнемогали под тяжестью обильных, пока еще зеленых плодов, заросли малины, казалось, очарованные льющейся мягкой музыкой, пестрели разноцветными бабочками. Арнаудовы устроили здесь райский уголок. Так и выразился Вангелов, мужчина с белым безволосым тяжелым лицом, обращаясь к вышедшим из дома хозяевам:
– Рай, рай… Век бы отсюда не уходил!
Рядом ступала его жена, товарищ Вангелова, также дородная, с толстым слоем грима на широком лице.
– А у вас здесь с каждым разом все красивее, браво!
Обнялись, похлопывая друг друга по массивным плечам, почеломкались, в соответствии с принятым на их уровне обрядом, и расположились на террасе. Вангелов скинул свой летний полосатый пиджак, засучил рукава рубашки, взгромоздил руки на столик, отчего тот закачался.
– Гриша, дай-ка чего-нибудь холодненького, уж очень пить хочется.
Тина принесла гостю его любимую греческую анисовку со льдом. Вангелов сделал большой глоток, причмокнул, снова отпил.
– Знаете, за что я больше всего уважаю греков? Вот за этот напиток, – просопел Вангелов. – В других делах они не больно, но вот с этим питием – точно в десятку…
– У греков богатая история и культура, Стефан, – поправила его Тина. Обе женщины пригубили.
– Да не только, – вступила в разговор Вангелова, учительница литературы в гимназии. – И курорты у них есть, и товары.
Вангелов одарил жену тяжелым взглядом.
– А у нас, Цветана, что, разве нет курортов и товаров?
– Да есть, конечно…
– Не люблю, когда бьют поклоны чужим богам, это раз. Во-вторых…
– Мы не спорим, Стефан, – перебила его Тина, почувствовав неодобрительный взгляд Григора.
– Эх Тина, мы не спорим, не спорим, ан глядь – оказываемся по разные стороны плетня… Что хорошего у греков? Лани недавно ездил к ним, и честно сказать, с каждым годом у них все хуже: безработица, инфляция, американское влияние, всякие там штучки-дрючки – в поденщиков превращаются. Верно ведь говорю, а Гриша?
Арнаудов согласно кивнул, изображая на лице умудренность историческим опытом.
– Да, чтобы не забыть – с тем товарищем, землячком, все утряслось?
– Получил место замначальника конторы, – доложил Арнаудов. – Насчет прописки еще требуется помощь.
– Покумекаем, – сказал Вангелов. – Но не будем своей поспешностью ставить товарищей из Совета в неудобное положение.
Наступила пауза, и хозяйка поинтересовалась, как идет перестройка дачи. Несмотря на то, что вопрос был предварительно обдуман, разговор принял лавинообразную форму. У Вангеловых была старая дача у подножья горы, купленная в свое время у наследников скончавшегося художника. Тогда Вангелов был еще средней фигурой в министерстве – всего несколько лет прошло после его приезда из небольшого городка, расположенного неподалеку от столицы, и, по его выражению, он еще не внедрился в основы. К тому же надо было решать и квартирный вопрос – дети росли, дочка скоропалительно вышла замуж, появился ранний внук, разевавший рот в ожидании молока и перспективы. Вангелов впрягся в строительство трех квартир – двух в Лозенце и одной в восточном районе столицы, нелегкое это было дело. Но упорство и комбинативный ум постепенно сделали свое дело: безразмерные квартиры были воздвигнуты и обзаведены, долги отданы, и пробил час дачи… Ты, Гриша, ухитрился обойтись одним ребенком, может, поздно, а может, и вовремя, не без зависти говаривал Вангелов, а мы с Цветаной наштамповали детишек, теперь подавай им квартиры. Да ничего, лишь бы были живы и здоровы…
Демографическое преимущество Арнаудовых, которые рано построили и обставили и жилье, и дачу, переживалось Вангеловым неожиданно остро: в душе он сознавал непоколебимое чувство собственного превосходства над Григором, да и не только над ним, он считал себя птицей высокого полета, прирожденным руководителем высокого ранга, наивысшего. А его недооценивали, это факт. Но это стало заметно лишь в последние годы, когда он упорно оттачивал и шлифовал свои способности, набирался передового опыта, чтобы нанести решающий удар. Именно тогда заговорили о новых системах и механизмах, технологиях и структурах, вошли в моду иностранные слова и словечки, смысл которых он улавливал довольно смутно. Неведомо откуда вылез на белый свет молодой и бойкий народец, пацаны с учеными титулами и званьицами, с фирменными ярлыками на одежде и заковыристыми терминами, языкастые и фасонистые. Они выступали с секретными лекциями – уж этого Вангелов совсем не выносил: импортные цацки и секретность, вы уж простите! – с диаграммами и фильмами, представляли руководству доклады и схемы, привезенные с разных симпозиумов и конгрессов, как там было… кон… контент-анализы – раньше сдохнешь, чем выговоришь, как балакают в народе.
И Вангелов кожей почувствовал – а она была у него по-женски гладкой и белой – что ему остается в лучшем случае второй эшелон, а там глядишь – и третий. Как бы то ни было, влез он сперва во второй эшелон, даже занес ногу и дальше, однако первое кресло, да и те, что были рядом, принадлежали ему лишь в мечтах. Вангел любил мечтать коротко и конкретно, в пространные и отвлеченные мечтания он не только не верил, но и презирал их всей душой. Их он оставлял поэтам, которых с юных лет не читал.
Пришлось смириться и закрепиться, требовалось работать да еще строить глазки некоторым ученым ребяткам – деваться было некуда. Но в глубине души он считал, что такое положение временно, воспринимал его как моду, которая как пришла, так и уйдет в один день, ясный и решающий, полагал, что все вернется на круги своя, к тем проверенным методам, нашим, отечественным, надежным, тем, которыми он в совершенстве владел и которые сами возвестят: хотим товарища Вангелова! А до тех пор – терпение, пахота и заботы о челяди и даче…
Но дача перестраивалась медленно, это же не строители, а разбойники с большой дороги: притарабанили подъемник – нет кирпича, подвезли кирпич – самосвал сгрузил известковый раствор куда-то налево, ищи-свищи. Заново привезли раствор, да кто-то умыкнул подъемник – мол, нечего ему простаивать – и так далее, и так далее. А тут еще и архитектор, вроде бы солидный мужик, с того ни с сего черкнет что-то новое в проекте – вот так, товарищ Вангелов, я полагаю, будет изящнее – подохнуть можно, опалубка уже готова, что ж, прикажете разбирать половину по его прихоти? Вот так и приходится пахать через пень колоду, а сроки горят…
Дальше взяла слово Цветана и популярно объяснила, как им пришлось часть пожиток свалить в подвал, а часть подбросить соседям, посуду и всякую мелочь забрали домой, пока не был окончен верхний этаж, – дело это оказалось непростое, новые колонны, стены, опоры и балконы, целый этаж да еще мансарда, наверху ванная и туалет, внизу ванная и туалет, новая столовая, два камина – один в гостиной, другой снаружи, в летней кухне… Очаг? – спросила Тина. Как тебе сказать, Тина, не совсем очаг, такое хитрое сооружение, из одного журнала выкопали, там и печка и маленькая духовка…
Отлично готовить каварму или гювеч[19], дополнил Вангелов, или, скажем, тыкву, фаршированного ягненка, а на решетке – шикарные шашлыки, ну и снизу можно печь перцы, баклажаны… – Вангелов все время склонялся над заставленным разнообразными яствами столом в предвкушении сытного ужина. – В общем, это комбинация очага, печи и камина радует глаз, будет приятно по вечерам собираться у нас, по-простому, по-народному… И хорошо смотрится, вставила Цветана, есть в ней что-то родное, родопское… Ничего родопского в ней нет, Цеце, зачем сочинять!.. Может, нет, а может, есть, огрызнулась Цветана, вот изгиб трубы или сама труба… Труба как труба, ничего в ней нет родопского!.. Стефан, позволь мне в этих вещах разбираться чуток получше тебя. Эта труба в родопском стиле! Ведь я же разговаривала с архитектором!
Арнаудовы слушали смущенно, но внимательно.
– А архитектор-то с севера, какие тебе Родопы?! – закипел внутри Вангелов, который не мог терпеть, когда кто-либо шел ему наперекор. – Видишь крышу? Вот в ней что-то есть родопское…
– Как раз в ней ничего и нет! – не поддавалась ему жена, словно она находилась на педсовете. – Крыша тетевенская[20], только вот с закругленными краями…
Пора было Арнаудову вмешаться в спор. Он поднял тост за обновленную дачу и между прочим заметил, что деревянные ставни – не лучший вариант для первого этажа. У них уже второй раз воры пытаются пробраться в дом именно через эти окна… Как так? Разве они не запираются изнутри? – поинтересовался Вангелов… Стефан, да их распилить – раз плюнуть, любая несчастная пила их возьмет…
Разговор перекинулся на кражи в дачных зонах, припомнили обчищенных знакомых – ну и что, ничего! Милиция беспомощна… Милиция отнюдь не беспомощна, поправил женщин Вангелов, с мрачным видом слушавший их сетования, но надо пошевелить мозгами. Ведь мы тоже собирались поставить деревянные ставни, как у вас.
Снова слово взял Арнаудов. Он досконально изучил ситуацию, советовался со специалистами и сейчас предлагает своим друзьям одну роскошную штуку – металлические шторы с нейлоновым покрытием, производства фирмы „Шнайдер", она сейчас их ввозит для ряда объектов. По интонации, с которой Арнаудов – спец по нюансам – произнес это „ряд объектов", Вангелов моментально смекнул, о чем идет речь… „Шнайдер", говоришь – второе направление… Второе, Стефан, подтвердил Арнаудов. Тина, принеси-ка проспекты…
Просмотрели их от корки до корки – различные формы, расцветки, способ монтирования, цены. Это шторы, которые могут сворачиваться и закрепляться в разных положениях – в зависимости от утреннего или послеобеденного солнца, дождя или ветра, не говоря уже об их замках – разве можно сравнить все это с нашими несчастными ставнями! Вангеловы безошибочно оценили качество продукции. Арнаудов выгадал момент, снова поднял тост, на сей раз за шнайдеровские шторы, при тактичном обращении в строительную и торговую организации они бы прекрасно заняли место на обеих дачах. А этим организациям с их масштабами такая потеря была бы подобна укусу комара…
Вангелов посопел, помолчал и заключил: мы их заполучим. Хотя и не сразу. Бывает брак, отходы, потери при перевозках, ошибки при монтаже и всякое прочее. Кто там ведает делами? Видев?.. Арнаудов кивнул. Видев – мой человек, Гриша, так что дело выгорит…
Женщины перебрались на кухню.
– Как на службе? – в упор спросил Вангелов.
– Нормально, а что?
– Повышение не светит?
Арнаудов потер высокий лоб – для ответа нужно было немного времени.
– Не знаю, поверишь ли, но уже давно я как-то не задумывался над этим.
– Не поверю, Гриша, ты уж не обижайся.
– Ты же знаешь, я не из обидчивых.
– Знаю, потому мы и друзья.
– Только поэтому? – вырвалось у Арнаудова. В сущности, этот ход был сделан, чтобы вызвать собеседника на большую откровенность.
– Задел я тебя… Наша дружба, Гриша, дай бог всякому такую… На днях у меня была деловая встреча с твоим шефом. Зашла речь и о тебе – хвалил он тебя, как и в прошлый раз, – Арнаудов слушал с большим вниманием. – Я ему подкинул что-то в том же духе – тебе, наверно, известно, что у вас ожидается реорганизация в руководящем эшелоне. Вангелов умолк, шельмец этакий.
Арнаудов почувствовал какое-то жжение в желудке, но не подал виду, выжидал.
– В конце разговора между прочим намекнул – говорит, строго между нами: одни далеко идущие планы касаются и Григора, – Вангелов звучно цокнул языком. – Я ему до конца не доверяю, но у меня есть и другая информация – перемены будут скоро.
– Ничего не выйдет, Стефан, – постарался выглядеть искренним Арнаудов.
– В один прекрасный день все может сложиться как нельзя лучше.
– В один прекрасный день можно вылететь на пенсию, возраст дает о себе знать.
– Сейчас не об этом речь. Только никому ни слова. От себя добавлю, что мы с тобой рабочие, ломовые лошадки, и наверху это знают, а это очень важно. Наш день близится, Гриша.
Арнаудов понял скрытый смысл сказанного, но тем не менее наивно спросил, о чем конкретно идет речь. Подбирая слова, Вангелов повторил свои недавние мысли, правда, слегка смягчив критику нововведений и адресовав ее лишь в адрес ученых молодых выскочек.
– Выскочки, выскочки, Гриша, – сейчас их царство, но вот до каких пор? Наверху уже зашевелились, дошло наконец…
Григор снова промолчал, чтобы сосредоточиться, не прозевать важного слова – в душе он боялся Вангелова. Выскочки, технократия, иностранные термины. По большому счету его не волновали эти вещи, так как он был убежден, что все в этом мире изменчиво, и главное – вся эта камарилья по существу его не затрагивала. Сколько раз уже осуществлялись преобразования, проводились реорганизации, маневры, а на работе это не отражалось, дела шли своим ходом, на поверхность всплывает лишь пена дней. Это он знал по опыту, благодаря раздумьям наедине с собой. Вангелов был другой породы – волновался, колготился – когда из интересов дела, когда из своих собственных, что по большому счету не имело особого значения, так как Стефан был работягой. Другой вопрос, что он шагал под знаменем старых кадров – как это принято теперь говорить – сторонников экстенсивных методов, не обладал профессиональным подходом в решении технических вопросов – нынешняя слабая черта нации – и занимался лишь управленческой деятельностью. Было бессмысленно вступать с ним даже в непринужденный спор – он не терпел отличного от своего мнения по этим вопросам, и даже если не встречал его в штыки в данный момент, все равно не был способен воспринять его в корне. Да и где этот корень, когда сад взлетел на воздух, к чертовой матери, и половина его корней высушена ветрами времени…
Положа руку на сердце, Арнаудов невысоко ценил Вангелова, считал его отсталым и даже примитивным, хотя отдавал должное его сильной натуре и, само собой, рангу. В первый раз очутившись с ним за одним столом, они с женой переглянулись: Вангелов пыхтел и сопел свыше всякой меры. Мастер издавать всякие звуки, он сипел басом, когда жевал толстые куски хлеба, переходил на дискант, высасывая мозг из кости, из его горла вырывались немыслимые трели. По мнению Арнаудова, пробелы в образовании Вангелов восполнял свирепым отношением к науке, которую считал излишней роскошью для человечества, и особенно к искусству – оно было для него воплощением душевного баловства, на которое без толку тратится столько средств и которому уделяется непомерно много внимания… Проще, проще нужно мыслить и жить, любил говаривать Вангелов, многозначительно поднимая палец. Разумеется, это не мешало ему в домашних условиях вкушать технические плоды той же науки, но это уже была другая история.
Арнаудов не только не уважал, но и страшился крутого, деспотичного характера своего покровителя, в его глазах тот представлялся черной тучей, которая при мельчайшем невнимании или непредусмотрительности могла обрушиться градом на его голову. Более того, глубоко в подсознании Григор ощущал в образе Стефана какую-то первобытную угрозу себе самому, ему чудилась расплата за самостоятельность мышления, за сугубо личное отношение к жизни и миру. Однажды вечером, после очередной встречи с Вангеловыми, он рассказал жене о том, как ему приснился Стефан в образе некоего Робинзона власти, единственного уцелевшего правителя пещерного племени или общины, где царили дикие нравы и в ходу были топоры и пики, в боевой раскраске, провозглашенного вождем или жрецом и переименовавшего свои владения в Вангелию. Екатерина рассмеялась и сказала, что это бред, что Стефан часто вызывает подобные ассоциации, но на самом деле он не таков, что он еще не настолько задубел и прекрасно понимает многие вещи, просто он груб, как медведь… Ты что, в адвокаты ему нанялась? – рассердился Григор, и это говоришь ты, музыкантша!.. Это верно, с искусством у него нелады, тут он ужасен, согласилась бывшая пианистка, но ты никогда не замечал, что он очень музыкален? Да-да, у него есть слух, народные песни он исполняет довольно изящно и с чувством… Чепуха! Разве я не помню, как он морщился, когда ты им играла в первый раз?.. Григор, не выдержала Екатерина, почему же тогда ты ему заглядываешь в рот, подмазываешься к нему?.. Во-первых, мы это делаем вместе, а во-вторых, ты сама знаешь почему… Знаю, но тогда нам надо быть объективными и молчать… Это другой вопрос, Тина, совсем другой вопрос…
Арнаудов поглядел на мрачноватое лицо Стефана. У него были и другие, более глубокие причины для тайной нерасположенности к этому человеку, равно как и для внутреннего безразличия ко всему тому, что волновало или хотя бы интересовало этого бывшего пролетария. Человек действия, жадный до работы и успеха, он был обречен судьбой пахать на общем, а не на отцовском поле, для которого ему никогда не было жаль ни сил, ни пота. Больше никогда Арнаудову не довелось испытать того неописуемого упоения от работы, оставшегося в памяти с детских лет, хотя он всегда работал на совесть. Куда бы его ни назначали, что бы ни приходилось делать, он заранее знал, что результаты его труда растворятся в бездонном общем котле, из которого невозможно загрести, сколько пожелаешь и сколько тебе полагается по заслугам. И еще одно – эти результаты, его личные и коллективные, моментально перемешивались и превращались в нечто монолитное и бесформенное, лишенное облика и почерка, не говоря уже о стиле и уровне, и это нечто точно также тонуло в чем-то еще более громадном и безликом – и так до бесконечности. Несмотря на то, что он возглавлял солидную организацию и большая часть работы проходила через его руки и голову, он не мог сказать: это мое личное достижение, этого добился я, Арнаудов, я один. Мрачная душа коллектива – он случайно наткнулся на это выражение в одном бестолковом фельетоне и запомнил его на всю жизнь. Он и сам подобным образом воспринимал общие усилия, переплетения связей и отношений, которые медленно, но верно накрывала темная пелена безличного, выравненного, вытоптанного – просто ему вряд ли удалось бы самому подыскать настолько удачную формулировку. В сущности, именно по этой причине он на протяжении многих лет ориентировался больше на руководящую, нежели на инженерную работу; так, действуя постепенно и методично, он в конце концов оказался не в конструкторском бюро, а во внешнеторговой организации. И теперь рассчитывал, что на худой конец на финише карьеры для него всегда найдется теплое местечко в каком-нибудь торгпредстве в одной из западных стран. Чтобы пожить в свое удовольствие в уюте, при деньгах и без особых забот.
Арнаудов много разъезжал, на восток и на запад, – и постепенно эти два слова утвердились в его сознании в написании с большой буквы – география была вытеснена историей, инженер был задавлен торговцем и доморощенным политиком, чья осведомленность, зачастую поверхностная, но напористая, усиливала в нем инертность и безразличие.
– Выскочки, говоришь, – оборвал он затянувшуюся паузу, во время которой за ним внимательно наблюдал Вангелов. – Согласен, но только с одним условием – не все.
– Кто говорит, что все?
– Не все, Стефан, я знаю много молодых и способных работников. Они – толковый народ. Надо к ним прислушиваться, давать им дорогу.
Вангелов ощутил тонкое острие сопротивления.
– Хочешь записаться в ихние адвокаты? А мне…
– В чьи адвокаты?
– В ихние, в чьи же еще… А мне лепишь ярлык прокурора.
Дурак, забыл об осторожности, корил себя Арнаудов.
– Ни в какие адвокаты я не лезу, и насчет выскочек ты сто раз прав! Я говорю о другом.
– И я – о другом.
– Значит, мы не расходимся во мнениях.
Расходимся, Гриша, еще как расходимся, подумал Вангелов, подталкиваемый своей старой подругой – интуицией, которая часто подменяла ему ум, а в часы просветлений помогала работе мысли. Их знакомство с Арнаудовым началось на деловой основе, первый обмен визитами, первый совместный полет – постепенно они сблизились. Сын извозчика, Вангелов рос в бедности, в окружении грязных улочек и ругани. Днем рыл рвы и каналы, ходил в вечернюю школу. Позднее стал комсомольским деятелем районного масштаба. Потом последовал рабфак, мытарства комсомольского и партийного секретаря, первый пост начальника отдела, первое директорство, затем он получил назначение в министерство. Ему было неизвестно прошлое Арнаудова, о нем между ними не было произнесено ни слова, да и нужды такой не было – он нюхом чуял, что разница – огромная. Григор был начитанным инженером – так о нем отзывались, да это и чувствовалось – он был наделен организаторским талантом, умел руководить, пользовался уважением коллег, поддерживал связи и знакомства в высших кругах. Кругозор Вангелова простирался от грязных улочек и ругани, с одной стороны, до необъятной политической карты мира – с другой, для него инженерные способности служили лишь подспорьем, звеном обеспечения, по буржуазному принципу нанятым по необходимости для выполнения конкретных услуг. Эти услуги были важны в данный момент и могли пригодиться в будущем, но они не решали главные, политические вопросы, для которых требовались иные, недоступные для инженерной мысли технологии. Именно в них, как он полагал, безошибочно ориентировались „вангеловцы" – некая особая дружина, создававшаяся и закалявшаяся в других университетах, университетах жизни. Что знал Григор о настоящей большой жизни? Ничего или почти ничего. Потому-то он так осторожно, даже трусливо защищал выскочек – ведь они родственные ему души, которые используют момент, мировую ориентацию на развитие научно-технического прогресса, чтобы проявить себя, блеснуть, дорваться до власти. Не быть по-твоему, Гришуля, бай Стефан Вангелов тому гарантия, надежная…
Он хотел сказать Арнаудову, что разногласия между ними имеются, они заметны, хоть, как это говорится, они – не антагонистические, но в это время появились женщины с дымящими подносами в руках. Им предстояло обильно закусить, добротно, по-болгарски, сопровождая процесс поглощения пищи неторопливой выпивкой, ради удовольствия, чтобы расшевелить мозги и внутренности, потом перекинуться в картишки и, если позволит время, посмотреть одним глазом субботний детективный фильм.
Станчев забежал на службу к концу рабочего дня. Перед этим он встретился с Бадемовым, тренером и бывшим приятелем Кушевой, последним приятелем. Они беседовали уже по второму разу, устроившись на укромной скамейке на теннисных кортах. Весна уже кончилась, дышал теплом июнь. Внизу, на кортах, под пристальным оком своих матерей и теток тренировались дети – шикарно разодетые розовые существа, на которых возлагались такие же шикарные надежды. Ожидая Бадемова, – как порой фамилии подходят людям! – Станчев наблюдал за юными спортсменами, за публикой, за мелькающими в парке влюбленными парами, за одинокими стариками… Вот проехал велосипедист в рабочей одежде, на руле висела авоська с продуктами. До чего же пестра жизнь – от маленьких теннисистов, будущих мировых чемпионов, до этого озабоченного велосипедиста – и в этом ее прелесть. Однако розовые мальчуганы, с которыми носились, как с писаной торбой, почему-то его раздражали. Станчев обожал детей, любил потрепать детские шелковистые волосики, поболтать со случайным парнишкой на улице, даже попотчевать его мятной конфеткой из своего вечного запаса, которая заменяла ему валидол, но на сей раз он ощутил раздражение. Уж больно много праздно шатающегося, неведомо как обеспеченного и кем воспитываемого народца появилось в наших городах и городишках, уж больно много. Нация баловала подрастающее поколение, и это не случайно – в целых сословиях что-то было утрачено и притуплено, возможно, нюх, опыт, а может, и инстинкт самосохранения – пойди-пойми, как и почему так произошло. Мысленным взором он снова перенесся в детство, настолько непохожее на эти корты, из толпы гибких манекенчиков внизу вырос отцовский дом, станция с бай Захарием, выплыло изможденное, миловидное Дешкино лицо. Нет уже Дешки, она ушла из жизни совсем молодой, унеся с собой свою маленькую тайну. Маленькую ли…
Станчев пощупал сквозь носок свою обезображенную лодыжку и почувствовал неприятную тяжесть в желудке. Ты отмечен судьбой, как-то сказала ему Дешка, смотри не очерствей душой, не стань озлобленным… Да-да, так и сказала, прямо, без обиняков. Сколько воды утекло с тех пор. Допускал ли он, чтобы его меченость брала верх? Конечно же, допускал и не однажды. И ему припомнилась одна история, когда расследование зашло в тупик и, как обычно в таких случаях, как назло появился наглый подследственный, который действовал на нервы и выматывал душу, – то ли просто зануда, то ли ловкий лжесвидетель, по которому плакало новое дело, – вот тогда-то и прижучили этого киномеханика за пропавшие фильмы, а через несколько месяцев оказалось, что вышла ошибка. А почему его взяли? Потому что вел себя невыносимо, дерзил и оскорблял, даже запугивал, значит, был уверен в своей невиновности. И именно эту уверенность ты принял за прикрытие, за попытку контратаковать и вкатал этому засранцу по первое число. Как-то раз Петранка спросила, подготавливал ли он обвинительное заключение на невинного человека. Что же в таком разе следовало ей сказать, правду?
Появился Бадемов, светловолосый, с наметившимся брюшком и невыразительным взглядом, точь-в-точь такой же, как и при первой встрече. Старый холостяк, окруженный добротными вещами и одиночеством, чистенький, кругленький – настоящий миндаль, этот мужчина, наверно, слабо знал не только свою недавнюю подружку, но и людей вообще. Из второй беседы Станчеву опять-таки не удалось выудить ничего существенного.
– Да как вам сказать, – слегка растягивая слова, вещал Бадемов. – Ани любила командовать – набросилась на мою комнату, кухню, все переставила, многое вышвырнула, даже один раз мы поцапались.
– По какому поводу?
– По поводу одной корзинки для теннисных мячей – она с одного края начала расплетаться.
– Чем вы объясняли эти перестановки? Не было ли это…
– Чем не было? – не понял Бадемов.
– Не было ли это намеком на возможный переезд к вам?
– Я же вам говорил – Бадемов не создан для семейной жизни, и Ани это прекрасно понимала.
– Свободные отношения?
– Почему свободные? Просто мы подружились по линии спорта. Ани любила теннис, приходила глядеть на состязания, на тренировки, говорила, что лучше всего она отдыхает на кортах.
– Извините за повторный вопрос – вы не были в интимных отношениях?
– Не-е-ет.
– А алкоголь?
– Я непьющий, – обиженно ответил Бадемов, – и Ани не пила в моем присутствии. Иногда вечерами катались на ее машине.
Станчев навострил уши.
– По каким маршрутам?
Бадемов назвал несколько направлений, но подбалканской трассы в их числе не было. Случайно или умышленно?
– А как проходили эти поездки?
– Ну как… Болтали, она запускала музыку, шутила, называла меня разными словами.
– Вы их помните?
– Некоторые – да, например, дурашка, цветик… По-дружески, разумеется.
Эти подтрунивания в машине были новостью для Станчева.
– Бадемов, вы не упомянули об этих разговорах в предыдущий раз, почему?
– А-а-а, просто запамятовал. Невозможно не верить этому тюфяку.
– В какой связи Кушева вас так называла?
Никаких особых причин не было, в другой раз она называла его миндальник, крокодильчик, аспиринчик…
– Аспиринчик? – не поверил своим ушам Станчев.
– Именно так, товарищ следователь, мне выдумывать незачем.
– А как вы сами объясняете эти уменьшительные клички? Если бы она назвала вас, например… – Станчев хотел сказать „крокодилом", но в последний момент спохватился, – например, цветком, миндалем…
Бадемов пожал плечами.
– Она говорила, что во мне есть что-то детское.
И он беспомощно улыбнулся.
– Извините, как я сообразил, вас не очень балует спортивное счастье – это вас не огорчает? И вообще, почему вы выбрали теннис, что он вам дает?
– Видите ли, существуют два типа коллективных видов спорта – прямые и косвенные. Скажем, футбол и волейбол, регби и теннис. Теннис – очень корректная игра, в ней ты не сталкиваешься непосредственно с противником, не касаешься его.
– Вы хотите сказать, что не любите толкаться локтями?
Бадемов кивнул.
– Спортсмен из меня был средненький, я за славой не гнался.
Непростое дело, гоняться за славой, дорогой мой, подумал Станчев и спросил:
– Вы сами подбираете детей, которых тренируете?
– По взаимному согласию, – усмехнулся Бадемов. – У нас в руководстве асы.
– А подопечные вас слушаются? Я тут вижу довольно капризных родителей…
– Я не жалуюсь.
– Но вы не любите выяснения отношений?
– Нет, товарищ Станчев, я не могу выяснять отношения…
Все это время Станчеву не давал покоя вопрос: что нужно было Кушевой от этого тюфяка, как и зачем она привязалась к нему. Во-первых, у них были совсем не схожие темпераменты, да и, пожалуй, интеллекты разные. Прямо противоположная нацеленность, если вообще можно говорить о какой-то нацеленности у Бадемова. Никаких перспектив на брак, никаких особых общих интересов, ни материальных, не говоря уже о сексуальных. Воистину, странная связь. Или Кушева просто отдыхала душой, зализывала раны после историй с Балчевым, или Бадемов служил ей для чего-то другого, скажем, для какого-то прикрытия. Но что она пыталась скрыть – новую тайную связь? Этакая дымовая завеса, за которой кто-то прятался. Станчев снова вспомнил о седоватом мужчине в темных очках. Вынужденный ход для прикрытия чего-то важного… Он был склонен принять версию о передышке и желании рассеяться после пережитого с Балчевым, а может быть, с незнакомым мужчиной, но опыт подсказывал ему быть осторожным. Я не знаю эту женщину, в который раз простонал он про себя, что-то тонкое и весьма важное от меня ускользает, то ли в ее характере, то ли в судьбе…
– Бадемов, – задал он свой очередной вопрос, – честно говоря, я вам верю, хотя по законам моей профессии не следует в этом признаваться. Скажите мне, кто из вас был инициатором ваших отношений – Кушева или вы?
– Конечно, она, – без колебаний ответил Бадемов.
– Чем вы это объясняете?
– Как вам сказа-ать, случалось со мной и раньше, что я поначалу нравился женщинам.
– Почему поначалу?
– Потому что мне не удавалось задержать их надолго.
– Недостаточно старались или…
– Как вам сказать, я не большой весельчак, больше молчу, да и с деньгами у меня не ахти.
– Да-а-а, – протянул в свою очередь Станчев. – И последнее, товарищ Бадемов. Скажите – но я вас прошу о полной откровенности – Кушева могла покончить с собой, она была способна на такой шаг?
Бадемов посмотрел на него вялыми голубиными глазами.
– Думаю, что Анетта не решилась бы.
– Она любила жизнь – я правильно вас понял?
– Даже слишком.
– Тогда остается убийство или несчастный случай. По вашему мнению, ее мог бы кто-то убить?
– Умышленно?
– Разумеется.
Бадемов поглядел на играющих в теннис.
– Я ничего не знаю о ее предыдущих связях, но в предумышленное убийство не верю. Не вижу причины.
– Скажем, из ревности, из-за тайных счетов, – помог ему Станчев.
Бадемов покачал головой.
– Вряд ли, товарищ Станчев.
Станчев потер лодыжку, это был знак того, что разговор окончен.
– Значит, вы предполагаете, что это была автокатастрофа? – спросил он, вставая.
– Не знаю, товарищ следователь, просто не знаю, – поднялся и Бадемов…
В коридоре Станчев столкнулся со своим коллегой, расследовавшим классические транспортные происшествия – с употреблением и без употребления алкоголя, совершенные начинающими и опытными водителями, пытавшимися удрать и остававшимися на месте, с жертвами и без оных. По идее дело Кушевой должно было попасть к нему, но начальство сразу же решило, что здесь речь идет не об обычном транспортном происшествии – по крайней мере следов, подтверждающих крушение, не было. Этот бугай Бадемов даже не пожалел о Кушевой, но пока следует его исключить, подумал Станчев, пожимая руку своему коллеге.
Как полагается, поболтали о том, о сем – ведь давненько не виделись, и уже прощались, как вдруг знакомый что-то вспомнил и спросил, как идет расследование, напал ли он на след или, может быть, уже закончил дело. Станчев вкратце описал положение и в свою очередь спросил, почему тот интересуется – неужели об этом деле болтают на коллегии? А может, взыграла профессиональная ревность?
– Да нет, Станчев, нет у меня времени наведываться на коллегии… Просто вспомнил, и знаешь почему?
И он припомнил тот вечер, когда они встретились в диспетчерской, тогда он разыскивал машину, укатившую с места происшествия и оставившую явные улики.
Дежурный по перекрестку, где поворот на Кремиковцы, сразу же начал записывать номера машин, направлявшихся в Софию, но потом оказалось, что беглец обнаружен на другом направлении, и так далее.
– Ты, должно быть, тогда не знал об этом случае? – спросил коллега.
Станчев тогда и вправду ничего не знал, то есть он услышал обо всем этом лишь утром, а накануне заглядывал в диспетчерскую по другим делам.
– Насколько я знаю, крушение произошло на подбалканской дороге, так ведь? – продолжил сотрудник. Станчев кивнул. – Вот так-то. И вот что я все время хотел тебя спросить – ты случайно не кинул взгляд на записи, сделанные на КПП? Ведь и мы поначалу кинулись туда, так как никогда не знаешь, откуда может выскочить заяц…
И ты мне говоришь об этом только сейчас… – разозлился Станчев, но вслух ничего не сказал, а лишь поблагодарил за информацию и совет. Он собирался заглянуть после работы к начальству, но упоминание о блокноте дежурного по КПП навело его на интересную мысль. Не поставили его в известность, черти, а сам он не сообразил поинтересоваться, просто из любопытства.
Он облокотился на подоконник, закурил. С какой стати им было ему сообщать, раз они гнались за машиной с явными приметами и быстро поймали ее, и к чему было ему интересоваться, если он только сейчас узнал о проверке на трассе? Стоп, Коля, стоп… Здесь дело не в любопытстве, которое касается лишь тебя лично, а в расширении круга информации, о чем тебя учили на теоретических занятиях. Верно, ты осведомился о движении по южному пути в ту ночь, но ничего особенного, никакой зацепки не обнаружил. А она была.
Вечером, после того как они поболтали с Петранкой и она отправилась спать, Станчев забрался в свой кабинет и открыл недочитанную книгу с речами Цицерона. Уже на второй странице ему попалась на глаза фраза, вызвавшая повышенное внимание: „Я излагаю все это перед вами не для того, чтобы усилить значение слов или состава преступления; если я говорю, что во всей провинции он не пропустил ни одной из упомянутых вещей, то знайте – я говорю на латинском, а не на прокурорском языке". В своей четвертой речи Цицерон обвинял Вереса в явных хищениях.
Говорю на латинском, а не на прокурорском языке – великолепно, точно сказано. Мыслю на национальном, а не на следовательском языке. Обвиняю не человека, а преступление в нем… Легко было Марку Тулию: Катилина – явный заговорщик, Верес – грабитель с размахом, как тут не станешь мыслить и обвинять по-латински! А моя Кушева? Нет даже ни одной неотчитанной командировки, ни одного нарушения, отклонения от нормы – помимо сексуальных. Но в данной форме они не наказуемы, то есть вообще это не отклонение от правовых норм, а вопрос личной морали и образа жизни.
Станчев закрыл книгу. Конечно же, нарушения были. Например, в договоре о жилище, который, в сущности, был недействителен. Кушева просто не знала законов и доверилась адвокату-мошеннику или ей попался рассеянный нотариус. А может, совсем и не рассеянный – в конце своей карьеры, например, один такой Янбастиев позволял себе подобные вольности: иногда визировал неточно составленные документы. Пусть поломают головы, когда меня уже не будет на этом свете, говаривал Станчеву этот нотариус, на одну из тысячи подписей позволяю себе легкий выкидон, этот народец, что обращается к нам, заслуживает того…
– Эх, Кольчо, законы и уставы валом валят, говорю я тебе, и мрак все поглощает – поди-разберись, если другой работы нет.
Янбастиев был типичным образчиком старой школы, работал, находясь на пенсии, по вечерам за бутылкой виноградного вина вызывал духа законов, спорил с ним, а в конце запечатывал ему уста своей воображаемой печатью, на которой было начертано: „Дух закона – в его букве, однако буква его не всегда содержит дух". Покинул сей мир старый Янбастиев, склонившись над своим любимым виноградным вином. Остался Дух закона и его вездесущая Буква…
Станчев положил свою уставшую ногу на кушетку. Бадемов не в счет, он на такое не способен. Ванева тоже прямо не замешана, но эта лиса знает подробности, о которых умалчивает. Например, о меценате в темных очках – ведь должна была Кушева хотя бы раз проговориться об этом мужчине, несмотря на то, что женщины обычно не поверяют никому своих главных тайн. Вот они-то знают свою природу, надо отдать им должное. Молодой архитектор появился на небосклоне, как молодая луна, и сгинул, должно быть, навсегда. А то, что связь с Бадемовым совсем не в стиле Кушевой, – это факт.
Теперь Балчев. Донжуан, облеченный государственным доверием. Доспехов, правда, не имеется, ходит расхристанный. А может быть, просто играет эту роль? Во-первых, это нелегко, во-вторых, уж больно невыгодная роль. Либо сам наколешься, либо тебя проткнут. Остается покровитель, неизвестный меценат, который может оказаться обычным любовником с положением и комплексами. Старый, опытный и усатый сом, зарывшийся в ил, – поди-откопай его.
На следующий день Станчев разыскал дежурного по пропускному пункту, работавшего в тот вечер, когда преследовали машину нарушителя. Тот припомнил подробности, в том числе и блокнот с записанными номерами остановленных для проверки автомобилей. Станчев подвез его к будке на краю города, и они вытащили блокнот. В нем были записаны номера всего пяти машин, трех легковых и двух грузовиков. Станчев уставился в перечень номеров с короткими заметками под каждым. Первый грузовик из Бургаса, бегавший обычно по загранрейсам, вез тогда кабели высокого напряжения, двое водителей, бумаги в порядке. Второй грузовик принадлежал столичной строительной базе, был набит инертными материалами, один водитель, бумаги в порядке, но маршрут запаздывал по времени – явно шофер заезжал куда-то, то ли в гости, то ли к какой-то бабенке. Надо проверить – записал себе Станчев.
Затем шли легковые машины. Сливенский „москвич" с черными[21] номерами, семья из четырех человек ехала в Кюстендил попариться в бане. Шуменская „шкода", черные номера, семейная пара направлялась в гости в столицу, адрес записан. Третьим автомобилем была служебная „волга", последней модели, серого цвета, принадлежавшая Министерству внешней торговли. Персональная тачка генерального директора какого-то там объединения, за рулем сам хозяин, ехал один. Станчев прочел имя, отчество и фамилию и в первый момент ощутил, что подсознание его замерло, буквально на миг, чтобы затем кинуться вдогонку за сознанием. Документы в порядке, но замечено, что в путевом листе не проставлена последняя дата. Машина ехала из Варны, вероятно, через Карнобат.
В этот момент Станчев полушепотом повторил имя генерального директора: Григор Василев Арнаудов… Григор Арнаудов, Григор Арнаудов… Черт, если не двойник, то похоже, что это его соученик по гимназии Гриша, село Верхний Ключ, вторая мужская… Смотри-ка, обрадовался Станчев, больше тридцати лет прошло, совсем о нем забыл. Значит, генеральный…
Он попытался припомнить черты его лица, но перед глазами встала его фигура – высокий, подтянутый, всегда хорошо одет и с приятной улыбкой… В следующее мгновение лицо его исказилось: он ясно увидел себя, распростертого в ногах у девушки на выпускном вечере, посреди танца и под издевательскими взглядами остальной публики. И Григор, подымающий его с пола своими крепкими руками…
Вооруженный информацией, Станчев первым делом отправился на строительную базу. Шофер оказался в рейсе, но, проверив документы, он узнал, что в тот вечер опоздание грузовика было вызвано технической неисправностью, для устранения которой пришлось вызывать техпомощь, что также было подтверждено документально. Станчев просмотрел личное дело водителя. Все в порядке, да и директор замолвил со своей стороны пару ласковых слов о парне. Тем не менее Станчев пригласил директора в машину и подвез его к месту, где они дождались появления грузовика и провели осмотр: никаких видимых следов ударов не было обнаружено. Шофер с недоумением наблюдал за Станчевым, не зная, с какой именно целью явились они с директором. Станчев подошел к нему, и они присели поговорить. Тогда тот ехал с фарами, мотор продолжал барахлить, и он не больно следил за движением и сейчас не помнил, попадалась ли ему белая „лада" с женщиной за рулем, хотя в тот вечер движение не было оживленным – бывают такие часы, когда шоссе внезапно вымирает. Следователь ожидал, что паренек поинтересуется, в чем, собственно, дело, но тот ничего не спросил и, смекнув, что беседа окончена, вскочил в кабину – надо было нагонять упущенное время.
Станчев покинул стройбазу с намерением вернуться на службу и на этот раз уж непременно наведаться к начальству, но затем поразмыслил и решил заскочить в придорожное кафе, где заказал минеральную воду, достал записки старшины из КПП и уставился в них. Проверка с грузовиком ничего не дала, к тому же на поляне не было обнаружено следов тяжелого автомобиля, а уничтожить их очень трудно. Он снова пробежал глазами записи. Грузовик из Бургаса исключался по тем же причинам – если плясать от следов, конечно. Оставались легковые автомобили. Так же, как грузовики, все три машины двигались в противоположном направлении, не совпадавшим с направлением движения Кушевой. Логичнее было бы искать машины, ехавшие в одну с ней сторону, но о таковых не было никаких сведений. Пока что шиш, Коля, шиш…
Станчев сопоставил замеченное время. Машины проезжали пункт с интервалом от десяти до пятнадцати минут – и вправду, слабое движение, первым был рефрижератор, за ним шли „москвич" и грузовик, затем шуменская „шкода". Последней – к половине десятого – была остановлена „волга" Арнаудова.
Григор Арнаудов, Гриша из Верхнего Ключа – ты смотри… Он находился по делам службы на побережье, возвращался в Софию. Сам был за рулем. Сам, повторил про себя Станчев, это интересно, хотя многие начальники его ранга, особенно те, что помоложе, предпочитают сами вертеть баранку – в этом проявляется хозяйственность, демократичность и современный стиль, и в то же время чувствуешь себя свободнее, подальше от чужого глаза… Гриша был красавцем, школьницы сходили по нему с ума, наверно, и сейчас кружит голову чужим женам… Оставаясь верным себе, Станчев поправился: как он может так безапелляционно судить, если не видал его сто лет… Единственное, что бросалось в глаза с самого начала, – непроставленная последняя дата в путевом листе. Станчев заглянул в записи. И вправду, если заполнил все остальное, то почему пропустил последнюю дату – из-за рассеянности? Довольно странно.
Григор Василев Арнаудов, прочитал он еще раз. Конечно же, это он, совпадение имени, отчества и фамилии маловероятно. Жалко, что не отмечено место рождения. Станчев машинально отхлебнул из стакана с теплой газировкой и скривился. Когда же наши торговцы научатся летом охлаждать напитки? Ведь холодильников уйма, половина из них – импортные… Итак, Григор – Гриша. Должно быть, окончил экономический институт, иначе они обязательно столкнулись бы в университете. Но разве возможно столько лет прожить в одном городе и ни разу не встретиться? Вообще-то возможно, скольких соучеников он встречал за эти годы – раскидало кого куда, и пути их не пересекались. Наверно, Гриша провел пару лет за границей, а может, и больше. Интересно, узнают они теперь друг друга при встрече?..
Станчев ощутил, что уже настроился на встречу.
Только что она может дать? Ничего, кроме воспоминаний, нескольких рюмок вина или виски, дружеских пожеланий. Нет, для контакта еще рановато, если вообще он нужен. Досев бы нахмурился, услышав о такой идее, – хотя в этом не было ничего особенного, никакого совпадения, если не считать совпадением именно то, что Арнаудов проезжал в тот вечер по пути следования Кушевой… И все же, все же, порылся в своих мыслях Станчев, предупреждая себя не спешить и не сочинять лишнего. Все же этот путевой лист с отсутствующей датой надо проверить, притом очень тщательно. А уже после этого разговаривать с начальством.
На следующее утро Станчев остановил машину неподалеку от работы Арнаудова и принялся ждать. Объединение помещалось на тихой улочке в центре города, запруженной двумя рядами автомашин, оккупировавших по половине и без того тесных тротуаров. Запоздавшие автомобили рычали в поисках заветного места для стоянки, двумя вереницами ступал чиновничий люд – в основном молодые ухоженные женщины, сновали и старухи с авоськами в руках. Хватало и ранних влюбленных – о следами бурно проведенной ночи на лицах. Станчев бегло просматривал утренние газеты, не упуская из виду главный вход.
Ровно в восемь без пяти перед ним остановилась серая „волга" со знакомым номером, и из нее вышел высокий стройный человек в темных очках, с седоватыми, слегка волнистыми волосами. Григор! – узнал его Станчев, и что-то в нем дрогнуло. Арнаудов быстро захлопнул дверцу машины и энергичным шагом, что свидетельствовало о настроении и здоровьи, поднялся по лестнице. Станчев подождал еще одну-две минуты и тронулся восвояси – здесь ему уже делать было нечего.
Досев слушал следователя с видимым интересом, что-то отмечая в своем блокноте. Станчеву было что сказать. Из проверки установлено, что Арнаудов действительно находился на совещании в Варне, пробыл там три дня, две ночи провел в отеле, а на третью, именно тогда, когда с Кушевой произошло непоправимое, он не ночевал в гостинице. Правда, он и не мог провести эту ночь в номере, поскольку к двадцати двум часам вернулся в Софию. Озадачивало то, что ночевка была оплачена, – это явствовало из отчета о командировке, – хотя по свидетельству дежурной администраторши отеля ключ от его комнаты, вернее, от номера-люкса, висел у нее еще с обеда. Портье также подтвердил, что серая софийская „волга" отъехала после обеда и больше не возвращалась. Оставалось проверить путевой лист и одно деликатное обстоятельство – где именно провел ту ночь Арнаудов – дома или где-нибудь на стороне.
– Ты окончил? – спросил Досев.
Станчев еще не все сказал. Он подробно поведал историю с купленной седым мужчиной картиной, о которой он раньше лишь упоминал.
– Ты связываешь одно с другим?
Станчев не решился ответить однозначно.
– Пока нет оснований. Я просто перечисляю факты.
– Вот как? И что же получается – если бы не помог случай, мы бы и не взялись за этого седого мужчину в темных очках? А архитектора мы с легкостью отмели? И дружно рванули в новом направлении?
– Никуда я не рванул, – обиженно промолвил Станчев. – Я просто излагаю факты.
Досев снова пролистал справку об Арнаудове, она легла на его стол еще утром. Выходец из середняцкой деревенской семьи, активное участие в жизни гимназии, в летних работах, учеба в институте, сочетавшаяся с комсомольской деятельностью, инженер в цехе, там же принят в партию, главный инженер, товаровед и начальник конторы, четыре года в торговом представительстве, снова контора, снова полтора года за границей, в капстране, начальник отдела в министерстве, заместитель генерального директора, наконец, сам – генеральный. Орден к пятидесятилетию. Никаких партийных и служебных взысканий, высокая оценка труда, доверие. Все правильно и скучно. И ни строчки о характере, норове, привычках и слабостях. Таковы все наши характеристики, пока кто-нибудь не проштрафится. Вот тогда-то начинается литература и психология.
– Станчев, ты знаешь Арнаудова с детских лет. Почему даже из того периода ты не выудил ни одной личной черточки?
Начальство отпихнуло двумя пальцами справку, словно та была заразной.
– Это служебная справка, Тодор. Теперь я займусь его личными делами.
– Когда, Коля? Ты в каком веке живешь?
Станчев обиженно замолчал: опять эти намеки на его медлительность, притом несправедливые – разве возможно составить подробный портрет такого человека, как Арнаудов, за считанные дни при таких деликатных обстоятельствах? Можно, конечно, только для этого пришлось бы много пропустить и сочинить.
– Расскажи-ка мне, что тебе известно о нем с тех лет. Только подробно.
Станчев попросил кофе и углубился в воспоминания, тщательно обдумывая каждую фразу. Он знал характер Досева и отдавал себе отчет в том, что даже малейшие несовпадения будут замечены, а любое невзвешенное слово может вывернуть все наизнанку.
– Значит, насколько я понял, ты его всерьез не подозреваешь? – заключило начальство после того, как следователь завершил свой рассказ.
Ну вот опять… Подавай ему: или – или! Как я могу сказать сейчас, подозреваю его всерьез или не всерьез?
– Ты не спросил меня о Балчеве, Тодор…
– Не я должен спрашивать, а ты мне докладывать!
Станчев вкратце описал свои встречи с Балчевым и Ваневой, сказал, что Балчев, по его мнению, просто столичный донжуан, не более того, и добавил:
– Я пока не подозреваю Арнаудова, просто испытываю некоторые сомнения. И хотел бы их проверить лично, если ты не возражаешь. И он изложил свой план.
Досев долго дымил, постукивая пальцами по столешнице.
– Эх, Коля, ты просто меня укладываешь на обе лопатки… Ты кто – наш кадровый следователь или Шерлок Холмс? Какое сближение, какие легенды и впечатления – ты что, роман пишешь? И сколько времени еще будет тянуться это расследование?
Станчев настаивал на своем.
– Слушай, сперва проверь путевой лист и где он ночевал той ночью в Софии – если сможешь, разумеется. Во-вторых, попробуй еще раз разыскать какого-нибудь случайного свидетеля, видевшего Кушеву с седым. Не могли же они так скрываться, чтобы ни слухом, ни духом… А тогда решим.
Два дня спустя Станчев доложил, что графа в путевом листе уже заполнена, похоже, теми же чернилами и той же рукой, которой вписан не день отбытия из Варны, а следующий день. Из-за того, что проверка осуществлялась в экстремальных условиях – в машине, оставленной на ночь перед домом Арнаудовых, экспертизу провести не удалось.
– Пока в ней нет необходимости, – сказал Досев. Голос его смягчился, словно после простуды, явный признак, что он был доволен. – А ночевка?
Станчев пожал плечами – он не смог придумать предлог и обставить беседу ни с близкими Арнаудова – женой и дочерью, ни с соседями – не получалось, да и рано пока. А насчет случайного свидетеля он считает, что бессмысленно обходить уже опрошенных. Если между ними и была связь, то она была тайной. Досев спросил, почему тот так считает. Да потому, что переворошил в памяти гимназические годы и пришел к неожиданному выводу: никто не знал ни об одном случае любовной связи Григора Арнаудова, любимца учениц и молодых учительниц, ни об одном. Вот так-то, Досев, ни одного намека на какую-нибудь интимную историю.
– Ну и что, собираешься идти на сближение? Ты же не подводная лодка, Коля!
Станчев промолчал.
– А легенда?
Следователь изложил свои соображения и заметил, как левая бровь начальника приподнялась, что означало – вот тебе, бабушка, и Юрьев день…
– Фантазер ты, мать твою за ногу… не пройдет это, генерал нам намылит шею.
Станчев не понимал, почему им надо мылить шею – легенда как легенда.
– Потому что это несерьезно, вот почему. И вообще…
– В таком случае прошу освободить меня от ведения этого дела, – не сдержался Станчев и в ту же секунду пожалел о сказанном.
– А-а-а, вот как, значит… Сочиняешь фантастические легенды, подкидываешь еще более фантастичные идеи, а затем умываешь руки?
Досев встретил страдальческий взгляд Станчева и тоже пожалел о своей шпильке. Чтобы снять напряжение, он спросил, как обстоят дела с квартирой Кушевой. И пока следователь сообщал, что известное время за квартирой велось наблюдение и несколько раз проводились проверки, но никаких попыток проникнуть в квартиру обнаружено не было, Досев подумал о том, что Станчеву все это дается нелегко и вообще случай запутанный и тяжелый, особенно после появления Арнаудова. Этот мужчина заслуживал внимания, но вариант Станчева не обещал многого. К тому же существовал риск, что его раскусят, а если этот след верный, то они с ходу потеряют его, возможно, навсегда. С другой стороны, было что-то привлекательное в наивном плане Николы. Будь в нем хоть один шанс на удачу, воспользоваться им мог только этот чудак. Но как воспримет такой поворот высокое начальство?.. Нет, нет.
– Коля, – по-дружески посоветовал ему Досев, – проверь все командировки этих двоих. Вдруг там окажутся совпадения?
Станчев ответил, что уже побеспокоился об этом – начал проверку документов в нескольких отелях на побережье и в четырех крупных городах, по обе стороны Балканского хребта.
– Плюс все примечательные мотели в округе, – добавил Досев. – Все может быть!
Анетта Кушева и Григор Арнаудов познакомились самым банальным образом – в баре варненского шикарного отеля где-то около полуночи. По традиции Кушева проводила первую половину отпуска в родительском доме, другую – на море. Дома она предавалась лени, окруженная материнской заботой и отцовской лаской. Просыпалась поздно, завтракала в постели, долго стояла под душем, этакая наша Афродита в пене от шампуня, после обеда снова спала, потом отправлялась в гости. Вечера делила между телевизором, новооткрывшейся дискотекой и домашней болтовней. За время пребывания у родных она хорошела, ее кожа, приобретавшая матовый оттенок, притягивала взгляды мужчин, походка ее становилась еще более плавной, а в глазах загоралась потаенная нежность – она становилась похожей на распустившуюся алую розу, затихшую в ожидании утренней росы.
Загодя получив финансовую помощь от отца, истомленная ожиданием Анетта отправилась в Варну и остановилась в дорогом отеле у самого моря. Днем она проводила несколько часов на пляже, плавала, загорала, играла в карты или в волейбол со случайными знакомыми – в окружении ухлестывающих за ней и даже преследующих ее полуобнаженных молодых ковбоев, общение с которыми резко обрывалось за пределами пляжа.
После обеда она спала, затем отправлялась на подводный массаж – процедуру, доставлявшую ей чувственное наслаждение, или в кегельбан, ходила в кино или на эстрадный концерт и после легкого ужина, зачастую состоявшего из одних фруктов, спускалась в бар, чтобы провести время за рюмкой кампари в табачно-музыкальном уюте этого заведения. К ней подсаживались ухажеры, заводили беседу, предлагали выпивку, поездки на машине, без машины, а некоторые переходили к сути вещей без особых увертюр. Анетта вела себя в зависимости от ситуации – то изображая невинность, то учтиво холодно, то предрасполагающе, то резко, в редких случаях принимала скромное угощение, поддерживая неизбежный диалог, но не соглашаясь покинуть бар, а поздно ночью возвращалась в номер, чтобы принять душ и заснуть за чтением очередного переводного детектива.
Уже на второй день бармен, расправив плечи под белоснежной рубашкой, подмигнул своему помощнику: девчушка, видно, из органов, ловят кого-то…
В тот вечер поселившийся здесь же Арнаудов возвращался слегка навеселе: после совещания был ужин с местными товарищами, и они немного приняли на грудь, пришлось возвращаться пешком. Несмотря на поздний час, весь город высыпал на улицы в элегантно полуобнаженном виде, в особенности женская его половина, питейные заведения работали на полную катушку, отовсюду неслась музыка, рычали машины и клокотала многоязычная речь, настраивавшая душу на беззаботный и даже легкомысленный лад.
По старой привычке Арнаудов обвел взглядом переполненный ресторан-сад в надежде обнаружить знакомых, затем заметил вход в бар и без колебания направился туда. Ему не хотелось ни спать, ни читать – перед сном душа просила чего-нибудь крепенького со льдом.
Они заметили друг друга почти одновременно, и, вероятно, это совпадение решило все остальное: оба оценили друг друга практически безошибочно. Перед тем как поинтересоваться, свободно ли место рядом с ней, Григор ловко обшарил взглядом публику и, убедившись, что знакомых лиц нет, направился к Кушевой. Он двигался не спеша, плавно, не упуская ее, казалось бы, устремленного в сторону входа взгляда. Эта ее хитрость была серьезным авансом, по крайней мере так ему показалось в первые мгновения. И потому он решил не терять бдительности.
– Я знаю, насколько рискованно спрашивать молодую женщину о свободном месте, – с подкупающей естественностью промолвил он, отвешивая легкий поклон. – Добрый вечер.
– Добрый вечер, – ответила Кушева, очарованная приятным баритоном.
– Не стану ни мешать, ни досаждать вам. Выпью свое виски и покину вас.
– Почему вы решили, что помешаете мне? – спросила Кушева, иронично оглядев свободные места вокруг себя. – Вы судите по моему виду?
– Вы выглядите прекрасно.
Он приблизился, а она виртуозно выгнула свой стан, дабы подчеркнуть то, что следовало.
– У вас уставшее лицо, – напрямик сказала Кушева. Арнаудов кивнул.
– Совещания?
– Угадали.
– Тогда милости прошу.
Через полчаса они уже налегали на виски с большими кусками льда, углубившись в ночную беседу. В отличие от него, представившегося инженером Василевым из столицы, Кушева не таила ни личных, ни профессиональных тайн. Григор сразу же ухватился за фармацевтику, о которой имел весьма смутное представление… Единственное, что мне известно из вашей профессии, признался он, так это venena А и venena В[22]. Но я даже не знаю точно, что означают эти термины. Анетта объяснила, и разговор завертелся вокруг ядов: какие из них самые сильнодействующие – животного или растительного происхождения? Кушева сказала, что, по ее мнению, страшнее растительные – она имела в виду зеленый мухомор, хотя… Для Григора это было зацепкой… Странно, Анетта, и вот почему: правда ли, что природу можно разделить на животную и растительную?.. Правда… А верно ли, что растения многочисленнее, вычурнее по форме, цвету, запаху и… невиннее?!.. Он заметил, как ее зрачки слегка расширились, и это его вдохновило… Продолжим – растения неподвижны, верны своим корням, я бы сказал… Григор искал слово, но никак не мог его подобрать: я бы сказал, они – стоики… Он заметил, что и на этот раз попал в десятку… И знаете, почему? Потому что в отличие от нас, животных, которые охотятся, нападают, истребляют друг друга, они питаются единственно соками земли, нашей общей матери, они – ее нежные чада. Потому-то я и говорю: более чем странно, что именно эти эфирные и молчаливые создания источают смертоносный яд…
Его слова запали Анетте в душу – она и не подозревала, что он лишь повторяет прочитанные некогда рассуждения, авторство которых давно позабыл. Было у Григора такое ценное качество – в нужный момент привести яркий пример, чужую мысль или наблюдение, афоризм и выдать их за свои собственные, мелькнувшие в голове в минуту общения. Благодаря этому он прослыл интеллигентным и даже мудрым мужем – иллюзия, с помощью которой ему удавалось покорить претенциозные женские сердца и немало рассеянных начальственных голов.
– Как интересно вы рассуждаете, – тихо сказала Кушева, – это вы сейчас…
– Ах, что вы, просто увлекся…
– Тогда не теряйте своей увлеченности еще чуток!
– Не знаю, получится ли… – Арнаудов театрально наморщил лоб. – Да, так речь шла об эфирных и – заметьте – немых созданиях. Мне кажется, Анетта, что, может быть, именно в этой обреченной на стоицизм красоте кроется тайна вашей venena. Я даже думаю…
– Продолжайте, продолжайте!
– Сейчас я думаю, – продолжил Арнаудов, осененный внезапной находкой, – о сущности яда. Не в этом ли обязательная мрачная тень любого живого существа, любого цветка…
– Цветка?
Анетта глядела на него с тонкой поволокой восторга в глазах.
– Именно. И в этом… как бы выразиться, аристократическая реакция природы на яд – эту огромную биохимическую концентрацию зла.
– Вы прекрасно говорите. Продолжайте, прошу вас. Григор и не собирался останавливаться.
– Вам может это показаться наивным, но я представляю себе яд, как гигантскую силу, взрывающую жизнь, как отрицание любой пульсации, дыхания, движения, – понимаете, здесь природа словно говорит: надо создать и тварей, которые будут всасывать смертоносные отходы моего творчества, надо потеснить смерть и резко предупредить жизнь…
Анетта не выдержала и подняла свой бокал, случайный луч блеснул в стекле, и две руки пронзила мгновенная дрожь.
– Вы не инженер… Ваше здоровье!
– А кто же? – просиял Арнаудов.
– Биохимик, философ, писатель…
– Вы мне льстите.
– Не вижу смысла, – ловко солгала она. – Я вожусь с venena А и venena В в аптеке и даже не задумываюсь о их философской подоплеке. Хотя, если не обидитесь, я бы вас поправила…
– О какой обиде может идти речь!
– Вы чудесно говорили, особенно об этом… как это было, о яде как концентрации зла. Я всегда чувствовала подобное, но не могла так точно выразиться… Однако яд не только убивает, он еще и лечит!
Арнаудов почувствовал, что перед ответом следует выдержать многозначительную паузу. Он повертел бокал в руке, пригладил волосы.
– Вы сразили меня наповал, Анетта, это второе великое уравнение природы – соотношение между злом и добром, смертью и жизнью…
Кушева молча сделала глоток, обдумывая его последние слова. От этого опытного мужчины веяло умом и сдержанной красотой, все в нем – безупречный костюм, галстук, запонки, электронные часы – изысканно сочеталось и говорило о высоком классе. Она уняла дрожь и посмотрела ему прямо в глаза.
– У меня наверху есть спелые персики, не пожелаете ли отведать…
Глубокой ночью, почти не ощущая своего веса, но испытывая тупую боль во всем теле, она разглядывала в свете луны спящего рядом Григора. Кем был он, чем занимался? Откуда такая начитанность и умение мыслить, странно сочетающиеся с дьявольской силой мучителя? Она ощупала себя, припомнила пережитое в постели, и ее объял жар: то ли он был сумасшедшим, то ли природа наделила его умом и страстностью в избытке, что он обрушился на нее так восхитительно и дико? И дико – она осторожно потянулась.
Ее подмывало залезть в его пиджак и заглянуть в документы. Опасно – если он проснется, все будет потеряно…
Неслышно, как кошка, с замирающим сердцем она встала с кровати, не спуская глаз со спящего Григора. Засунула руку во внутренний карман, нащупала бумажник из тисненой кожи, – расплачиваясь, он вынимал из него деньги – затем из маленького кармашка двумя пальцами вытащила записную книжку. С этими трофеями Анетта прокралась в ванную. Итак, пропуск в высокие учреждения, каллиграфическим почерком выведено имя ее нового знакомого. Она посмотрела на притиснутую печатью фотографию, сделанную в более молодые годы. Важная шишка попалась. По сравнению с фотографией перемен было немного, если не считать легкой седины в волосах и морщинок вокруг глаз. Анетта посмотрела на себя в зеркало, прижала руки к груди и беззвучно промолвила: Анетта, заплываешь на глубину…
Следующий вечер они провели в ресторанчике на противоположной стороне залива, в отдельном кабинете, выходящем прямо на море. Уединенность местечка и уровень обслуживания подсказывали, что Григор заранее позаботился о приятном времяпрепровождении. Равно как и о пейзаже, открывавшемся взору, – он был восхитителен: с высокого берега, овеваемого прохладным ветерком, открывался вид на большую часть ночного города, феерию громоздящихся на пристани кораблей, темную ласковую поверхность спокойного моря. Вдалеке напротив с постоянными интервалами мигал маяк, в глубине тьмы, на рейде, сияли электрическими гирляндами пароходы. Все предрасполагало к романтичным воспоминаниям или сентенциям, подобным вчерашним, во всяком случае так казалось похорошевшей, отдохнувшей за день Анетте, однако Григор выглядел усталым и слегка озабоченным. Он отмел предположение о заботах, но сознался, что устал, виной чему были напряженный день и сказочная прошлая ночь, а также… возраст. Ты – восхитительна, говорил он, глядя ей в глаза, но я даже не знаю, проклинать или благословлять случай. Григор говорил правду, но для не знающей его Анетты эти слова показались лишь банальной отговоркой. Ее тревожило то, что он скрыл свое высокое положение. Такси он так же остановил не перед отелем, а на боковой улочке. Сюрпризом началось и утро: несмотря на то, что она проснулась в семь, место рядом с ней уже было пусто. Она даже не почувствовала во сне, когда он встал и ушел. Рядом с подушкой Анетта обнаружила записку, в которой тонким стержнем тушью было выгравировано – именно выгравировано, а не написано – что целый день он будет занят, но весь вечер, если она пожелает, он – к ее услугам. Там же значилось время и место встречи. Подписи не было, вместо нее следовало указание уничтожить записку.
Днем Анетта моталась между гостиницей и пляжем, сходила на подводный массаж, потом в косметический салон. После обеда купила перезревших персиков и намазала все тело их соком, который смыла лишь через час. Мысли о Григоре, о встрече в баре и безумной ночи не выходили из головы, доводили до белого каления, кровь ее закипала, и она мысленно низвергалась в бездну оргии… Лежа на пляже, она все время пыталась понять, как этот разумный и сдержанный на людях мужчина может так внезапно преображаться, какое же из его лиц – истинное?
Вечером же она спрашивала его совсем о другом – откуда он родом, когда и где учился, кто его братья, сестры – вопрос о жене и детях был пропущен. Григор отвечал скупо, однако не прибегая к обычным для таких ситуаций паузам и перебросам разговора на другую тему… Я мизиец[23], Анетта, сельский мизиец с городской судьбой – в отличие от тебя, фракийки и горожанки. В его словах не улавливалось ни иронии, ни скрываемого детского чувства неполноценности, часто подмечавшегося ею у других мужчин. В который раз она тайком разглядывала его руки, черты лица. В них не чувствовалось сельского происхождения… Да не может же он притворяться и сейчас?! – подумала она, пронзенная неожиданным подозрением: а вдруг он из спецслужбы…
– Итак, мизиец и фракийка. К чему ты это говоришь?
Анетта полюбовалась его улыбкой – немного скрытной, тихой и, казалось, доброй.
– Я и вправду мизиец, по обеим линиям – потомственный северянин. А ты же фракийка, я не ошибся?
– Наполовину.
– По виду в тебе преобладает фракийское. Можешь не отрицать.
У Анетты не было никакого желания спорить с ним, к тому же в его утверждении была доля истины, неясно ощущаемой ею самой. На нее произвело впечатление, что он подчеркивает различие в их происхождении. И она спросила об этом, а он, казалось, только того и ждал.
– Возьмем, к примеру, среднюю температуру. Тебе, должно быть, известно, что во Фракии она на несколько градусов выше?
Анетте было это известно – еще школьницей она заметила, что в ее краю снег не задерживался, таял, из-под него проглядывала темная земля, источающая пар, и яркая зелень первых ростков. А в детских книжках красовались рисунки утопающих в снегу домов и деревьев, которые ей довелось увидеть намного позже, во время экскурсий по стране. Но что могут значить несколько градусов?
– Как что? Характер, темперамент, много вещей…
Да-да, и это после вчерашнего… – подумала Анетта, еще сильнее начиная подозревать, что он связан со спецслужбами.
– Григор, можно я тебя о чем-то спрошу? Почему нужно было уничтожить твою записку?.. И кроме того, ты женат, ведь верно?
– Очень просто – не люблю личной корреспонденции… А по поводу семейного положения – что тут скрывать: я женат, дочка поступает в институт. Насколько я понимаю, ты не замужем.
– А это заметно?
– Конечно, эти вещи трудно скрыть, Анетта, сколько бы мы ни пытались.
– Значит, ты все же пытаешься?
– Скорее, дело просто в предосторожности.
– И скрытности.
– Может быть, и так. А что тут плохого?
– А ты любишь напускать туману.
– С чего ты взяла?
– Позволь незамужней женщине, да даже просто женщине, кое в чем разбираться.
– Ну вот ты и начинаешь демонстрировать свой фракийский нрав… – Григор ласково пожурил ее, и она не заметила, как растаяла его улыбка: верхняя губа приподнялась и прикрыла углы нижней, образуя два властных изгиба. И лишь от крайне наблюдательного глаза не укрылось бы то обстоятельство, что именно в этот момент края его век также слегка опустились вниз.
Однако Анетта не заметила в нем никаких перемен. Она язвительно-весело стреляла в Григора глазами.
– Ну и что же дальше?
– Прости за прямоту – вот ты мне не веришь, сомневаешься, а все же пустила к себе в постель. Как бы то ни было…
Это звучало грубо, Анетта помрачнела.
– Ах, вот оно что!
Григор понял свою ошибку, однако не потерял самообладания.
– Ты неверно меня поняла, Ани… Хочешь, я тебе признаюсь, что пожелал тебя еще с первого взгляда?
– О, да! Особенно после того, как приценился ко мне! – взорвалась Анетта.
– Это неправда, я и не собирался к тебе прицениваться.
– Ну, извини. Я просто забыла, что вчера вечером тебя интересовали исключительно venena A, venena В…
– Анетта…
– Концентрация зла… Но своего все же добился! Григора не смутила эта внезапная вспышка гнева. – Анетта, ты забываешь, что сама меня пригласила. Это было правдой, унизительной и горькой. Неужели она перегнула палку?
– И все же, чем ты занимаешься, если это не тайна?
Григор ощутил, что от его ответа будет зависеть многое. И без колебания подал ей свое служебное удостоверение в зеленой кожаной обложке. Анетта держала его двумя пальцами, не раскрывая.
– Прочти, ведь ты этого хотела?
Она испытующе, все еще не остыв, посмотрела на него.
– Раскрой и прочти: генеральный директор внешнеторгового объединения. Могу тебе назвать также номера своих телефонов. И номер служебной машины. И фамилию своей секретарши, ее зовут Горева, и я с ней не сплю…
– А ты груб!
В этот миг к столу подлетел воробей, он опустился на самый краешек и принялся с любопытством озираться по сторонам. Оба вздрогнули от неожиданности и уставились на этого непрошеного и явно оголодавшего гостя. Анетта растаяла, принялась называть воробушка ласковыми словами, а Григор мягко пытался сдержать ее порыв, чтобы не спугнуть их пернатого миротворца, накормить его хотя бы крошками. Он отщипнул кусочек хлебного мякиша и ловко подкинул его воробью, тот подскочил, но снова опустился на стол и принялся клевать с бешеной скоростью. Они все еще возились с птичкой, когда над заливом проревел громовой бас, вспарывая небеса и рассыпаясь над темными водами. Воробушка как ветром сдуло, и он больше не появлялся.
Григор поднялся, притянул к себе Анетту и властно впился в ее губы. Они не слышали, как во второй раз по-львиному взревел отчаливавший от пристани, огромный и расфуфыренный, как принцесса, танкер. Рядом с ним, подобно утопленному в море видению, плыло его светящееся отражение.
Розалина проснулась среди ночи без видимой причины. Дом спал, в комнате стояла плотная тишина. Она потянулась в постели, издала тихий мяукающий звук и вышла на балкон. Струившийся со стороны полноликой луны млечно-синеватый свет окутывал спящий город холодным маревом. Она легла животом на перила, вытянула руки и застыла… Если бы у меня были крылья, подумала она, я бы вспорхнула и приняла бы лунную ванну над заснувшим городом. А для этого стоило заиметь крылья, хотя бы на время.
Только сейчас она вспомнила сон, от которого внезапно проснулась… Да, Иван. С той ночи он не давал о себе знать, словно сквозь землю провалился. Сон раскопошил и оживил впечатления той ночи, подстегнул плоть и взвинтил нервы. Да, еще была лошадиная доза алкоголя… Нет, не в этом дело. Тома перегнул палку, и Ивану не дает покоя ревность, еще тут Эмма со своими армянскими прелестями, во всех бушуют страсти, кроме нее самой, но спектакль вышел серьезный, жуткий, погрызлись здорово, но вот только из-за чего, она плохо помнила…
Она выгнулась, как лук, упершись руками в парапет… Иван больше не появится. Эх, было дело, когда он зацепил ее саксофоном и извинился от имени инструмента. Потом они отправились пить кофе – охо-хо! Хорошо, но потом Иван стал комсомольским вожаком – собрания, агитбригады – а она пропускала то одно, то другое, тоже мне – полонезы и мазурки для старушек и солдат! Но Иван – такому только попадись – затащил ее однажды в комитетское дупло, где на стенах криво висели портреты Добри Христова и Людвига ван, ну да, именно… Ты, говорит, что себе думаешь?.. А ей вообще нечего было думать, вот она и ответила: а чего тут думать? А он: верно, думать тут нечего, надо исполнять. Выносим тебе выговор, а в субботу чтоб была на агитбригаде, там-то и там-то, у черта на рогах. Она помнила, как рассмеялась ему в лицо, в самые веснушки под левым глазом, которые потом она так любила целовать… Занимайся-ка ты, Иванушка, своими мероприятиями, а меня оставьте в покое. И лучше поправьте портреты, особенно бай Добри у вас лихо перекосился, не дело это… Тут Иван как вскочит: ты, кричит, кисейная барышня, знаешь, что тебе будет?!… Простофиля. Без тебя прекрасно знаю, что я – кисейная барышня, но тебе, комсомольскому запевале, лучше дуть в свой саксофон и путать бемоли с диезами!.. Это я путаю бемоли с диезами?.. Ты, говорю, и смотрю ему прямо в глаза – знаю свою силу. А он… да, он меня ошарашил, признаюсь. Выпалил такой смачный, хоть на вид и невинный глагол в вопросительной форме, что она даже покраснела. Уставились друг на друга, как звери, готовые к прыжку, – тогда в ее голове пронеслась мгновенная мысль, что вот из Ивана начальника не выйдет… Нет, это было позже, а в первый момент она пыталась проглотить этот самый глагол, застрявший у нее в горле. И самым неожиданным образом ответила ему тем же глаголом, но уже в повелительном наклонении – ну давай, чего ждешь… Ах да, вспомнила, грызться они начали с темы бедности.
Как бы то ни было, после этой дуэли в консерватории они отправились перекусить, и, ужасно стесняясь, Иван, вытащил бумажную мелочь, помятую, как его штаны. Если честно признаться, до тех пор она и не задумывалась о власти этих неистребимых бумажек с универсальными возможностями, вообще не задумывалась, а тогда (хоть повод был ничтожный – каждый может оказаться как-нибудь без денег), в тот вечер, она присмотрелась к Ивановой одежке: старая рубашка из простого сукна, сбитая обувь – этот паренек прозябал в удручающей бедности. Позднее она убедилась в этом своими глазами, когда попала в его дом с потрескавшимися стенами в бывшем рабочем квартале, когда пожала загрубевшую от стирки руку его матери. Но это было позднее, а тогда в кафе она изучала молчаливого Ивана, разглядывала его чувствительные пальцы прирожденного музыканта, которые безошибочно могли взять любой бемоль или диез, почувствовать любой диссонанс, обычно терпкий и отрезвляющий. У него были тонкие пальцы с резко выделяющимися суставами. Тогда Иван почти ничего не сказал о себе, о своем рано умершем отце, рано кончившемся детстве – он не любил говорить об этом и позднее, болезненно бледный, но непреклонный, это чувствовалось по рукопожатию. Говорили об обыденных вещах, в основном о консерватории – инкубатор тщеславия – хорошо, а почему именно сакс?.. Иван глядел на нее с какой-то светлой рассеянностью, которая ему шла, запомнился и его ответ: это инструмент городских окраин, случалось ли ей бывать там тусклым осенним утром?.. Случалось, хорошо сказано. А ты не устаешь?.. Дую, отвечал Иван… Так-то вот, дует человек. Младший брат, тот тоже дул… А мать?.. Что мать?.. Она не поет, не играет на чем-нибудь?.. Он криво усмехнулся: у нее другие песни, для них нот еще не придумали. Однако в его словах не чувствовалось самосожаления, скорее примирение – нет, было что-то особенное, дерзкое в его глазах. Невольно она сравнила его с маменькиными сынками и сопляками из консерватории. Поступил он сам, без связей и звонков, без крапивной лихорадки семейного напора. Дует себе человек…
И, может быть, все и закончилось бы этим заходом в кафе, но судьба – лукавая дама. Отправились они выступать в какой-то дом культуры, для народа. Тогда впервые она услышала его игру. Саксофон висел у него через плечо, как огромная блестящая трубка, ужасно чувствительная к неуловимому дыханию его души, то по-пьяному рычащему, то призывному. Иван наклонялся и раскачивался со своей бездымной трубкой, все в нем трепетало и извивалось исповедально и сдержанно – тогда эти определения не приходили ей на ум, но она чувствовала это, хоть и не так ясно, как сейчас. Иван был музыкантом от бога, он мог поступить в консерваторию и бросить ее, как собственно потом и поступил. Он играл не на публику, не по программе и не по обязанности, а в первую очередь для себя самого. Аплодировали ему бурно, по инерции, но также и повинуясь какому-то внутреннему побуждению – зрители прониклись его игрой.
После концерта они побрели куда глаза глядят, она похвалила его, а он беззаботно размахивал руками, было в нем что-то от бедных музыкантов со страниц сказок. Хорошо дуешь, сказала она, душа твоя дует… А он: брат лучше дует, хотя ему не хватает техники. А ты дока в музыке… Похвала это была ей или укор? Должно быть, и то, и другое. Спросила его, чем он будет заниматься, когда окончит… Хотел бы играть по ресторанам… Это что, шутка?.. Я, говорит, редко шучу, малышка… Она помнила, что в тоне его прозвучало что-то похожее на угрозу. С чего это вдруг, чем она заслужила эту „малышку"? Так ему и сказала, а он так и прыснул: мне ли тебе грозить, да и тебе нечего меня воспитывать.
Расстались холодно, но через несколько дней снова пили кофе в одном из соседних заведений. И чем больше он выказывал свое равнодушие к ней, тем больше ее тянуло к нему, она подначивала его, хвалила или корила, причем уже в присутствии Эми и Томы – и все только для того, чтобы завоевать его, обладать им, верно, так было дело, сейчас она признавалась себе в этом. Пока однажды он не сказал: Роси, на честолюбии играет тот, у кого нет собственного положения в жизни. Это задело ее, и они снова перестали видеться – вплоть до той поездки на дачу.
Розалина выпрямила затекшую спину, хрустнули позвонки. Запутанный я человек, вздохнула она, сама не знаю, чего хочу… За ее спиной почивал в торжественном молчании их богатый дом, спали те, кто ее создали. Во времена детства и девичества они были ее кумирами, самые добрые, самые сильные люди из тех, кого она знала. На ее глазах и дом становился все красивее и уютнее, появлялась изысканность, даже роскошь. Вскоре к нему прибавилась и дача, сначала недостроенная, необставленная, но всего за пару лет она превратилась в полноценного конкурента их городскому жилищу. Количество машин удвоилось, одна – западной, другая – восточной марки, лично для нее. Отдых на побережье чередовался с поездками за рубеж, главным образом на Запад, откуда вместе с впечатлениями и диапозитивами привозились вещи и вещички, агрегаты и аппаратура, хай-фай, точное воспроизведение оригинального звучания, точное воспроизведение амбиций. Она не могла забыть все волнения и страсти по поводу замены пианино, доброго старого немецкого пианино, чье место занял сияющий венский мастодонт высшего класса – все семейство судачило долгое время по поводу пошлины. Тогда она не понимала значения этого плебейски звучащего слова и дивилась изобилию выматывающих душу разговоров, связанных с ним. Наконец с пошлиной все было улажено, и пианино водворилось на уготованное ему место в гостиной, чья акустика была определена специалистом, оставалось самое простое – играть на нем. И на нем играли – каждый день, без выходных. К тому же времени появилась и латунь с зеленым налетом – сперва были водворены латунные светильники в гостиной, затем была сменена каминная решетка, за ней – решетки на батареях, невесть откуда прибывали латунные вазы для цветов, планки для порогов, задвижки и ручки на окна и двери, декоративные тазы и тазики, чего только не было. Латунь, латунь, латунь. Почти не темнеющая, с зеленым налетом, без пятен, не страшащаяся окисления, „хай фиделити"…
Хай фиделити, повторила она, высокая точность, верность. По отношению к предмету, который не был реликвией, памятью рода, подарком, – нет, он был куплен в фирменном магазине, произведен в массовом количестве, хоть и подернутый зеленью. Время его облагородит, обязано облагородить. Но зачем? Чтоб он был еще красивее, еще изысканнее и радовал глаз или чтобы спокойно можно было похвастаться перед гостями: вы только взгляните, какая благородная зелень…
Гости. Большинство из них она изучила, как свои пять пальцев, их манеры, наряды, привычки, речи. Все откормленные, устроенные, обеспеченные. По-государственному снисходительные к жизни за бугром, они знали толк в латуни и китайском фарфоре, в картинах и английском сукне, в драматургии и итальянском фаянсе, в немецких автомобилях и икебане – не говоря уже о спорте, эстраде, медицине, международных туристских маршрутах и известных отелях. Они разбирались в еще более удивительных вещах и неустанно следили за ними – например, за номинальной и реальной стоимостью доллара, франка, лиры, песо, драхмы, а также за соотношением между фунтом стерлингов и турецкой, итальянской и даже египетской лирой, причем им всегда были известны валютные курсы в данный момент. Знали, почем идет дамасское сукно на главной торговой улице Капалы в Стамбуле, величину скидки на покупку скандинавской мебели, японских телевизоров с дистанционным управлением, немецкого видео. Среди них были и те, кому привелось смотреть на Пятой авеню „кэйбл ти-ви" – кабельное телевидение – ах, какое изображение, какие цвета, фантастика, хай фиделити!
А Иван снова пропал. Сгинул в своей Коневице – и с концами! Не дело это, Джон, невежливо, переигрываешь. Не тебе учить женщину морали, зелен ты еще для таких дел…
И Эмма пропала, и она, гусыня, переживает. Лишь Том ходит кругами, как медведь вокруг бочонка с медом, не смог добраться до нее в тот вечер и закомплексовал. Бедняга, simple[24], прямой, как ученическая линейка. А Иван пропал, растаял, как снег по весне.
Через несколько дней она не выдержала и отправилась в заведение, где он играл. Исполняли блюз, Иван выдвинулся слегка вперед, как всегда старательный и точный. Однако ей показалось, что ему изменяет вдохновение – из саксофона лилось что-то ровное, да и стойка поражала неподвижностью. Он ее не заметил, и это позволило ей спокойно наблюдать за ним. Но зачем собственно требовалось наблюдать? Он был прежним, в белой рубашке и черных брюках – форменной одежке заведения, оркестр вяло следовал за ним, дважды пианистка сбилась, но Иван не выразил ей укора. Приближалась полночь, большинство людей за столиками были в подпитии, никто не танцевал.
Музыкальная программа кончилась, кто-то одиноко хлопнул в ладоши. Иван положил саксофон на пианино, перекинулся парой фраз с гитаристом, светильники предупредительно мигнули, мол, закрываем. Иван взял матерчатый чехол, аккуратно засунул в него инструмент и положил на скамью, словно укладывал его спать.
Она почувствовала, как напряглась, быстро расплатилась за недопитую кока-колу и вышла на улицу. Зачем все-таки она пришла – обвинять или предложить мировую? И в том, и в другом случае ее заинтересованность была очевидной – но все-таки, что брало верх: чувства или честолюбие? Не впадай в детство, о каких чувствах может идти речь! – разозлилась она на себя и направилась к машине, но не села в нее. Устроилась в тени от уличного столба, откуда хорошо было видно выходящих из ресторана.
Иван появился неожиданно – вышел через служебный вход, почти за ее спиной. И хотя в первые мгновения он ничем не выдал себя, она шестым чувством поняла, что кто-то остановился за ее спиной. Они посмотрели друг на друга.
– Меня ждешь?
– Тебя… А что, это запрещено?
Она помнила, как Иван мягко усмехнулся, – похоже, она себя выдала.
– Засады запрещены, Роси.
Контакт был мучительным, и оба сознавали это.
– Как ты? – спросил он.
– Предположим, хорошо. А ты?
– Как всегда.
– Ты ужинал?
– Конечно, а что?
Она не знала, почему спросила об этом.
– Тогда давай я тебя покатаю на машине…
Она никогда не забудет его взгляда – испытующего и вещего. Роси была уверена, что он откажется, однако он сел в машину.
Они пересекли город, выехали на кольцевую дорогу. Куда теперь? Неведомо. Хотелось размяться, может, предложить ему пройтись? На помощь пришел указатель, и она резко свернула в сторону горного курорта, пришпорила мотор. Оба молчали. На поворотах шины свистели, навстречу попадались запоздавшие машины – куда тебя несет, Розалина, смотри не перескочи через горный хребет. Они выехали на открытую площадку, остановились и вышли на воздух. Глубоко внизу какой-то другой, незнакомый мир развертывал перед ними ночное полотно освещенного города. Зрелище было сказочное, словно неведомая рассеянная небесная сила расшвыряла бесчисленное множество горящих ожерелий. Она помнила, как остановилась взглядом на предположительном месте своего дома, куда глядел он, она не могла понять.
– Давно я не приезжала сюда ночью, а ты? – что-то похожее выдавила она из себя.
Иван вообще здесь никогда не был.
– И знаешь, о чем я думаю – расстояние это обман. Отсюда наш город, словно сказочный, а внизу совсем другое.
Слишком выспренно получилось, но человек задумывается о своих словах только после того, как они слетают с языка. А он ответил просто:
– Да и в жизни так.
– Всегда?
– Почти.
Она присела на скамейку, он остался стоять.
– Ну и что, сейчас займемся поиском исключений?
– Без меня, Роси.
Разговор не клеился, и это было естественно, тем не менее она неизвестно зачем продолжала…
– Знаю, чего ты ждешь. Чтобы я сказала, что произошло потом, верно?
– Ошибаешься. И прошу тебя, не надо исповедей. Тут она не выдержала.
– Пусть тебе твоя бабка исповедуется!.. Откуда такое самомнение?
– От моей бабки.
Он пошел наверх и исчез в кустах. То ли психанул, то ли сунулся туда по нужде? Пока она прикидывала, как вести себя дальше, Иван вернулся с зеленой веточкой в руках. В этом было что-то провинциальное, и это придало ей смелости.
– Ты виделся с Эммой?
– Да, а что?
– Просто так… А с Томой?
– Гм…
Напрасно было ожидать, что он спросит, а встречалась ли она с Томой.
– И о чем вы беседовали?
– О тебе, Роси.
– Ха! Дала бы левую руку на отсечение, чтобы узнать, о чем вы там сплетничали…
– Не разбрасывайся так легко своими конечностями.
Напротив, над обрывом, вздымалось огромное ветвистое дерево, она запомнила его. Бук или дуб, оно издевательски шевелило своими бессчетными темными листьями. Но шелест не достигал слуха.
– Так о чем же вы болтали?
Она не знала и не была способна узнать, о чем он думал в эти минуты. А его мысли были простыми. Иван глядел на обсыпанную звездами долину и пытался разыскать точку своего дома. Брат уже давно спит, а мать ворочается в кровати. Может, из-за того, что он редко задерживался допоздна, не предупредив ее, а может быть, причина была глубже – последнее время он все чаще замечал в матери тревогу за него, особенно после того, как он бросил консерваторию, чтобы они могли сводить концы с концами. На днях он случайно узнал, что она устроилась уборщицей еще в один дом, и сделал ей выговор, настаивал, чтоб она бросила это дело – где взять силы, а она потупила взгляд – надо было тебе доучиться до конца, мой мальчик… Ну и что было бы, если бы он закончил, все оркестры только его и ждут. В памяти у него встали строки из недавно прочитанных мемуаров известного композитора прошлого века, его безумные любовные муки в корчмах на римских окраинах. И чем же все кончилось? Раздорами и разрывом с божеством, его кумиром, превратившимся наконец в его законную супругу. Жизнь высыпается сквозь пальцы, остается дело, „Фантастическая", „Римский карнавал", страшная история. А ведь сам он родом не из Галлии, да и в Риме не учился и не страдал, ничего фантастического в ближайшем будущем не предвиделось, а его чувство к Роси как-то странно становилось невесомым и улетало на пораненных крыльях. И что же сейчас – начнется натянутая ложь?
– Роси, предлагаю возвращаться, я уже сплю.
Его слова обожгли ее, как удар кнута. В них крылось ее поражение, может быть, самое болезненное в ее жизни. Впрочем, ей пока еще не приходилось по-настоящему испытывать горечь поражений, если не считать двух неудачных попыток поступления в консерваторию. Незаметно для нее в голосе зазвучали ледяные нотки:
– У меня нет ни малейшего желания возвращаться в ближайшее время.
Это было очередной ошибкой. Не произнеся ни слова, Иван зашагал вниз по шоссе. Сперва она опешила, но в следующие мгновения ей стало ясно – Иван уходит. Значит, так, ну давай… – пришла она в себя, но по-прежнему была бессильна что-то предпринять. А можно было сделать одно из двух: либо догнать его бегом или на машине, либо пересидеть здесь, пока он не спустится в предместья. Был и третий путь: пронестись мимо, заставив его выскочить на обочину. Пришла в голову и четвертая возможность: забраться на машине повыше, к отелям, засесть в каком-нибудь баре и надраться. Ее пронзило безумное желание настигнуть его и повалить в траву, в последний раз или…
В ее памяти, как в калейдоскопе, замелькало все пережитое с ним: их мучительное сближение, первые упоительные ласки, которым не сопутствовали принятие спиртного и распад души, к чему она пристрастилась еще в гимназии. Она ощущала его дыхание, чистое, теплое, слышала его слова, простые и нежные, да, его любовь излучала чувство опеки со стороны сильного, который не подчинял, не нападал, а незаметно овладевал тобой. Иван любил так же, как играл…
Она помнила, как по всему телу пробежал озноб. Не может такого быть. Невозможно, что это все оказалось миражом, исчезнувшим в алкогольных парах и табачном дыму, – но почему, ведь это же бессмысленно… Какая разница, школьники они или патриархальные крестьяне, нельзя же разрывать отношения из-за одной подначки, одной вольности, конечно же, дурацкой! И нельзя же ее считать настолько пропащей, не видящей разницы между ним и этим Томой, совсем пропащей, последней шлюхой, которая предлагает себя первому встречному! Дурак.
Нет, не дурак. Скорее дело в честолюбии, чрезмерном, болезненном. Она вскочила на скамейку, словно оттуда можно было его увидеть и вернуть. Эге, значит, он – честолюбец, а она – послушная коровка, которую можно доить… Ого, дорогой, если твои периферийные нравы и воспитание позволяют тебе надеяться, что тебе позволено то, что заказано мне, то ты глубоко ошибаешься…
Она ударила кулаком по скамье и почувствовала боль, облизала ладонь и плюхнулась на сиденье машины. „Шкода" опасно накренялась на поворотах, шины сипели, сзади рычал мотор, а горы и небо мотались то влево, то вправо, словно раскачиваемые могучим землетрясением…
Она не заметила, как появились окраинные дачи. Ивана нигде не было. Невероятно – за такое короткое время он не мог спуститься. Где же она его прозевала? С яростью автогонщика она развернула машину и понеслась в гору. Не обнаружила его и на обратном пути. Значит, где-то спрятался. Или свернул на какую-нибудь тропку.
В полной тишине, с выключенным мотором и с ногой на педали тормоза, она спускалась к городу, оглядывая каждый куст, каждую просеку. У первого переведенного на мигалку светофора ее ожидала милицейская проверка…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |