"Частное расследование" - читать интересную книгу автора (Екимов Борис Петрович)
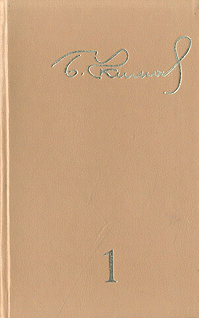 |
Екимов Борис Частное расследование
1
Уже растерял декабрь добрую половину листков календаря, а земля еще лежала по-осеннему черной. И может быть, потому по утрам долго не светало. Ночь нехотя оставляла нахохленные от долгой осени домишки, темные от дождей заборы, пустые огороды и, отступая от поселка в степь, таилась там до поры по буеракам, логам да балкам.
Тусклый день едва успевал разлепить глаза, как следом, чуть ли не с полудня, тягучие сумерки начинали мало-помалу гасить его зябкую синь.
Старые люди в домах попусту огня не жгли, управляя дела свои привыкшими за долгую жизнь руками. А на работах да в школах день-деньской окна желтели.
В одной из комнат редакции районной газеты горела настольная лампа с зеленым колпаком. В комнате было сумрачно, лишь светлое пятно огня лежало на столе. Хозяин кабинета, Лаптев, не работал, а стоял у окна в ленивом раздумье.
На улице низко, над самыми крышами, висело сизое, озябшее небо. Ни в одной из сторон близкого горизонта не было видно зловещей чугунной теми предвестника снежной тучи. Не было снега, не было...
Тесно прижались к земле темные домики поселка; скучным сиротским табунком торчали среди них двухэтажные кирпичные коробки центра; нелепые сорочьи гнезда чернели в сирых деревьях парка. Осень стояла, поздняя осень.
И лишь против дома редакции ясень-трехлеток не совсем облетел; и потухающий костерок редких его листьев тлел еще, еще светил в сумрачном осеннем дне, грел еще взгляд. Может, один во всем поселке, а может, и в мире.
Лаптев стоял у окна долго, до тех пор, пока в дверь не постучали.
- Войдите! - крикнул он и пошел к столу,
- К тебе можно, папа? - в дверь заглянула светлая сыновья голова, а потом и сам он вошел.
- Конечно, заходи, заходи, - удивленно сказал Лаптев. - Свет включи.
Алешка, сын Лаптева, обычно на работу к отцу не приходил. И потому Лаптев несколько встревожился.
- Что случилось? - спросил он, а сын искал и найти не мог выключатель. Ну, что же ты... - укоризненно сказал Лаптев.
Наконец выключатель щелкнул, и на потолке зажглись и мерно зажужжали две люминесцентные лампы.
- Так что случилось? - повторил Лаптев.
Алешка дверь плотно закрыл, огляделся опасливо.
- Сюда никто не зайдет? - спросил он и добавил, указывая на второй, пустой нынче, стол комнаты. - Где? Этот?..
- Болеет. Проходи, садись.
Алешка уселся возле отца, потискал руками шапку, положил ее перед собой.
- Лидию Викторовну с работы уволили, - сказал он.
- Какую Лидию Викторовну?
- Какую... Балашову.
- А-а-а, - понял Лаптев. - Это Машина мать?
- Да.
- А где она работала? Я что-то подзабыл.
- В школе, делопроизводителем.
- У вас в школе?
- Да не у нас она работала, а в школе-интернате.
- Вспомнил, вспомнил... - торопливо проговорил Лаптев. - А почему ее уволили?
Алешка пожал плечами.
- Но ее неправильно уволили,- сказал он.
- Ты-то откуда знаешь?
- Неправильно, - повторил сын, опуская голову. - Лидия Викторовна... начал он, но, видно, не нашел что сказать и снова повторил настойчиво: Неправильно, и все.
- Значит, неправильно... И ты хочешь, чтобы я ей помог? - улыбнулся Лаптев. - Так?
Алешка его легкомыслия не принял. Словами ничего не сказал, но поглядел осуждающе и поднялся.
- Ты сможешь? - спросил он, забирая со стола шапку. - Только нужно быстрее.
Поняв свою ошибку, Лаптев ответил серьезно:
- Постараюсь узнать, в чем дело. Это, конечно, не мой отдел, я занимаюсь сельским хозяйством, - объяснил он. - А такими делами у нас обычно...
- Так ты не сможешь? - досадливо перебил его сын.
- Ну, сказал, сделаю, узнаю...
Алешка повернулся и пошел к двери. Лаптев тоже поднялся.
По коридору они шли почти рядом. Лаптев чуть сзади. Дверь одной из комнат распахнулась, и кто-то из своих, редакционных, крикнул:
- Вот это сынуля вымахал!! Лаптев, в кого он у тебя, а? Ты - лысый, а у него копна на голове! Да и здоровый вымахал! Это точно в прохожего молодца! А?!!
Алешка, нахлобучив шапку, заспешил и, оставив отца, исчез за поворотом на лестничной площадке. Он стеснялся и, видимо, поэтому на работу к отцу не заходил; если нужно было, звонил по телефону. Он все же еще пацаном был пятнадцатилетним и, видимо, стеснялся роста своего и стати.
Да, Алешка, младший сын Лаптева, и впрямь удался на славу. С малых лет он словно поеный бычок рос. Но все мальчишкой был, хоть и дюжим. А в последние год-два маханул вдруг и на голову отца перегнал и в плечах развернулся. Над верхней губой зазолотился мягкий пушок. Нет, не рослым мальчиком уже гляделся Алешка, а парнем, да еще каким. Светлые волосы мягкой шапкой лежали на его голове, глаза голубели мартовской синью, и северный румянец в дело и не в дело полыхал на белом круглом лице. Откуда что взялось...
Лаптев вернулся в свою комнату. Чуть заметная улыбка бродила по его лицу, а на душе было и вовсе хорошо. Нынешний приход сына и его просьба значили для Лаптева очень и очень много. Дело в том, что Алешка, младший сын, любимый, последыш, взрослея, все далее и далее отходил от отца. Характер у него оставался прежним: он был спокойным парнем, добрым - жаловаться на него было грех, - но какой-то холодок отчуждения появился в последние годы между отцом и сыном.
Лаптев понимал, что это дело естественное. Наверное, так было и со старшими детьми, он уже не помнил.
А может, просто он сам старел, и хотелось ему, чтобы подольше, а может, и навсегда рядом был прежний Алешка, для которого отец - высшая сила и правда.
Лаптеву льстило и то, что именно сюда, в газету, пришел сегодня Алешка. Не только как отца, но и как журналиста просил его помочь.
В недавние еще времена Алешка отцову "районку" уважал более других газет. Он читал ее, особенно статьи Лаптева. И работой отца откровенно гордился. Но хоть и недавние то были времена, да не нынешние. А нынче, совершенно точно, Алешка относился к отцовой газете весьма снисходительно. Читать он ее не читал. А если и проглядывал, то с какой-то покровительственной усмешкой. И это равнодушие, даже пренебрежение сына было для Лаптева очень обидно.
В раздумьях, вспоминая былое, Лаптев во многом себя винил. Он, конечно, был виноват, виноват во многом. Особенно ясно вспоминался ему одни случай. Вспоминался часто, навязчиво.
Это было два года назад, уже здесь, в этом поселке. Алешка встретил отца на пороге, с газетой в руках.
- Папа, вы здесь все перепутали, - быстро загово рил он. - Здесь неправильно. Этих ребят уже и в школе нет.
Лаптев посмотрел. В номере стоял снимок: школьники за столами сидят, собрание.
- Что перепутали? - спросил он. - Комсомольское собрание, все нормально.
- Они еще в позапрошлом году школу кончили. Вот эта девочка... Вот эта... Она уже замуж вышла, у нее ребенок уже, - Алешка глядел на отца испуганными глазами. - Тебя теперь будут ругать?
Лаптев прочитал вслух подпись к фотографии:
- "Комсомольское собрание в школе", - и засмеялся:- Ничего... Ерунда... Это тематическая полоса, комсомольская. Не было снимков, ну и сунули. Текстовку правильно сделали. Здесь же конкретно ничего не указано,- разъяснил он не столько сыну, сколько себе.- Ничего, сынок, ерунда... Все нормально, пошли ужинать.
На кухне, за столом, Алешка снова начал:
- А у нас в школе смеются... - Подождав, он поднял на отца глаза, вопрошающие и снова испуганные, и забормотал: - Ведь они же в позапрошлом году кончили... У нее ребенок родился, вот у этой девочки,- он снова потянулся за газетой, которая лежала на подоконнике.
Лаптев остановил его:
- Ешь, ешь. - И усмехнулся: - Эх, Алешка, святая простота, - и не сыну, а жене начал рассказывать о каких-то ошибках, еще более нелепых.
Конечно, не надо, не надо было при Алешке заводить этот разговор, и про снимок можно было по-иному объяснить. Потому что, может быть, именно с того вечера все и началось. А может, и не с того... Всего не упомнить.
А может, Лаптев все это сам придумал. Может, просто Алешка взрослел, умнел, начинал кое-что понимать. Может, и так.
Но сейчас Лаптев торжествовал. "Вот так, Алешка, - разговаривал он в душе с сыном. - Так-то, дорогой мой пацан. Не такой, значит, и балбес твой отец. Не такими уж пустяками занимается. Воротил-воротил нос, а приперло - ко мне прибежал. Куда же еще..." Лаптев посмеивался, довольный.
Но радость радостью, а дело нужно было делать. И дело неприятное, кляузное. Лаптев знавал такие дела и никогда их не любил. Ведь только жалобщику ясно, что с ним неправильно обошлись. А начни копать...
Улыбка с лица Лаптева сошла. Он записал на листке календаря: Балашова. Имя-отчество повспоминал - не вспомнил.
Машу он знал. Маша Балашова часто приходили к Алешке. Они дружили. Маша, видимо, нерусской была по матери. На татарочку смахивала или на башкирку. Как и Алешка, круглолицая, но черноглазая, с черными длинными косами. Симпатичная девочка, приятная, скромная. Видно, в мать, потому что Машиного отца, Евгения Михайловича Балашова, учителя математики, Лаптев помнил хорошо. Балашов умер год назад, а до того преподавал в Алешкином классе, и Лаптев знаком был с ним. Умер Балашов как-то неожиданно. Не то почки у него подвели, не то печень. Лаптев и сейчас помнил его. Хороший был мужик Евгений Михайлович, Алешка его всегда хвалил. А вот жену его Лаптев не помнил. Может, и видел когда... Да, наверное, видел на собраниях и где-то еще, ведь городок небольшой. Но не помнил, и все. Видно, Маша в нее, нерусское что-то в лице, а Евгений Михайлович нижегородский был. Хотя... Вон Алешка в кого? В деда, говорят, в знаменитого деда, в отцовского батю, в Матвея, про которого сказки всякие рассказывали. Видеть его Лаптеву не пришлось, а уж слышать - наслушался.
Лаптев дважды подчеркнул написанную на календарном листке фамилию и задумался. Хороших знакомых в школе-интернате у него не было. Как, впрочем, и во всем поселке, где он был человеком новым, приехавшим сюда лишь два года назад. Но, несколько подумав, он вспомнил об инспекторе районе, с которым познакомился в одной из поездок. В столовой они вместе обедали, а главное были завзятыми рыбаками, на том и сошлись.
Ему Лаптев и позвонил. Инспектор оказался на месте. Выслушав, он сказал:
- Подожди, я тебе перезвоню с другого телефона.
А перезвонив, объяснил:
- Там у меня бабы сидят. А это такой народ, сразу уши навострят. Так зачем тебе Балашова? Вам, что ли, пожаловалась?
- Вроде этого, - уклончиво сказал Лаптев. - Я твое мнение хочу знать. Неофициальное. Лично твое. Не для газеты, а для себя. Как там и что, если не секрет?
- Понимаю. Так вот, я увольнением Балашовой не занимался. Приходил их директор и разговаривал с заведующим и с профсоюзом. О чем они толковали, не знаю. Но вообще я считаю, это нехорошо. Евгений Михайлович у нас работал. Хороший был математик. Двое детей все же...
- У нее еще есть?
- Девочка в девятом, мальчик в пятом. Хорошие дети. Ну, вот... Я думаю, это неправильно, просто не по-человечески. Тем более среди зимы, не предупредив. Где она у нас устроится? Это же не город... Там, конечно, есть какие-то... - помялся инспектор. - Что-то у нее нашли... С бумагами какой-то непорядок. Но если она подаст в суд, я думаю, ее восстановят. Но это просто мое мнение, частное, понял? Если тебе нужно для газеты, то я ни при чем, обращайся к заведующему, в профсоюз. Пусть они и объясняются, они этим делом занимались.
На том разговор и кончился. Но Лаптеву большего пока и желать не приходилось. Он просто должен был убедиться хотя бы в малой правоте Алешкиных слов. И лишь тогда начинать дело. Эта правота теперь была налицо, и, кажется, весьма немалая.
Теперь можно было идти к редактору, чтобы официальное согласие получить, и тогда уж начинать основательный разбор.
Редактор был у себя. Он занимался цветами. В просторном кабинете их было немало.
Широко плелся возле стены, по лесенке, восковой плющ гойя, который цветет снежными малыми звездочками, такими душистыми, что в пору его цвета из комнаты не уйти, недаром росинка меда поблескивает в каждой его чашечке.
С книжного шкафа пушистой бородой свисал аспарагус, а по-русски так просто "кудельки". Ползучий фикус, "бабьи сплетни", барвинок тянулись из горшков зелеными прядями. Буйно цвела "невеста". Поток зелени ее, падавший из деревянного ящика до полу, словно фатой, был накрыт легкой пеной белейшего цвета.
Возле окна иноземная гостья колумнея светила высокими язычками алого пламени. И зеленый лист ее, закрывавший стену, отливал медью. А еще одна гостья, фризия, поднимала из широких розеток стреловидных листьев сочные стебли с радужным веером красно-желтых перьев.
Цветов было много. По стенам, на окнах, да еще на каких-то хитрых треногах, подставках, полках и полочках. Много было цветов, и оттого казалось, что свет в этой комнате несколько иной, зеленоватый.
И хозяин всей этой красоты, редактор, сейчас любимым делом занимался: с лейкой и грабельками ходил он от горшка к горшку и поливал цветы осторожно, рачительно, что-то бормотал ласково, словно малых детей кормил, уговаривал.
- Александр Иванович... - начал с порога Лаптев. Но редактор ему граблями погрозил: погоди, мол, и, лишь опорожнив лейку, обернулся к вошедшему.
Без пиджака, в просторных штанах на подтяжках, широкозадый, с лейкой и грабельками в руках, с жидкими, по-дьячковски длинными волосами, редактор сейчас как нельзя более отвечал своему прозвищу - дядя Шура. Так его, конечно, за глаза в редакции звали.
- Чего? - спросил дядя Шура, поднимая на лоб очки. - Срочное дело?
- Срочное, Александр Иванович, сейчас объясню...
- Подожди, - обреченно выдохнул редактор и начал на место укладывать инструмент; потом помассировал отекающие подглазья, пиджак надел и уселся за стол.
- Ну, давай...
Лаптев садиться не стал, лишь оперся на грядушку стула.
- Женщину одну уволили с работы. Видимо, уволили неправильно. Надо разобраться, помочь ей.
- Не-а, - лениво помотал головой редактор. - Пусть к прокурору идет, к юристам. Они разберутся.
- Ну, а мы что?..
- А мы не-а... Слушай,- сморщился редактор.- Чего ты в бабьи сплетни лезешь. Фаина все пишет про то, как мужик бабу побил, вразумляет его. Еще ты начнешь про баб писать. Получится не газета, а женский календарь. Так что брось... Делом занимайся. Зимовку скота мы ни хрена не освещаем, - поднялся из-за стола редактор. - Ремонта техники нет. Полосу Калюжного с передовым опытом не выпустили. Чем перед райкомом отчитываться? А ты мне какими-то бабами голову забиваешь. Ну, а что хоть за баба? Молодая? Откуда она?
- Балашова есть такая, работала она в школе...
- Выгнали? - удивленно спросил редактор.
- Да, уволили, понимаете... - обрадовался Лаптев.
- Правильно сделали, - решительно перебил его редактор. - Одной сучкой возле школы меньше. А ты хочешь, чтобы мы за нее заступались? Во тебе! - и дулю показал.
- Александр Иванович, надо же разобраться...
- Не надо разбираться, - мотнул дядя Шура головой, и волосы его жидкими крыльями повисли, почти закрывая лицо. - Я уже давно разобрался. Ты знаешь, кто она?
- Кто?
- Воровка, - коротко ответил дядя Шура и довольно ухмыльнулся. - Понял?
- Это, Александр Иванович, не разговор. Я ее дочку знаю, она с сыном учится, мужа ее знал.
- Извини, но я не про дочку, - наставительно сказал дядя Шура. - Я про нее про саму говорю: воровка.- И, большой, мясистой ладонью откинув назад волосы, стал глядеть на Лаптева пристально.
- Кто это сказал? - спросил Лаптев. - Кто-то где-то...
- Подожди, подожди...- остановил его редактор.- Я, понимаешь, - подчеркнул он, - я это сказал, - и ткнул себя пальцем в пухлую грудь. - Я же напротив нее живу. Понимаешь? Я же все вижу. Мне жена и теща все уши про нее прожужжали. Как вечер, так у нее музыка, музыка, - плавно повел он рукой. - Кобели табунами идут. Свет притушат... Ты понимаешь? И музыка, музыка... - чуть гнусавя, пропел он. - Шторы закроют. ..
- А как же вы видите, если шторами закрыто?
- Ты это брось... Не хватало еще в окна заглядывать. И главное, вот почему мои бабы на нее обозлились? Они вроде никогда особо сплетнями не занимаются. Главное, она после смерти мужика и недели не выдержала. А занялась этими... сабантуями. Ты меня немного знаешь, я не с базара несу. Просто я здешний и все про всех знаю. И говорю тебе: в это дело мы не полезем. Чего она себе искала, то и нашла. Детей, сирот обкрадывать... Надо же! Все, - мягко шлепнул он ладоньо по столу. - Я тебе запрещаю этим заниматься... Давай лучше подумай о деле. А то, я смотрю, суслики в спячку и ты тоже. Меня и в райкоме кроют, и в отделе печати, как поеду, слова доброго не услышишь, а вы в норы позабились и спите.
Разговаривали с редактором долго. Все о деле. О Балашовой больше речь не заходила. И, вернувшись к себе в комнату, Лаптев почувствовал какое-то облегчение. Гора с плеч. Он не любил кляузных дел, не любил этой нервотрепки, в которой никогда не видно виноватого, а все вроде правы и все не правы - поди тут разберись. Нет, не его голове в этом копаться. Другие любят, а у него душа не лежит. А теперь, во-первых, редактор официально запретил ему этим делом заниматься, и он обязан подчиниться; во-вторых, у Лаптева не было особых причин не верить редактору. Может, тот и перегибает палку, но дыма без огня не бывает. И ко всему, эта Балашова, видно, еще та штучка. В нынешнее время зря не выгоняют. Особенно из школ, там все люди грамотные, учителя.
И, обдумав все это трезво, Лаптев решил: конечно, он против редактора не пойдет. Незачем, да и не нужно. Надо заниматься своим делом. И, окончательно решив, он повеселел, даже бодрость какая-то появилась. "Делом надо заниматься, делом", - пробормотал он вслух. И начал звонить по совхозам. Надо было отклики организовать на последнее постановление. И со сведениями по привесам и удоям совхозы тянули, ждали, когда их подгонят. Вот Лаптев и подгонял. И все пошло привычно, хорошо, спокойно.
Но после обеда, когда схлынула горячка, пришли мысли о сыне, об Алешке. Прежние, утренние мысли, и Лаптеву вновь стало не по себе. Он понимал, как нелегко будет ему с сыном разговаривать. Редакторских доводов Алешка не примет. А кроме них, чем убеждать? Пожалуй что нечем. И потому сомнения появились в правоте дяди Шуриных слов, в общем-то басен, сплетен, тещиных и жениных. И решил Лаптев с другими людьми в редакции поговорить.
Пошел он из комнаты в комнату и везде, где с подходцем, а где и напрямую, принялся выспрашивать о Балашовой.
Секретарь и фотокор - люди помоложе - начали томно глаза заводить, похохатывали понимающе, подначивали:
- Наконец-то Семен Алексеевич заинтересовался приличной женщиной.
- Губа не дура, не дура...
- Есть вкус... Есть...
- Но смотрите, она... штучка. Вам нужно несколько... экипироваться... Шарм, шарм... Мужской такой, понимаете.
И оглядывали Лаптева скептически.
Никакого шарма, парижского или иного, у Лаптева не имелось. По рождению он был вятским. Бывшего Орловского уезда, теперь Халтуринского района, деревня Лаптево.
Короткий нос уточкой, светлые маленькие глаза, крепкий выпуклый лоб и лысина до затылка - это на лицо. И по одежде он от отчины далеко не ушел. Одежду нашивал какую потеплей, покрепче и до полного износу.
С костюмом Лаптеву очень повезло. Купил он его еще до реформы за 1500 рублей, синий, бостоновый, немаркий, старой еще, видно, работы, какие теперь разучились делать. Костюм носился и носился. Сначала много лет праздничным был и одевался на Новый год, на Майские и Октябрьские. Потом пошел в дело. Носился костюм хорошо. Штаны, правда, подсели, и из-под них всегда носки торчали, сейчас шерстяные, черные. Лаптев носил и носил этот изрядно потертый, до блеска, но еще крепкий и всегда чистый - за этим жена следила, - носил этот костюм не потому, что у него денег не было или он их жалел, как некоторые думали. Нет, он просто знал, что одежду надо носить до тех пор, пока она не порвется. Лаптеву очень с костюмом повезло, и менять шило на мыло он не собирался. Тем более, старый костюм уже сроднился с телом, тогда как новый тот же праздничный - был очень неудобен.
Так что все эти хихиканья и насмешки Лаптев воспринимал как глупые и не обращал на них внимания, зная, что одет он чисто и аккуратно.
А сейчас он стоял в секретариате, слушал эту сорочью болтовню, подначки, пытаясь выудить что-нибудь стоящее и в то же время себя не раскрыть.
Наконец он понял, что здесь ничего не узнает, ни хорошего, ни дурного. Хорошего - оттого что эти люди ни о ком доброго слова не говорили. Плохого... Они бы сказали, да ничего не знали, кроме бабьих толков да сплетен. И Лаптев пошел дальше.
Люди постарше были, конечно, добрее. Они Балашовой лишь воровство в вину ставили, тем более в школе, у детей. А что до остального... Они просто жалели мужа-покойника, сирот-ребятишек. Так жалели, что Лаптеву все становилось ясным.
И Лаптев понял, что дело, в которое он собирался лезть, - мутное. И Балашова не без греха, и потому он заниматься ее увольнением не будет. Не пойдет против редактора. Незачем. Совершенно.
А что до Алешки... Так что Алешка? Алешка - пацан. Ему Маша голову задурила. Для нее, для Маши, конечно, мать - святая. Вот она Алешку и настропалила.
Лаптев решил все сыну объяснить. Все допустимое. Он твердо знал, что Алешка его поймет. Алешка, нечего грешить, был парнем спокойным, добрым, понимающим. С младшим сыном Лаптеву очень повезло.
Все эти разговоры, расспросы, волнения несколько расстроили Лаптева, и к концу дня у него начала побаливать голова. А лекарство было одно - идти домой пешком, проветриться. Так он и сделал.
В начале седьмого, когда он вышел с работы, во дворе было хоть глаз коли. Даже в центре поселка, на его площади, среди фонарей и больших светлых окон, темнота низко крылатилась над землей, а чуть в сторону - накрывала такой дегтярной вязкой темью, какая бывает в российской глухомани лишь поздней осенью или ранней зимой, до снега.
Лаптев проводил глазами яркий в ночи кристалл медленно плывущего автобуса и пошел. Ему нужно было обязательно идти пешком, он это твердо знал - идти пешком, чтобы как следует проветриться и не мучиться потом ночью от ноющей боли в затылке.
По теплому времени эти шесть остановок ровной дороги были нисколько не в тягость. По теплому, по светлому... Но не теперь.
Улица, центральная улица поселка, тонула в сырой, ветреной тьме не то осеннего, не то зимнего ненастного вечера. Неоновые светильники на ажурных бетонных столбах - гордость районного начальства - были хороши лишь днем. По ночам они не горели. Лишь иногда какой-нибудь из фонарей, словно спросонок, вдруг вспыхивал, мертвенно светил минуту-другую с каким-то отчаянным жужжанием. И снова гас. А старые фонари, с лампочками в жестяных колпаках, поспешили убрать. И теперь центральная улица поселка тонула во тьме. Лишь скупо светили кое-где окна домов да редкие лампочки во дворах; да желтые полосы автомобильных фар стлались по дороге.
Лаптев приехал в этот поселок два года назад. Раньше он жил далеко отсюда, на Урале, на Севере. Перетянула жена, у нее сестра рядом. Погостив разок-другой в этом крае, Лаптев не противился переезду. Какой-никакой, а юг. И арбузы, и дыни, настоящих помидоров вволю, и прочая овощь да фрукты, какие у них, на Урале, лишь на рынке, за большие деньги можно купить.
Два года быстро прошли. Лаптев привык к новому месту, оно ему нравилось. Работали они с женой, как и прежде. Он - в районной газете, она - врачом. Все было неплохо: работа, квартира и климат, конечно, не сравнить. Вот уж декабрь проходит, а все тепло. Лишь иногда скучал Лаптев по снегу. Зимой скучал, когда слякотно было на дворе.
Вот и теперь он вспоминал свои родные места. Там уж давно снег лежал. И Лаптеву захотелось пройти сейчас заснеженной улицей. По белой дороге, среди домов с белыми крышами, по белой земле, когда светлеет даже самая темная ночь.
Но не было снега, не было... Скупо желтели кое-где незатворенные окна домов. Встречные улицы и переулки проваливались в глухую темноту, вовсе бездонную. И лишь впереди светлело. Там, на краю поселка, трудилась кучка двухэтажных домов. Лаптев жил в одном из них.
И, добравшись до своего дома, он повеселел: дорога позади, и прошелся он славно, проветрился: погода, что ни говори, хорошая, теплая, хоть и декабрь на дворе.
Еще за дверью, на лестничной площадке, Лаптев учуял запах горячего вареного теста и мяса. А через порог ступил, понял, что не ошибся, сладко втягивая в себя пельменный дух, проговорил:
- Пельмешки... Это хорошо... пельмешки. Чего это ты вздумала?
- Фарш сегодня давали, - отозвалась из кухни жена, - два пакета достала. Гляжу, тесто есть в павильоне. Тоже взяла. Вас нет и нет. Начала сама лепить. Вот сварила.
- Я пешком шел. Устал. Башка начала гудеть. Пошел пешком.
Лаптев на кухне с ходу подцепил ложкой готовый пельмень, обжигаясь, съел его, одобрил:
- Ничего. Луку догадалась добавить. Соли в норме и перец тоже. Хорошо.
- Не успеешь, да? - спросила жена.
- Я просто попробовать. Думал, может, ты луку не догадалась. Давай лепить.
Переодевшись, он подошел к столу, начал фарш на кружочки катаного теста раскладывать. Лепил он пельмени ловко, и они у него хорошими получались, кругленькими, пузатыми.
- Ты пельмень, - любуясь, говорил Лаптев и укладывал их друг возле друга, - и ты пельмень. Лопать будет вас не лень. Да... А где Алешка? - вспомнил он.Куда ушел?
- Откуда я знаю, где вас носит...
Алешки не было. Поужинали и телевизор уселись смотреть, а сын все не приходил. Он обычно никогда не загуливался, а при нужде говорил, предупреждал, чтобы не волновались. И оттого Лаптев начинал беспокоиться. Он не столько в телевизор глядел, сколько слушал, ждал быстрых шагов на лестнице, звяканья ключа.
Алешка пришел в десятом часу. Он раздевался в прихожей, а Лаптев кричал ему, перекрывая телевизорный гвалт:
- Алешка, ты где, сатана, бродишь?! Мы с матерью уже хотели искать!
Сын что-то сказал неразборчиво и прошел на кухню. Лаптев направился за ним.
- Говорю, как пельмени лепить, - остановился он в дверях, - Алешки нету. Как лопать, он тут.
Сын, устраивая на плите кастрюлю, сказал:
- Так вышло, задержался, - и повернулся к отцу, поглядел на него вопросительно.
Лаптев взгляд его понял, закрыл кухонную дверь и начал все объяснять.
Алешка слушал спокойно, молча. Слушал и дело делал. Наполнил миску, устроился за столом, ел, на отца лишь изредка поглядывал.
Лаптев все объяснил, насколько можно было. И он еще раз убедился, что сын у него растет понятливый.
Алешка выслушал, сказал: "Все ясно", доел пельмени, миску помыл и ложку, у раковины обернулся, спросил:
- А если она подаст в суд, там ей помогут?
- Помогут, разберутся, - сочувственно покивал головой Лаптев и, поколебавшись, добавил: - Даже есть такое мнение, я не могу сказать чье, но ее, видимо, восстановят через суд.
Сын еще раз произнес: "Ясно - и ушел к себе в комнату. Телевизор он в этот вечер не глядел. Видимо, все же огорчен был немного. Лаптев понимал его. Но понимал и то, что это огорчение ненадолго, как и все мальчишеские беды. И, ложась спать, он еще раз с гордостью подумал, что сын у него растет отличный: спокойный, толковый, понятливый. Дай бог всякому такого Алешку.
(support [a t] reallib.org)