"Искатель. 1964. Выпуск №3" - читать интересную книгу автора
IX
Он отдыхал в каюте почти целый день. После мужественной, даже чересчур мужественной простоты корабля, здесь было очень хорошо. Он отдыхал на уже установленном мягком диване, ни о чем не думая. Чтобы стало возможным ни о чем не думать, он начал рассчитывать в уме возможные параметры установки скользящего поля. Голова была удивительно ясна, и считалось хорошо, только не было машинной памяти и нумертаксора для записи данных, так что довести расчеты до конца он не смог.
Тогда снова на первый план выдвинулся Андрей. Отчего он погиб? Медики говорили, что он не разбился. Медикам можно верить. Не разбился, не задохнулся, не… Ничего «не». Единственное, что он повредил, был медифор. Но и медифор продолжал работать. Так в чем же дело?
Ты тоже подвергался опасности в пространстве. Но с тобой ничего не случилось Он не подвергался опасности, и с ним случилось… Вся разница в том, что ты ожидал чего-то, а он не ожидал ничего. Ну и что? Что от этого меняется?
Выяснить это ему помешал Холодовский. Он вошел, словно в свою каюту — не постучавшись и не спросив позволения; уселся в кресло и обвел каюту взглядом.
— Сюда поставь еще столик, — сказал он.
— Зачем?
— Надо.
Это прозвучало так, что не было никакой возможности возражать.
— Надо, — согласился Кедрин.
— Как думается? — спросил Холодовский.
— Хорошо.
— Не люблю маленьких помещений, — сказал Холодовский. — В них невозможно думать.
— Я привык, — сказал Кедрин. — В маленьком помещении мысль всегда ищет выхода на простор. И находит.
— Я могу думать только на просторе. В доке. Или в кают-компании, когда она не занята. Только она всегда занята. Тесный спутник.
— По-моему, нет.
— Тесный. Мысль о природе запаха впервые пришла ко мне в кают-компании. Додумал я гипотезу в порту. Спутник тесен. Он уже устарел, по сути дела. Задачи растут. И все устарело. Скваммеры… Реликты!
— Хоть ты мне объяснишь, что такое запах?
— Электромагнитные колебания в микронном диапазоне.
— Это все знают. Но каким образом здесь?
— В скваммерах возникает запах. Иными словами, излучение проникает в скваммеры. Запах вызывает потерю сознания. Утрату контроля. Запах возникает не всегда, его нельзя предусмотреть. Был один способ борьбы: при первых же признаках укрыться в спутник. Дело страдало.
— А теперь?
— Теперь дело не может стоять. Всегда у нас был резерв времени. Сейчас этот резерв со знаком «минус».
— Значит, работать, рискуя потерять сознание?
— Потерявший сознание не может работать, — безучастно сказал Холодовский. — Элементарная логика: колебания могут проникать в скваммеры только из пространства. Нужна экранировка: или скваммеров, или пространства. Что бы вы выбрали?
— Скваммеры, — сказал Кедрин.
— Неверно. Мы ограничим подвижность скваммеров. Это невозможно. Остается только заэкранировать рабочее пространство.
— Гигантская работа.
— Другого выхода нет. Надо знать лишь, откуда приходит излучение.
— Это пока неизвестно?
— Пока нет. Сейчас ведется экранирование участка, который я считаю наиболее опасным. Все делается в соответствии с моей гипотезой.
— Она подтвердилась?
— Подтвердится. Ничего другого ей не остается.
«Уверенности надо учиться у Холодовского, — подумал Кедрин. — Таким не страшно пространство».
— Мы не можем терять времени, — говорил Холодовский. — Они ждут.
— Успеем?
— По старой технологии — нет. Разрабатываем новую на ходу.
— Но это невозможно! Для перепрограммирования необходимо остановить процесс. А это замедлит…
— Мы не программируемся — мы мыслим, — сказал Холодовский. — А мыслить можно и за работой. И менять все на ходу. Завтра кончаем пузырь. И сразу заложим корабль. Длинный корабль. — Он произнес эти слова с нежностью. — Звездного класса.
«Черт его знает, — подумал Кедрин, — что-то в этом есть! Звездного класса. Да, что-то есть!..»
— Мы возьмем его с двух сторон, — сказал Холодовский. — Параллельным монтажом. Это мысль Гура. Между прочим, он нашел ее в пространстве. Он любил думать, вися в пространстве. Там он набрел на лучшие свои фантазии.
— Почему фантазии?
— Он прогносеолог — борец с отсутствующими звеньями. Наука проходит путь шаг за шагом. Прогносеология совершает прыжки. И вот он может висеть в пространстве целыми часами и думать, пока хватает ресурсов. Только сейчас у нас нет свободного времени.
— А о чем думаете вы?
— Моя специальность — раум-физика. Только об этом и стоит думать. Теория запаха в вакууме — неплохой вклад в раум-физику. Для чего еще стоит жить?
— Для любви, — сказал Кедрин, потому что он подумал: для любви.
Холодовский коротко усмехнулся.
— Любить надо физику. Вообще — свое дело.
«Ну, конечно, и это тоже, — подумал Кедрин. — Но что нужно Холодовскому?»
Холодовский взглянул на него и усмехнулся.
— Ты прав, мне что-то нужно. Вернее, не мне. Все-таки было бы очень хорошо получить твою помощь при расчете аппаратуры предупреждения. Ты сможешь помочь Дугласу в конструировании?
— Конечно, — сказал Кедрин. — Только без «Элмо» я не очень привык.
— Кое-какие машины у нас ведь есть.
— Что ж, это лучше, чем ничего.
— Так вот, сейчас смена собирается в кают-компании, а мы потом решили встретиться у Гура. Уйти в свободный полет. Так он называет это. Мышление как будто бы без определенной цели, но на самом деле самыми неожиданными путями приводящее к нужному результату.
— Это интересно — свободный полет…
— Так вот, мы ждем, что ты через час зайдешь.
— Не поздно?
— Нет, у нас свой режим. Мы называемся — Особое звено. Вот такие вопросы, вроде запаха, обычно достаются нам.
— Значит, вы не работаете на монтаже?
— Почему же? Как и все…
— Тогда вам приходится работать больше всех.
— Что может быть лучше — знать, что ты отдаешь больше других?
— Это правильно, — сказал Кедрин.
Холодовский вышел, и Кедрин вскочил на ноги. Вечер в кают-компании. А он сидит в каюте и думает неизвестно о чем.
Он вышел в коридор. В нем был фиолетовый сумрак позднего вечера. Но чем дальше от каюты уходил Кедрин, тем становилось ясней. Около кают-компании царил ранний вечер. А в соседнем коридоре, куда он по ошибке заглянул, царила ночь, люди отдыхали в своих каютах; и, наверное, как и на Земле, только наиболее одержимые поиском, те, у кого решение было уже близко-близко, оставались в своих лабораториях, и для них смена суточных циклов превращалась в пустой звук. Правда, с завтрашнего дня, когда будет заложен длинный корабль, работать придется в полтора раза больше, чем обычно, и лабораторные проблемы будут отложены — замрут приборы, останутся в сосудах реактивы, в кабинетах и студиях замрут недописанные книги, полотна, незаконченные скульптуры — все будут заняты на монтаже длинного корабля, который должен спасти людей.
Он остановился у входа в кают-компанию. Здесь была зелень, деревья росли прямо из тугого пластикового пола, под ними были расставлены столики, удобные сиденья. Правда, их было, пожалуй, слишком много — не зря Холодовский говорил, что спутник становится тесен. Спутнику уже много лет, а кораблей строится все больше.
В одном углу кают-компании раздавалась музыка, люди то плавно, то резко, порывисто двигались в танце. Откуда-то доносилась песня, в ней были грусть и непреклонность — грусть о Земле и непреклонность уходить все дальше от нее, потому что иначе не может человечество.
Глаза его обшаривали зал, искали — и не находили ее.
Иногда чьи-то голоса нарушали его сосредоточенность, вторгались в нее. Где-то недалеко говорили о том, что утвержден проект экспериментального корабля совершенно нового типа, а ведь какого бы типа ни были корабли, им не миновать рук монтажников, а значит — с каждым днем работать будет все интереснее. По соседству толковали о том, что кое-кто из монтажников уже месяцами не бывал на Земле и устранился от непосредственного общения с планетой, с ее мыслью и искусством, что монтажнику уж никак не простительно. «Хотя климат на Земле, конечно, не столь идеальный, как здесь», — говоривший вздохнул, и сразу двое подтвердили: «Да, разумеется, климат здесь идеальный…» Возле самой двери спорили о космометрии пространства в связи с недавно вышедшей работой Аль-Азиза «Об истинной геометрии плоскости»; и кто-то был согласен с автором относительно эволютной природы того, что мы называем плоскостью, а кто-то не был согласен и возражал.
Кедрин досадливо морщился: разговоры отвлекали его, он привык делать все в тишине — даже искать кого-то взглядом. Но он не мог не вслушиваться, когда речь заходила о тех восьми, и из уст в уста передавались слова их радиограмм, и произносилось имя Герна, забросившего на время астрономию и усевшегося на связь с «Гончим псом». Герна, который никогда в жизни не признавал ничего, кроме астрономии и кораблей, бывших ее руками, как телескопы — глазами. Все это было хорошо и интересно, однако он так и не увидел ее.
Очевидно, ее здесь не было, а время шло, и скоро надо было уже идти в каюту Гура в переулке Отсутствующего звена, но он никак не мог уйти.
Вдруг Кедрин почувствовал, как сердце рванулось, набирая ход, развивая невиданную скорость. Все вокруг стало вдруг синим. Он не слышал больше ничего. Она выбралась откуда-то из самого угла и медленно пересекла кают-компанию. Она шла к выходу, и Кедрин отступил в тень. Он догнал ее за углом.
— Я провожу тебя, — сказал он.
Она чуть заметно пожала плечами, и он зашагал рядом.
Они вышли в коридор — на проспект Дружеских Встреч, как гласила табличка. Кедрин хотел взять ее за руку и уже взял — это получилось у него бессознательно. Она удивленно и чуть насмешливо взглянула на него, и Кедрин отпустил руку.
— Как давно я не видел тебя, — сказал он.
— Да? Я не заметила… Ты ведь недавно у нас?
— Ирэн, не надо… Пять лет, Ирэн…
— Молчи, — сказала она. — Или уйди сейчас же.
Они медленно шли по проспекту, и Кедрин готов был отдать, что угодно, и сделать, что угодно, лишь бы она не ускоряла шаг. Она не ускорила шаг, и Кедрин подумал: «Все-таки надо сказать все то, что надо сказать», — и иначе он просто не может.
— Ирэн, — сказал он. — Ну, бей виноватых, ну!.. Пять лет. Ирэн… Многое изменилось с тех пор… Я ушел из института. Видишь, я здесь. Это было нелегко, Ирэн, но я…
— Все то же «я», — грустно сказала она. — Нас здесь тысячи, не один ты.
— Не надо… Я не знаю, как ты живешь, Ирэн. Только когда-то ты… А я — и сейчас…
— И доказательство — пять лет молчания. Что бы я ни сказала тогда, ты должен был искать.
— Сначала я не мог. Ведь ты была права.
— Это я знала и без тебя… Но я все равно ждала. А потом стало ясно: нет…
— Да, Ирэн, да! И я знаю…
— Пусть так. Но я тебя придумала тогда. И не хочу повторяться.
— Хорошо, Ирэн. Каким ты хочешь видеть меня?
— Таким, каким хотела всегда. Таким, как Гур, как Славка, как Дуглас. Я не говорю уже — как Седов.
— Ирэн, этот Седов — это…
— Разве об этом спрашивают?
— Прости. Но все они какие-то… особенные. Таких не было в нашем институте. Я не встречал. Это жизнь в пространстве делает их такими? Или они вообще такие и потому работают в пространстве? Знаешь, Андрей погиб…
— Да, — сказала она. — Вам всем у Слепцова так хорошо, что скоро вы при случайном стуке начнете умирать от страха. Он оторвал вас от всего, Слепцов. От жизни. Ну, вот моя каюта. Спасибо. Доброй ночи.
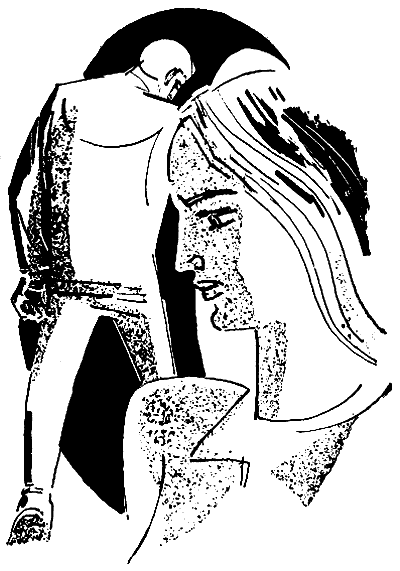 |
Дверь закрылась за ней. Он стоял в коридоре. «Скоро мы у Слепцова начнем умирать от страха? Погоди, погоди!..»
— Умирать от страха? — спросил он вслух.
— В этом есть рациональная мысль, не правда ли? — чуть насмешливо проговорил голос.
Массивная фигура прошла мимо него по другой стороне коридора-проспекта, в случайном отблеске света на миг мелькнуло безмятежное лицо. Это был миг — и фигура скрылась, растаяла в темноте, уже воцарившейся в коридоре, для которого наступила ночь.
— Велигай! — громко сказал Кедрин. — Где вы, Велигай?
Ответа не было. Кедрин двинулся по проспекту в том же направлении, в котором скрылся странный человек. Чувство одиночества вдруг охватило его, пугающими показались пустые переходы этого странного мирка, который уже не был Землей и жил по своим, иным законам. Еще не было количественно установлено, в какой степени ритм жизни, настроение, многое другое в жизни человека зависит от близости значительных тяготеющих масс, но, во всяком случае, не Земля была здесь, а другая планета — спутник «Шаг вперед», как называли его сами монтажники с легкой руки прогносеолога Гура. Пол — или следовало называть его почвой? — не обладал незыблемостью Земли. Совсем рядом его участок был поднят, два человека при свете скрытого освещения возились в открывшейся под гладкой поверхностью неразберихе проводов, трубок, волноводов всех цветов, диаметров и назначений, что-то приглаживали, поправляли… И даже не зрелище обнаженной сущности этой планетки, а именно то, что здесь люди, согнувшись в три погибели, руками исправляли что-то, тогда как на Земле эта работа давно уже стала уделом роботов, заставило Кедрина с небывалой остротой почувствовать удаленность этого мира от того, в котором он прожил последние годы. А ведь мысли о своей отрешенности чаще всего приходят именно ночью, и это была первая ночь, когда он не спал.
Наверное, и отсутствие биополя сыграло в этом роль — ведь на Земле мы всегда, если только мы не в центре обширной пустыни, бессознательно воспринимаем биополе, созданное напряжением мозга миллионов людей, и в какой-то степени находимся под его влиянием; здесь же все каюты были заэкранированы, и если человек в коридоре был один, то он был один… Кедрин не хотел быть один. Он вспомнил, что его ждут, но в темной сети переходов сориентироваться было трудно, где теперь искать переулок Отсутствующего звена. Кедрин заторопился.
Через каждые несколько метров из-под пола выходили невысокие, тонкие колонки с гранеными головками; пробегая мимо них, Кедрин все же заметил, как эти слабо светящиеся головы бесшумно поворачиваются, словно следя за ним, что-то сообщая друг другу. Ему стало жутко. Раздался жалобный, протяжный свист, отразился от стен и прозвучал в другом конце коридора. Кедрин свернул в первый попавшийся переулок. Печальный свист провожал его. «Это был плач по человеку», — пришло ему в голову. Куда же это он в конце концов идет?
Он остановился с ходу, сильно качнувшись вперед. Неярко освещенная преграда возникла перед ним, казалось, внезапно: переулок оказался тупиком. Огромная, во всю стену, дверь не поддалась усилиям Кедрина. Она выглядела совсем иначе, чем остальные, — гладкая, без всякого выступа стальная поверхность, чуть выпуклая и с маленьким прозрачным глазком в середине. Прозрачным — так казалось, но когда Кедрин прильнул к нему, он не увидел ничего, только черноту. Очевидно, за дверью было темное помещение. Вдруг в нем возник слабый огонек, зеленоватые лучики протянулись от него — это была звезда, внезапно возникшая в глазке звезда, а чернота была чернотой пространства. Кедрин отшатнулся. Как он не подумал, что здесь могут быть резервные выходы в пространство?
«На Земле нет дверей, ведущих в бездны», — подумал он, и тоска по родной планете с ее надежностью и с ее ночами, полными теплого, душистого воздуха, охватила его, как зыбкая вода пловца.
Наверное, этот внезапный приступ тоски по запахам Земли привел к галлюцинации: запахло сильно и чудесно, чем-то странным, незнакомым и таким простым… Это было что-то похожее — на что? Похожее, только гораздо более сильное и вместе повелительное и влекущее, чем лучшие запахи Земли. Мысли ушли, и осталось только желание вбирать в себя этот запах не только ноздрями, но всей кожей, глазами, ртом, волосами. Внезапно Кедрин почувствовал, что уже полон запахом, еще немного — и он разорвется, распадется; он больше не может дышать, он сыт дыханием, как человек бывает сыт едой и питьем. Он поднял руки к лицу, чтобы прекратить доступ запаха в легкие, что бы ни было потом.
Он не знал, куда бежит, и слишком поздно понял это; он бежал к человеку, к которому приходят мужчины в тяжелые минуты, чтобы найти защиту от многого и в первую очередь от самого себя. К женщине, которая тебе ближе всех или была ближе всех. Дверь ее каюты Кедрин открыл стремительно, даже не подумав о том, что не следует делать так.
Она была одна, длинная ткань обтягивала ее тело, почти целиком открывая грудь. Он закрыл за собою дверь и прислонился к ней спиной, тяжело дыша. Женщина ступила ему навстречу, и Кедрин послушно сделал шаг вперед и остановился перед нею.
— Ты испуган, — сказала она, коснувшись рукой его влажного лба. — Что произошло?
— Не знаю, — сказал он медленно, — не знаю… Что-то произошло… Да, запах. Возле резервного выхода.
— Которого?
— Не знаю…
— Ты сможешь найти его?
— Не знаю… Может быть.
— Ты уверен, что это?..
— Запах. Вдруг расхотелось дышать… Что делать? Надо что-то делать. Это ведь опасно…
— Успокойся, Виталий, — сказала она.
Она видела, что он не успокоится, и, чуть приподнявшись на носках, поцеловала его. Он сразу обмяк, и сел на кровать, и сидел неподвижно — только глаза следили за нею. Она набрала номер.
— Седов… Слушай, только что обнаружен запах. Кедрин. Он у меня… Об этом потом. Вторая еще не вышла? Седов, может быть, запретить выход?
— Нельзя запрещать выход, — проговорил голос в трубке. — Надо установить направление. Он помнит, где именно?..
— Он вспомнит, — сказала она, мельком взглянув на Кедрина. — Он уже вспоминает…
— Пусть вспомнит. Немедленно вышлем Особое звено. Может быть, им удастся, наконец, определить направление и закончить экранирование рабочего пространства. Смена должна выйти — запах не держится долго.
— Хорошо, — сказала она. — Я тоже выйду.
— Незачем. Ты не Особое звено.
— Я хочу выйти.
— Нет. Сейчас я подниму Особое звено. А он пусть вспоминает.
— Хорошо, — нехотя проговорила она, положила трубку. — Ты вспомнил, где это было? Как ты шел? Сейчас шеф-монтер поднимет Особое звено, они выйдут в пространство.
Он сидел, опустив голову. Она уселась рядом с ним, положила руку на его плечо.
— Тебе все еще страшно? Ты не хочешь идти к себе?
Кедрин встал, сделав усилие, почти исчерпавшее его силы. Но он принял решение, и силы откуда-то прибывали снова.
— Я выйду с Особым звеном. Они не сориентируются без меня.
— Ты можешь рассказать им все, пока они будут одеваться.
— Нет, — сказал он. — Я должен выйти с ними.
«Должен, — поняла она, — чтобы завтра не стыдиться самого себя и тебя».
— Хорошо, — сказала она. — Только в таких случаях одевают компенсационный костюм. Возьми мой, он достаточно эластичен.
— Спасибо, — сказал Кедрин.
Он поцеловал ее, уже не боясь, что она рассердится, и подумал, что она все та же и так же красива.
Уже по дороге в гардеробный отсек, где стояли скваммеры, он вспомнил, что должен был зачем-то зайти вечером к этому самому Особому звену, командиром которого, как ни странно, был не решительный Холодовский, а несколько легкомысленный Гур. Но теперь поздно было думать о том, чего он не успел. Время было думать о том, что он еще может сделать.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |