"Чистый след горностая" - читать интересную книгу автора (Кузьмин Лев Иванович)
 |
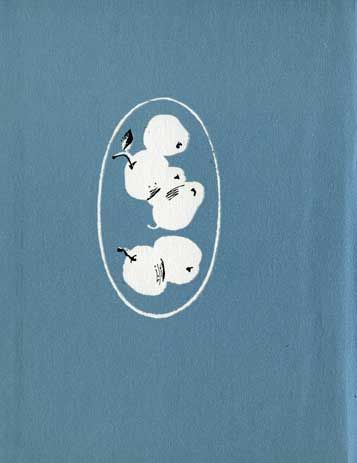 |
 |
 |
Глава 1 ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ
 |
Наш станционный поселок окружают светлые перелески и ржаные поля. Клинья пашен подходят к самой околице, и от этого поселок похож на деревню. Он похож на нее бревенчатыми домами, лужайками и всегда спокойной, без конца, без края, тишиной.
Паровозные гудки не в счет.
Паровозные гудки для нас почти то же самое, что петушиная перекличка по утрам. Гудки для нас то же самое, что шум ветра в огромных станционных тополях или скрип коростелей в сыром вечернем поле. К шуму тополиных листьев, к голосам птиц, к неторопливым гудкам паровозов мы привыкли и, можно сказать, совсем их не замечаем.
Но такое спокойствие, такая тишина были на станции раньше. Так было у нас до двадцать второго июня, до войны, а теперь многое переменилось. Нынче поезда на станцию не входят, не въезжают, а прямо-таки врываются.
И сначала врывается не сам поезд, а свободный, без вагонов, паровоз-разведчик.
Он — черный, длинный — гонит впереди себя одну-единственную платформу с песчаным балластом. Он проверяет своими колесами, исправен ли путь. И вот, не успеет паровоз пролететь мимо белокаменного вокзала, не успеет сладковатый угольный дым умчаться в осеннюю даль, а на станцию влетает уже второй паровоз, теперь с тяжелым воинским эшелоном.
Эшелон останавливается. Но лишь на одну минуту. Он стоит всего столько мгновений, сколько требуется, чтобы отцепить усталый паровик и взамен его подогнать новый, готовно пыхтящий, заправленный углем и водой.
А потом эшелон трогается вновь. Он идет все быстрей и быстрей. А над его платформами горбатятся укрытые брезентом танки. В небо глядят спаренные для зенитной стрельбы пулеметы. В дверях вагонов молча теснятся хмурые красноармейцы. И все это проносится с каждой секундой стремительней и стремительней.
Последний вагон пролетает так быстро, что сорванные вихрем желтые тополиные листья еще долго кружатся над пустым перроном, над светлыми и чуть звенящими рельсами.
Воинские эшелоны спешили всегда, каждый день. Они спешили изо всех сил. Они торопились потому, что там, в западной стороне, война тоже не стояла на месте. Она двигалась навстречу. Совсем еще недавно репродуктор на вокзале говорил о тяжелых боях под Смоленском, а теперь фронт придвинулся ближе к Москве.
Вражеские самолеты прорывались к Ярославлю, К Волге. Бомбовые глухие удары доносились по осеннему прозрачному воздуху уже и до нас.
Чуть подольше задерживались на станции только те поезда, которым путь на восток. Но задерживались они лишь для того, чтобы дать дорогу военным. Им-то и самим было некогда. Ведь и на этих поездах ехали не просто уходящие от войны люди, а двигались чуть не целые фабрики и заводы. Мы, станционные мальчишки и девчонки, сроду не видывали столько всяких разных машин и станков. Станки ехали в крытых и некрытых вагонах; они были то аккуратно составлены рядами, а то и громоздились навалом, почти друг на друге, — лишь бы приткнуться, лишь бы нашлось местечко.
Людей тут ехало тоже видимо-невидимо. Старые и молодые, горластые и молчаливые, кто в праздничном, испятнанном машинным маслом костюме, кто в рабочей спецовке, кто в зимней шубе, а кто чуть не в одной майке, — все разные, все непохожие, они в то же время были и очень одинаковыми. Как только поезд приходил на станцию, они первым делом кидались на перрон к репродуктору и молча, угрюмо стояли там, если передавалась сводка Информбюро. А если не передавалась, то так вот, всею толпой, бежали к привокзальному рынку.
Но на рынке было пусто. Торговать стало у нас некому и нечем, и толпа опять хмуро и медленно растекалась по вагонам.
На станции из этих людей не задерживался никто. Они не хотели, да, наверное, и не имели права, отставать от своих заводов, поставленных на колеса. Каждый станок, каждая машина были только что выхвачены из-под самого огня войны, но они должны были опять, и как можно скорее, работать на войну.
Для франта работал теперь и наш поселок. Взрослые, те, что состояли в колхозе и не ушли в армию, торопились с полевой уборкой, а все железнодорожники работали день и ночь, как наша мама-стрелочница, на путях и в депо.
Мы, школьники, работали тоже. Мы рыли в школьном саду, прямо в молодом смородиннике, глубокие траншеи. От Волги до нас напрямую километров сто, я, если фашистские самолеты сюда прорвутся, то траншеи прикроют поселковый люд от бомбежки, от пуль и осколков.
Рыть траншеи было трудно. Учителя и все те, кто постарше — десятые, девятые и наш восьмой класс, — работали внизу, долбили грунт, выкидывали его на бровку, а младшие бровку чистили, помогали нам.
Кирки и лопаты рубили, рвали крепкие корни кустов, и совсем еще зеленые листья смородины падали на дно траншеи. Листья осыпались вместе с черными перезрелыми ягодами. Ягод было много. Они хрустели под ногами, они свисали крупными кистями прямо над головой, и мы набирали их в горсти, пачкались кисловатым соком, ели, пока не сводило скулы.
Погибающий ягодник все жалели, говорили:
— Надо бы сначала обобрать, да разве теперь до того? Разве до смородины, когда, то и жди, на голову посыплются свинцовые ягоды…
И мы спешили. На ладонях набухали и лопались мокрые мозоли, да все равно никто не ныл. Ребята говорили:
— Ничего! Небось на фронте солдатам не так приходится. А мы вот выроем одну эту траншею и — конец!
Я думал точно так же, но вдруг и сам, и мой приятель Женька Буслай попали совсем на другую работу и в другую компанию.
В тот день мы вышли с Женькой, как всегда, на работу в сад, спрыгнули на дно траншеи и взялись за лопаты. Мы старательно выворачивали на бровку липкие пласты глины, а когда траншея углубилась, глину стали накладывать в железные ведра и вытаскивать веревкой наверх. Но скоро Женька такой простой работы не стерпел и стал изобретать.
Изобретал Буслай недолго. Он, беловолосый, долговязый, постоял на краю траншеи, заглянул, как журавль, вниз, поддернул брюки, сказал: «Я мигом!» — и припустил домой.
Через десяток минут Буслай примчался назад, а на его плече громоздился ржавый велосипед. Этот велосипед был без переднего колеса, без камеры на заднем, с одной-единственной педалью. В руках Женька держал два коротких кола и кусок проволоки. Он поставил велосипед вверх тормашками, вверх единственным колесом; лопатой забил оба кола в землю и крепко прикрутил к ним раму.
Я уставился на Буслая: что это он такое опять затеял? А он крикнул мне в траншею:
— Подай веревку от ведра, да от того, что полное!
Буслай поймал конец веревки, набросил его на желоб колеса, привязал и принялся крутить педаль. Колесо завертелось, веревка стала тугой — ведро медленно поползло вверх.
— Ура! Подъемный кран! — обрадовались ребята, все повыскакивали из траншеи, обступили «кран», но первому покрутить Буслай разрешил мне. Остальным приказал занять очередь.
И тут произршло то, чего Буслай не предвидел.
Фима Сиротина, самая приметная у нас девчонка, приметная не чем-нибудь, а крепкими кулаками и большим ростом, вдруг пробасила:
— Подумаешь, изобретенье! Одно-то ведро я и так свободнехонько наверх выкидываю. А ты вот сразу два попробуй. Не вытянешь.
— Вытяну! — ответил Буслай. — Лезь обратно, цепляй.
Фима спрыгнула в траншею, выбрала два самых объемистых ведра, набила в них глины столько, что сама крякнула, когда подтаскивала к веревке, а потом прицепила и скомандовала:
— Давай!
Буслай налег на педаль, натужился, ведра приподнялись и остановились. Вытягивать такой большой груз коротенькой педалью было нелегко. Но Буслай сдаваться не хотел, да тут и я ухватился за колесо, стал помогать.
И вдруг, когда ведра почти уже поднялись, под ногами у нас что-то ухнуло, вздохнуло, и я куда-то сначала поехал, потом полетел.
Земляная бровка не выдержала и вместе с ведрами, вместе со мной, Буслаем, велосипедом рухнула вниз. Ладно, эта самая Фима-Серафима отскочила — мы чуть-чуть не грохнулись ей на голову. А надо бы! Теперь вот она стояла да посмеивалась, а я и Женька сидели по шею в земле, не могли шевельнуться и смотрели с ужасом на то место, откуда свалились.
Со дна хорошо было видно, какой здоровенный пласт отвалили мы от ровной стенки траншеи.
И вот мы сидим, не дышим, а Фима говорит!
— Ага! Что наделали? Теперь вам попадет.
И тут она хватает меня нахально за воротник и легко, как репку, выдергивает из рыхлой земли.
Я хотел Фимку стукнуть, да где уж мне!
А Женька выбрался сам. Он подхватил велосипед, полез на бровку, следом покарабкался я, за мной Фима. И только мы вылезли, как видим: опять у нас неудача.
С «краном» своим мы затеяли возню как раз напротив школьных окон, как раз напротив директорского кабинета. И не успели выбраться наверх, окно распахнулось, и стоит за ним — ну вылитый портрет командира Котовского в раме! — наш директор Валерьян Петрович.
Правда, на командира он больше похож бритой головой, а так-то он слишком толстый и неуклюжий, но все равно смотрит по-командирски и поманивает нас всех троих полусогнутым пальчиком. Да мало того, что он поманивает, а уже и все учителя, которые были в саду, побросали лопаты и торопятся к нам.
— Сматывайся, Женька! — испуганно сказал кто-то из ребят, но Фима и тут влезла:
— Нечего бегать. Все равно скажу.
Она охлопала с ладошек землю и, важно задрав голову, пошагала к школьному крыльцу. Нам делать нечего, мы взяли велосипед и потопали за ней. Уж если отвечать, так отвечать сразу, да еще и неизвестно, что там без нас Фима может наговорить. Но мы дрожали не очень: кто-кто, а наш директор во всем разберется по справедливости. Валерьян Петрович знает меня и Женьку давным-давно. Еще в то время, когда мы бегали в первый класс, с Женькой из-за Валерьяна Петровича произошло вот что.
Валерьян Петрович очень любил рассказывать сказки, а мы, конечно, любили их слушать. Иногда в большую перемену он выносил из кабинета стул, садился, проводил по бритой голове толстой ладонью, гулко прокашливался, и суета в зале сразу стихала.
Рассказывал он весело. Мы все хохотали. Мы все развеселились и в тот раз и вслед за директором тоже что-то начинали рассказывать. Не утерпел и я. Но рассказал я не сказку, а выпалил:
— У меня есть друг! Он придумал, как зимой лето сделать.
Все обернулись, а Валерьян Петрович даже ладонями по коленям хлопнул:
— Правда?
— Правда!
— Где он, твой друг?
— Вот он.
Я показал на Женьку, тот смутился, прикрыл глаза локтем, а Валерьян Петрович спросил:
— Это ты придумал, как зимой лето сделать?
— Я.
— А ну, открывай секрет.
И Женька тихо, потом все громче, принялся рассказывать:
— Когда наступит зима, надо врыть посреди белого поля большой-пребольшой крепкий столб. К макушке столба привязать канат, тоже крепкий, лучше стальной. А потом канат прицепить к хвосту самолета, самолет запустить, он взлетит, потянет канат, и земля повернется к солнышку! И у нас опять начнется лето. Ясное-преясное, теплое-претеплое. Какое захочешь!
Женька говорил торопливо, радостно, а под конец погрустнел:
— Только самолет надо сильный… Может, в сто тысяч моторов, но таких пока нет.
Женька печально развел руками и глянул на Валерьяна Петровича. А тот встал, тронул Женькино плечо и очень серьезно произнес:
— Да ты, брат, совсем как богатырь Буслай. Он тоже мечтал: «Эхма, кабы силы да поболе мне! Жарко бы дохнул я — снега бы растопил». Что ж, придет время — и самолет в сто тысяч моторов будет. Сам построишь.
Я думал, сейчас все засмеются, да никто не засмеялся, но с того дня к Женьке прилипло прозвище Буслай…
Мы вошли в директорский кабинет и не успели сдернуть кепчонки, сказать: «Здрасьте!», не успела Фима рот раскрыть, как Валерьян Петрович все понял.
— Новая идея? — показал он на велосипед.
— Новая. Сегодняшняя, — с достоинством ответил Буслай.
— Они этой идеей траншею обвалили, — ехидным голосом добавила Фима-Серафима.
Директор улыбаться перестал, негромко произнес:
— Перпетуум-мобиле прислоните к стене, сами подождите за дверью, Сиротина, останься.
Мы вышли в коридор. Сиротина осталась. О чем они там толковали, через дверь было не слыхать. Я нацелился на замочную скважину, хотел подслушать, да тут дверь отворилась, и Фима, красная, сердитая, бегом проскочила мимо нас.
— Ну, теперь наша очередь, — сказал я.
— Входите! — донеслось из кабинета, и мы вошли. Валерьян Петрович стоял теперь спиною к нам, лицом к окну. Он смотрел, как школьники роют землю, вырубают сад. Там ярко светило сентябрьское солнце, работали все дружно, да только Валерьяну Петровичу как будто бы что-то не нравилось. Очень уж грустный у него был вид.
А может быть, он смотрел совсем и не на школьников, а смотрел на станционные пути, которые протянулись невдалеке от школьной ограды. Там стоял санитарный поезд. Поезд прибыл с фронта. Он с тяжелоранеными, тамбуры и окна его наглухо закрыты, из вагонов таких поездов на перрон выходит редко кто. Разве что выскочит медсестричка и, бухая солдатскими сапогами, промчится вдоль вагонов от тамбура к тамбуру.
Зато на перроне полно женщин. Откуда они узнают о приходе санитарного — неизвестно, да только поезд еще на подходе, а они уже давно здесь. Они тянутся к высоким, залепленным дорожной пылью окнам; они как завидят сестричку, так бросаются к ней и бегут, бегут рядом с нею — все заглядывают в лицо, все что-то выспрашивают.
Я знаю, о чем они спрашивают: «А бойца Корнилова среди раненых нет? А Смирнова нет? А Гусева нет? Девушка, девушка, а может, у вас Витя Фролов находится? Русенький такой, молоденький… Скажи, родная, а?»
Но знаю я и то, что девушка никогда ничего толком ответить не может. Уже и паровоз к отправлению гудит, да столько по тесным вагонам израненных солдат, что вряд ли девушка помнит каждого в лицо. Она сама-то измотанная, усталая, едва держится на ногах…
Валерьян Петрович, глядя на этот поезд, на бегущую толпу, даже голову опустил. А потом, как с мороза, передернул плечами, обернулся к нам и долго смотрел, будто позабыл, откуда мы и зачем.
Наконец все вспомнил, даже немножко усмехнулся:
— Ну и как ваша машина действует?
Буслай кинулся к «машине», стал объяснять. Валерьян Петрович не перебивал, слушал, сам разок повернул педаль и сказал:
— Производительность мала…
— Кто мала? — не понял Буслай.
— Производительность. Пока вашим краном вытянешь одно ведро, вручную сделаешь во много раз больше.
Буслай задумался. Выходило, что директор школы не на нашей стороне, а на стороне Фимы-Серафимы. И я обиделся:
— Так ведь крутить можно!
Валерьян Петрович улыбнулся:
— Еще бы. Крутить куда как интересно, да только время не ждет. Пойдемте-ка вместе да поработаем старым, проверенным способом.
Он достал из-за книжного шкафа железную лопату, и мы бы отправились опять в сад, да тут-то как раз и появился печник Бабашкин.
Невысокий росточком, очень худой, очень старый, похожий небритым лицом на седого ежа, он осторожно заглянул в кабинет, вошел, приподнял испачканный в глине фартук, порылся в кармане полосатых штанов и вынул какую-то бумагу.
— Вот, Петрович, — сказал он директору, — у нас народу не хватает, дак мое начальство просит командировать двух парней. Со мной, значит, работать. На чердаках. Стропила глиной обмазывать. От зажигательных бомб. Чтоб если огонь сквозь железную крышу на чердак попадет, дак сразу не загорелось.
И тут я глянул на Буслая, он глянул на меня, и мы вмиг поняли: надо не зевать!
Лазать по станционным чердакам разрешается не каждый день. Чердаки — это совсем не то, что скучная сырая траншея. На чердаках живут птицы, на чердаках отдыхает ветер, там всегда интересно. А на одном чердаке, говорят, один мальчишка в позапрошлом году нашел настоящий австрийский штык. Я как подумал об этом, так тут же взмолился:
— На чердаки надо нам! На чердак надо нас!
Я так закричал, что печник вздрогнул, сказал: «Эк тебя!» А Валерьян Петрович усмехнулся:
— А механизация как же?
— Так ведь производительность мала, — быстро ответил Буслай.
Печник нахмурил ежиные брови, оглядел нас маленькими серыми глазками, будто снял с обоих мерку, и сказал:
— Ничего, сойдут. Правда, этот горластый мелковат, но сойдут. К тому же мои соседи.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |