"Наедине с собой" - читать интересную книгу автора (Башкирова Галина Борисовна)
Глява седьмая. «Отдавать ли Пенелопу науке?»
 |
Это было несколько лет назад. Кожаные корешки альбомов уходили под самые своды. Немыслимо, казалось, достать такой альбом сверху и вернуть обратно на место.. На светло-коричневом корешке – белый квадратик: «Брейгель». Подвал под сводами – отдел репродукции Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Где еще в Москве, как не здесь, можно найти хорошую репродукцию одной из картин Питера Брейгеля мужицкого?
Огромный альбом, проклеенный изнутри мраморной бумагой, сначала не хочет открываться, потом не закрывается. Ищу долго (не ищу – спотыкаюсь, застреваю на каждой картине), но того, что мне нужно, нет. Видела в пухлом томе «Истории искусств» фрагмент: четыре детские сгорбленные фигурки – и они заворожили. А большой, полной репродукции нигде нет.
Еще альбом, современный деловой дерматин. Тоже нет. И цветного диапозитива нет. И весь отдел сочувственно обсуждает, как же мне помочь. И наконец, на столе, в читальном зале (только читают здесь не книги – картины) большая репродукция – «Детские игры».
Сколько же их, крошечных фигурок, на улицах средневекового города! Лезет на дерево мальчик, кружатся в танце девочки, кто-то очень маленький стоит на голове и еще трое мальчишек верхом на заборе. И чехарда, и ходули, и обручи, и в бочки дуют – все тут есть.
Подробности открываются постепенно: вот хоровод, не замеченный прежде, а вот двое сражаются на саблях, а вот… Улица уходит в бесконечность, в камень, неба нет.
Мир, разяще точный в деталях, и мир иллюзорный, нереальный. Кто они, эти пляшущие, вертящиеся, неугомонные фигурки? Дети, которым предстоит стать взрослыми, или взрослые, оставшиеся детьми?
Загадочный, как всякий ушедший мир, мир средневековья, с его заданностью, предрешенностью, когда все, казалось бы, стоит и все только начинается. Эпидемии, войны, страхи, суеверия, костры инквизиторов.
Этот прыгающий на бочке мальчик, почему у него такое недетское, никакое лицо? Что с ним? Он один. И все дети одни, все сами по себе на этой картине.
Они не общаются, не играют. Они некоммуникабельны, как сказали бы мы теперь. У Брейгеля все смотрят в себя, и все заняты собой. Даже в «Крестьянской свадьбе». (Еще несколько лет назад современное кино позавидовало бы смелому кадру – свадьба спиной к зрителю; такие кадры любят теперь грузинские кинематографисты: длинный стол, обилие еды, милые подробности быта, и среди этих подробностей чисто брейгелевское: на переднем плане в куче пустых кувшинов ребенок, что-то жующий, – один, отъединенный, забытый.)
Нидерланды, XVI век. Нищие, слепые, свадьбы, катанья на коньках, пьяные, драки, пляски мертвецов. Крушение устоев, конец Возрождения. Реформация. Мир, который оставил старый бог. Опустошенность и страх прячутся на чердаках островерхих крыш.
…Музей Пушкина, подвал под сводами, тихо-тихо.
– Мы скоро закрываемся, пора.
– Да, да, сейчас. – И напоследок еще раз в Брейгеля. Откуда у него этот взгляд – всегда сверху, эта приподнятость Над?
Сверху – значит, с высоты; с высоты – значит, с собора. Откуда же еще взяться высоте в этой равнинной стране? Соборы строили веками, они обваливались, их начинали заново, и каждый новый рубеж – знак победы человеческого духа. Каждый строитель, даже простой подмастерье, должен был преодолевать себя, свою боязнь пространства, боязнь высоты: нужно было перебегать по шатким мосткам, да еще с грузом в руках (а какая тогда техника безопасности?). Падали, разбивались, строили…
Я хожу по улицам, смотрю на подъемные краны, кабинка крановщика чуть ниже обычного готического собора. Крановщику надо подниматься по бесконечной лестнице и одиноко сидеть в хрупкой кабинке в холод, ветер и слякоть. Они не такие, как мы. Они другие. Но над их головами так же, как над нашими, летают самолеты, а внизу вьются машины, и в ночную смену они глядят в небо и знают, что небо живое, что там летали и оттуда вернулись.
А XVI век? Тогда взгляд с высоты – новое зрение, прозрение мира, – город, улицы, люди, долины. Иной масштаб духа. Взлет над обыденностью. Брейгель все это знал. Он ощущал высоту как преодоление. Он ощущал Высоту острее, чем мы. Когда летишь на ТУ-104, высоты нет, есть изнанка облаков, для высоты нужна земля. А на земле – играющие, страдающие люди.
Воздух давно минувших эпох. Как его восстановить? Какие там составные части, в каждом времени свои? Психологическое прошлое человека, может ли здесь быть найдено нечто определенное, строго научное? Гёте устами Фауста иронизировал над подобными надеждами.
…Брейгеля и Фауста вспоминала я, сидя на одной из секций Третьего Всесоюзного съезда психологов, вспоминала строчки, поразившие в юности: «…то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий». Вспоминала стол в студенческом зале Исторической библиотеки; день за днем, месяц за месяцем, сменяя друг друга, громоздились на нем пухлые тома. Юность бесконечно самонадеянна: отметая дух профессоров и их понятий, пыталась я почувствовать средневековье так, как чувствовали его современники.
И сейчас, пока Людмила Ивановна Анциферова читала свой доклад «Принципы историзма и историческое развитие психики», давнишнее студенческое чувство – надежда реставрировать в воображении прошлое – вновь охватило меня. Охватило с особенной силой и потому, что четыре детские брейгелевские фигурки в шутовских позах – зеленые балахоны, белые высокие чулки – настойчиво расположились в памяти; и, сколько я ни отбивалась от навязчивой ассоциации, хороводились вокруг.
…Свой доклад Анциферова сделала сухо, деловито, точно уложившись в отпущенные по регламенту пятнадцать минут. Но когда она кончила и вышла из аудитории, презрев приличия, я вышла вслед за нею.
И сразу же, в ту же секунду между нами начался быстрый, лихорадочный разговор из тех, когда времени так заведомо мало, что собеседники и не пытаются быть логичными. Да мы и не были собеседниками. Задавать вопросы было бессмысленно. Это был монолог. Разгоряченная Людмила Ивановна сама спрашивала и сама отвечала.
– Все сейчас исследуют личность. Философы, социо- логи, психологи. Личность сейчас самое модное. Что такое личность в современном представлении? Это и образ нашего тела, и наше духовное и социальное «я», и наше ощущение непрерывности бытия, и «я» как источник действий, решений, поступков, и десятки других аспектов, не о них сейчас речь.
А как формировалась личность, как складывалась ее структура? Что было и чего не было в человеке две-три тысячи лет назад? Вы кто по образованию? Ах, историк! Очень приятно. Вы помните, у греков эпохи Гомера не было целостного представления о теле? Только названия отдельных его частей. Как это было связано с восприятием мира и самих себя? Нет-нет, не говорите мне то, что говорят все: слово «сома» в буквальном переводе означает вовсе не тело, а только мертвое тело.
Тут Людмила Ивановна торжественно улыбнулась, и я поняла, что правильно выбрала минуту: спокойная, должно быть, даже замкнутая в обычной жизни, сейчас она раскрывалась сама, легко и непринужденно. Ей нужен был слушатель.
– Возьмем борьбу мотивов, эту важнейшую характеристику современной личности. Дальше. Волю, чувство долга, их эволюцию во времени. Современный человек бесконечно рефлексирует, принимая решения, беря или не беря на себя ответственность. Каждый поступок зависит от массы обстоятельств. У людей первобытного общества никакой рефлексии не было, она еще не родилась. Древние греки и римляне тоже не знали ответственности. Вы понимаете, к чему я об этом говорю?
У греков отсутствовали главные свойства личности, го которым мы судим друг о друге. Какое может быть понятие о долге и чести, о воле и ответственности, если человек только инструмент в руках богов?
Монолог Людмилы Ивановны был целен, и вмешиваться с вопросами казалось бессмысленным, да н ненужным: речь шла об общем подходе, о реконструкции картины психических состояний человека в разные эпохи… Анциферова продолжала говорить о первобытных людях, о том, как, не задумываясь, бросали они жребий.
«Раз бросали – значит, задумывались, сомневались, боялись», – внезапно пришло мне в голову. Но бог с ней, с первобытностью, слишком мало мы о ней знаем! Греция и Рим. Как быть с древними греками? Взять и сразу отдать их новой науке, даже не новой, а едва родившейся. Хотя по-человечески так понятно желание этой новой науки что-то упростить, излишне схематизировать во имя попытки схватить главное, построить общую, широкую концепцию. Всякая молодая наука тоталитарна. Она не может иначе, без щита свежеиспеченных догм и гипотез. Иначе ей не выжить, не выделиться в самостоятельную силу. Всякая молодая наука надевает латы и становится рыцарем поневоле.
Но греки… Так ли уж хорошо укладываются они в схему? Долг, честь, совесть, личная ответственность. Разве не было их у героев древнегреческой трагедии? Ведь Сократ предпочел умереть, а не бежать из Афин, а как хорошо был подготовлен побег!
Современных исторических психологов трудно винить. Им нужна схема как гипотеза, как модель, с которой они могут работать. Но почему для нас этот давно ушедший мир так и остается нерасшифрованной схемой? В школе и потом, после школы, попытка понимания его приходит, даже для историка, не с курсовыми работами типа «Сатиры Аристофана и современная ему действительность», и не с первыми научными работами, и не с книгами корифеев-античников.
Просто однажды открываешь Софокла или «Диалоги» Платона, открываешь по неясному, но, если разобраться, более чем корыстному побуждению; дано тебе или нет пережить в своей жизни то, что ушло безвозвратно: войти вместе с ослепшим Эдипом в священную рощу Евменид – умирать, вместе с Антигоной стоять перед судом Креонта на пустынной площади сурового города. Ощутить все это, а не быстренько сообразить, из-за чего там, собственно, произошел скандал: «В конце концов следует знать классические сюжеты».
Правда, скандал тогда – в других терминах – рок, судьба.
И Людмила Ивановна о роке. Хотя это не рок, а свободный выбор человека, вызов богам – правда, внешне следова ние их воле. Но Антигона хоронит своего погибшего брата-предателя, а сестра ее Йемена отказывается к ней присоединиться. Они верят в одних и тех же богов, но по-разному понимают свое жизненное предназначение. Это разные женщины, разные личности. Кто из них подлиннее в человеческой и женской своей сути?.. Решение все тех же вечных вопросов: как жить и для чего жить, и можно ли победить в смерти?
Нет, они знали, что такое долг, греки времен Софокла.
А Людмила Ивановна тем временем перешла к Гомеру.
– Вы понимаете, духовной жизни у человека гомеровской эпохи просто нет. Непривычно? Трудно с этим согласиться? Конечно, ведь так укоренилось в нашем сознании: «Первым был век золотой». Ну хорошо. Вспомните, пожалуйста, героев Гомера. Какие они?
– Красивые, – сказала я. – Все они очень красивые.
– А еще?
– А еще могучие и смелые.
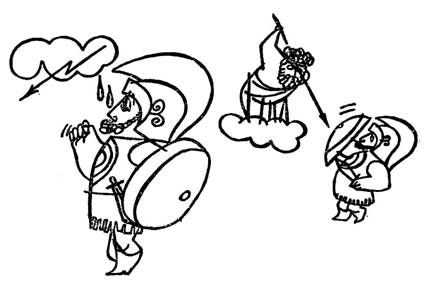 |
– Очень хорошо. Теперь расскажите мне в нескольких словах об Одиссее.
– Одиссей? Смелый, коварный, изворотливый; вспомним эпизод с Троянским конем и другие события.
– Ну вот видите! – Она почти ликовала. – Что делал и где путешествовал Одиссей, вы помните, вы даете его характеристику, вырастающую из поступков. А вы может вспомнить, о чем он думал, что его волновало? Вы не можете помнить того, чего нет. А у Гомера этого нет. И не могло быть. Это доказал в своих работах французский психолог Вернан. Исследовав институт древнегреческих героев, он пришел к выводу, что обособленной внутренней жизни у человека той эпохи не существовало.
Да, Вернан, конечно, прав, крупнейший психолог, философ, мировой авторитет. Но разве внутренняя жизнь уже не зарождалась! Если бы были только поступки, а не люди, их совершающие, разве стало бы человечество так часто вспоминать гомеровских героев – не такая у нас, людей, благодарная память к прошлому, чтобы вспоминать просто так: «Вот были храбрецы, вот были ловкачи, а сам-то, сам Одиссей – хитроумен до ужаса». После Одиссея жили на земле разные другие люди, а вспоминаем его. Потому что Гомер. И потому что в его поэмах зарождение, начало личности в нашем нынешнем ее понимании.
Вернан, наверное, прав в главном. Но как легко оказалось отдать Гомера с его Одиссеем и Пенелопой науке (их и надо отдать науке, пусть пробует в своих моделях). И все-таки в гомеровских героях уже есть немножко от нас – от нашего любопытства, ревности, надежды.
Одиссей странствовал, а Пенелопа ждала его и тосковала, прогоняла женихов. И вот он вернулся и начал рассказывать о путешествии другим людям. Если бы только ей одной! О чем? О странствиях, опасностях, сражениях, сиренах, о том, что встречает каждого настоящего мужчину, когда он отправляется в путь.
А сирены? Как он их слушал! Ведь знал же, что можно погибнуть, просил привязать себя к мачте, но жажда услышать томила его.
Ему это было нужно,это нужно было растущей в нем человеческой сущности. И пусть у Гомера только деятельность: подвиги, поступки. В их череде вдруг неожиданный взрыв. Тем ярче он слышен нам – рождение человеческой личности…
Людмила Ивановна говорила уже о психологических особенностях древних:
– Главное вы ощутили? Психологи пытаются понять, как человек начал распоряжаться собой, своей психической деятельностью, которую раньше не осознавал, как и в какой последовательности рождались свойства личности. Тут масса любопытного: и как среда ставит перед человеком задачи, и как у человека в ответ на требования среды возникают новые структуры поведения. И актуализация возможностей человека через знание его прошлого…
Наш разговор не кончился, прервался. Людмилу Ивановну позвали на обсуждение доклада.
Мы ужинали в подвальчике «Ленинграда», самого модного (по слухам) вечернего ресторана Киева. Председательствовал профессор Поршнев. А дальше по порядку сидели молодые психологи – Андрей Брушлинский (Институт философии Академии наук СССР), Рита Бобнева (Институт социологии Академии наук СССР), Арон Брудный (Институт философии Академии наук Киргизии). Если учесть комбинацию характеров, мы сидели не за столиком – на пороховой бочке, готовой взорваться от одного неосторожного слова. Каждый в этой узкой компании кандидатов и докторов наук что- нибудь воинственно отрицал: работы того или иного ученого, ту или иную психологическую школу, те или иные методы экспериментирования.
А еще… Кто-то наверняка терпеть не может любимого «снежного человека» Поршнева (а на поиски его Борис Федорович потратил столько времени, сил и страсти) и вот-вот выложит ему свои доводы, не стесняясь в выражениях. Кто-то непременно скажет, и я даже догадываюсь, кто именно, что науки психологии, в сущности, нет, и социологии тоже нет, а значит, нет и их симбиоза – социальной психологии.
– Помилуйте, почему вы столь решительны? – возразит, вероятно, Борис Федорович. – Что за мрачность в ваши лета! Однако вы меня фрондерством не проведете, я читал вашу книгу: дельная работа, с позитивным подходом. Зачем же самого себя ниспровергать?
– Да что вы, Борис Федорович, разве я ниспровергатель? Я мирный человек. Вот Андрей у нас – он и есть ниспровергатель. Он, Борис Федорович, кибернетические методы в изучении психики отрицает.
– Как, совсем?
– Совсем.
– Да, да, я читал тезисы вашего доклада. Не разделяю ваших идей.
– Тогда позвольте мне объясниться. – И, четко отмеряя силу доказательств наклонами головы, Андрей Брушлинский откроет дискуссию. И дискуссия эта будет острей и парадоксальней вялых околосъездовских разговоров.
Да, ситуация за столом назревала острая, напряженность росла. Сейчас начнут спорить, говорить друг другу изысканные колкости. А может быть, это хорошо? Может быть, так и надо – хоть изредка сталкиваться между собой совсем разным людям, чтобы говорили друг другу бог весть что.
«Есть две вещи, которые нельзя путать, – сказал мне как-то Брудный, – спорт размышлений и труд мыслей. Чтобы главное, о чем думаешь, перешло в труд мыслей, нужен спорт размышлений».
Чем не спорт этот вечер? Пусть кидают друг другу мячи! Так редко случаются такие неожиданные и острые вечера в нашей замкнутой, идущей в своих привычных для каждого кругах жизни, что пусть они будут, пусть случаются!
Нет, к сожалению, все обойдется. Яростных споров не будет. Положение спасет, как всегда, тот же Брудный. Он деликатен и все понимает. Он смягчит и не допустит.
Но положение спасает не Брудный и даже не оркестр, оркестр гремит немилосердно – к нему мы в конце вечера приспособились и даже натренировались его перекрикивать. Борис Федорович вспоминает старый Московский университет, и полемический запал уходит куда-то в сторону. И я наблюдаю то, с чем сталкивалась уже не раз: молодое поколение психологов с каким-то особенным, почти болезненным интересом относится к недавнему прошлому своей науки.
У математиков, физиков – словом, у представителей преуспевших наук – совсем иная, хорошо отработанная система воспоминаний. Иная тональность их. Чаще всего это короткий рассказ-быль, построенный в форме анекдота. Рассказ типа:
«Однажды к Дау (Ландау) приходит ученик и спрашивает…», или: «Только циклотрон построили, приходит к сторожу приятель и говорит: «Вась, покатай на циклотроне». Разогнал он циклотрон и…»
У психологов веселого фольклора почти нет. Зато есть неистребимая тяга к разговорам о прошлом и есть страх, что, незаписанное, оно забудется. Непростое прошлое психологии воплощено для них не столько в нереализованных идеях (наука не стоит на месте, и идеи все равно уже реализованы), сколько в ушедших людях. Потому, должно быть, воспоминания почти всегда непрофессиональны, в них важны не идеи – люди. Человек, его поведение, быт, привычки: как читал лекции, с кем дружил, кого из учеников любил.
…Борис Федорович вспоминал первых советских психологов, чьи лекции он слушал, с кем начинал сотрудничать. А потом заговорил об исторической психологии, о реальных трудностях, ожидающих всякого, кто решится ею заниматься, о необходимости особого, синтетического образования, о том, что получить его можно только самостоятельно, ибо психологи, по инерции упоминая об историзме психики, предпочитают не заглядывать в историю, историкам же непривычны методы мышления психологов. И потому вся психологическая история человечества, за исключением нескольких отреставрированных кусочков, – огромная неподвижная стихия.
Только вернувшись в Москву, порывшись в каталогах, я прониклась оптимистической горечью Поршнева. В Ленинке – ничего, в Исторической – тоже ничего, в библиотеке Института психологии несколько небольших обзоров. Обзоры признавались: сложности исторической психологии не только в молодости самой проблемы, они тесно связаны с неразработанностью и беспомощностью современной психологии.
Тут, пожалуй, следует сделать маленькое и не очень занимательное отступление.
Для всякого конкретного исследования в любой науке прежде всего нужна гипотеза, система правил, связей, перспектив. Ими должен руководствоваться ученый. В исторической психологии при огромном числе противоречивых теорий, при необозримости подходов к человеку эти первоначальные принципы особенно важны. Собственно, иначе просто было бы неясно, с чего начинать.
Французские исторические психологи исходили из того, что психика, сознание, личность человека не неизменны на протяжении истории. Человек меняется, меняется его тип мышления, его восприятие, его сознание. Поэтому в своих работах француз Иньяс Мейер- сон выдвинул метод анализа низшего через высшее: «Различные формы умственной деятельности, сменяющие друг друга на протяжении тысячелетий, следует сравнивать с психикой современного человека». Неполное исследование через совершенное, едва наметившиеся психические функции – через вполне развитые.
Значит ли это, что современный уровень сознания – высшая точка развития и человечеству суждено навсегда остаться на нынешней ступени психического развития? Нет! Психика человека непрерывно развивается вместе с развитием общества, и развитие это бесконечно.
Но плодотворный для других наук принцип – «низшее через высшее» – применить в психологии сложней, чем где бы то ни было. Высшее – это сегодняшний человек, индивид, личность.
Что знает о нем наука? Набор пестрых обрывочных сведений, сотни теорий, тысячи экспериментов, произвольно толкуемых, – архитектура психической жизни человека известна мало, реконструированы лишь некоторые блоки, установлены отдельные связи, но самого здания психологии нет. Нет эталона.
Историческому психологу сравнивать прошлое не с чем.
И все-таки что же главное в человеке? Пусть мы не знаем подробностей (а если какие-то и знаем, то подробности эти рассыпаются, как стекляшки в сломанном детском калейдоскопе), но должна же быть рабочая гипотеза! Мейерсон в качестве главного выделяет труд и регулирующие его умственные структуры. «Труд – основная деятельность человеческого общества и в то же время его главная психологическая функция. Труд – стержень личности человека XX века, в труде он является более всего самим собой… человек только предчувствует, чем мог бы быть для него труд!» – оптимистически восклицает Мейерсон.
А раз так, то, очевидно, можно изучать психику человека по продуктам его труда. В исторической психологии фигура человека правомерно выступает как тот X, то неизвестное, свойства которого должны быть восстановлены по результатам его созидательной деятельности… В последовательности творений психолог должен найти ум, который их создал, выявить его уровень, аспекты, трансформацию и, таким образом, через историю творений воссоздать историю ума, историю психологических функций.
Итак, психологический анализ материальной и духовной культуры. Естественно, внимание психологов привлекают переходные моменты в истории человечества. Распад первобытно-общинного строя, выделение классов, рост городов, развитие ремесел – весь этот привычный перечень впервые в истории науки рассматривается под новым углом зрения: как усложнялся, перестраивался в процессе этих изменений человек.
Разрыв кровнородственных связей, объединение людей по чисто территориальному признаку привели к повышению роли эмоций в общении людей. Для того чтобы ладить с другими, «чужими» людьми, нужно было научиться осознавать как чувства этих людей, так и свои собственные. И вместе с тем появление полиса тоже, в свою очередь, результат больших изменений в мышлении человечества. Абстрактность мышления увеличивается: появляется произвольность в территориальном делении, провозглашается равноправие граждан независимо от профессии, происхождения и прочего. Наконец, появляются деньги и с ними вместе новое абстрактное понятие ценности.
 |
Все это отпечатки новых состояний человека.
Но о многих психических функциях судить только по сохранившимся «творениям» довольно трудно, часто же почти невозможно. Здесь нужны иные способы психологической реставрации, иные, еще не разработанные наукой методы исследования.
Особенности восприятия времени, движения, пространства… Как быть с ними?
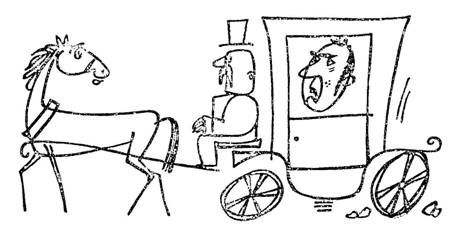 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |